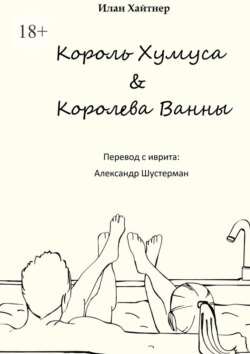Читать книгу Король хумуса, королева ванны - Илан Хайтнер - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 2
ОглавлениеЗа границей влюбляться особенно легко. Там всем заранее понятно: все это временно. А если временно, так почему бы и нет? Ты полностью отдаешься чувству, потому что это не навсегда. И никаких тебе забот и тревог. Просто даешь этому шанс: малейший порыв души, и ты, как в омут с головой, ныряешь вслед за ним. И нет никаких долгосрочных вариантов и обязательств, которые ломают тебе весь кайф, нету этих «а что, если она так», или наоборот «а если она совсем не так…". На фиг это все! Есть чувство? Поехали! Все это не по-настоящему и закончится, как только ты пересечешь линию паспортного контроля в аэропорту. Нечто похожее бывает иногда и до поездки за границу. Ты осознаешь, что улетаешь достаточно надолго, и как-то так получается, что ты тут же встречаешь какую-нибудь девицу и по уши втрескиваешься в нее. И тогда ты, типа, уже не знаешь, ехать тебе или нет, вся жизнь вдруг вверх тормашками, и ты, как полный дурень, не понимаешь, как так вышло, что «именно сейчас» эта чувиха на меня свалилась? Ведь если бы ты никуда не собирался, она была бы просто еще одной из тех кому «этого не хватает», или же «вообще этого нет», или же «вот бы еще немного этого»…
Фили работала секретаршей в Нью-Йоркском отделении одного израильского старт-ап проекта. Каждое утро она вставала в восемь утра, надевала ролики и рассекала от дома на Четырнадцатой Авеню до Уолл стрит. Я немного за нее переживал – как она доберется до работы. Ездить на роликах по Манхэттену, по любому, не самое безопасное занятие. Поэтому, когда она добиралась до работы, что занимало у нее минут двадцать, она звонила мне рассказать, что с ней все в порядке. Я заваливался в кровать и еще пару часов спал богатырским сном. Потом я просыпался, напяливал ролики и тоже ехал к ней на работу. По дороге останавливался прикупить какую-нибудь симпатичную штучку, типа здоровенный леденец на палочке, зонтик, или какую-нибудь другую забавную мелочь, которая должна была означать, что все это время она была со мной в моих мыслях. Я поднимался к ней в офис, преподносил свой «дар», и потом ждал до конца ее рабочего дня, чтобы пойти и провести время где-нибудь вместе…
Ждать надо было несколько часов, и не удивительно, что иногда мне становилось скучно сидеть просто так рядом с ней и держать ее за руку, пока она отвечала на звонки. Поэтому иногда я производил себя в ее секретари, и она отдавала мне распоряжения, которые мне необходимо было выполнять с величайшей аккуратностью. Например, как-то раз мне нужно было раскладывать письма по конвертам. Я и представить себе не мог, что есть кто-то, кто этим занимается. Ведь, казалось бы, что в этом необычного? Открываешь письмо, а там сложенный лист бумаги. И теперь этим кто-то был я. Лист надо было сложить точно втрое, потом сложить его по-другому, особым образом, засунуть в конверт и заклеить. И так конверт за конвертом. Было их тысячи две, и это было очень утомительно. Фили разрешала мне отдыхать после каждых пятидесяти конвертов, типа «прогнулись, сделали глубокий вдох, потянулись за кончиками пальцев», а после каждых ста – выйти перекурить внизу у подъезда. На каждый третий перекур, то бишь, после трехсот конвертов, она спускалась вниз, покурить вместе со мной, и было это для меня праздником и, одновременно, стимулом, заставлявшим работать быстрее и эффективнее. Подбираясь к двухсот пятидесятому конверту, я уже ощущал вкус поцелуя в лифте, который был виден сквозь пятьдесят оставшихся конвертов, там, по дороге вниз к нашей общей сигарете.
Эти поцелуи в лифте превращались в целое представление.
И Фили нравилось отжигать. Вот, человек двенадцать едут в лифте, типа все такие хмурые бизнесмены в галстуках, посреди не менее хмурого рабочего дня, как вдруг заходит эдакая парочка, цветастая, полная жизни и страсти, и прямо на глазах у всех выдает такой поцелуй взасос, с которым мало что сравнится.
Ух, как она их всех ненавидела в этот момент, пожалуй, даже больше чем я. Она не понимала, как человек может всю жизнь так одеваться, всю жизнь работать в этих домах, и в итоге принести свою жизнь в жертву деньгам.
Ей хотелось выбить их из привычной рутины, из их равновесия, напомнить, чего ради им стоит работать и жить. Я не испытывал к ним чувства симпатии, потому что мне они казались олицетворением всего идиотизма запада с его постоянной попыткой поймать свой собственный хвост, с его жизнью впустую, и с постоянно растущей и устрашающей денежной бездонной бочкой, которую нет шансов заполнить. Но ненависть девицы двадцати одного года – это такое чистое, искреннее, сильное и бескомпромиссное чувство, с которым мое чувство и не сравнится вовсе. Кстати, с любовью та же история. В ее возрасте чувства, если они настоящие, переполняют, клокочут и выплескиваются наружу, напоминая скорее извержение вулкана, чем просто проявление чувств. Ничего не фильтруется, логики нет, и никто не задумывается о последствиях. Все находится только здесь и сейчас, и все полно кипучей энергии. Если ненавидеть – так всерьез, любить – так на полную катушку. Нет середины. Середина появляется, когда ты становишься взрослее. Черное и белое теряют свои четкие границы, все размывается и становится оттенком серого. У каждой вещи обнаруживается оборотная сторона и абсолютная истина исчезает. Классно приготовленный, съеденный тобой антрекот, становится «неплохим антрекотом». А если он был откровенно испорчен, то это вдруг называется «бывало и лучше». Все где-то посередке. И никакого воодушевления. Или, например, кто-то из знакомых обидел тебя. Раньше ты бы возненавидел его всей душой и мечтал бы ему отмстить. Сегодня ты склонен предполагать, что, наверное, он «не имел этого в виду», ведь у каждого свое видение проблемы, и все конфликты есть просто недопонимание, возникшее в результате банальных проблем коммуникации. И даже слово «ненавидеть» уходит из лексикона и замещается чем-то вроде «не симпатизировать», или «не сходить с ума по чему-либо»…
А когда не остается больше «ненавижу», то и «люблю» уходит. Что уж тут говорить. И так же пропадают «я схожу с ума от нее», «в ней вся моя жизнь» и «я все готов сделать ради нее». В армии помню, бывало, меня отпускали в короткие увольнительные на один день, так после двух недель без сна я брал машину у отца, гнал ее три часа к ряду на Голаны, например, в киббуц Мером Голан, чтобы просто увидеться с девушкой, с которой познакомился в отпуске неделю назад. Сегодня у меня не хватило бы сил проехать пару кварталов, чтобы забрать ее к себе. И вообще, то, что когда-то так нравилось, со временем стало просто в тягость. Пойти куда-нибудь на вечеринку – это теперь неподъемное дело. Выйти на танцпол – так только потому, что тебе уже вынесли мозг «пойдем танцевать!» Пойти на море и поваляться на песке, на пляже – как можно?! Это же просто ужас. А если еще и нечего подстелить, то вместо того, чтобы откинуться назад на песок, ты будешь сидеть, скрючившись. А иначе все локти будут все в песке – поди, отряхивайся потом. А о том, чтобы зайти в воду и вовсе не может быть речи. Даже пойти перепихнуться стало как-то впадлу. Потому что жарко, да и «чего я там уже не видел». Да и на работу завтра, и вообще на фиг надо… Или вот еще – когда-то кола лилась рекой, и прочие напитки лились за ней вслед. А сегодня ты сидишь, опершись о столешницу, и наливаешь себе стаканчик минеральной водички, потому как по твоему расчету ты сегодня недостаточно пил. В общем, ни чихнуть, ни пернуть в свое удовольствие.
А то, что когда-то было ужасно в тягость, стало, вдруг, наоборот, в удовольствие. Например, учиться было в тягость, а теперь это, считай, привилегия. Читать было скучно, разговаривать уважительно и вежливо – утомительно, а поход в музей запоминался только отваливающимися от усталости ногами. Я помню, родители возвращались из-за границы, и мы, будучи детьми, спрашивали их, что им там понравилось, и как они провели время. И в ответ можно было услышать: «Ой, было так здорово! Мы были в таких шикарных ресторанах…» А мы не могли понять, что же в этом прикольного? Есть в ресторанах? И почему это, типа, так здорово?
Вот так, похоже, все бывшее когда-то в тягость превратилось в удовольствие, а удовольствие, соответственно, в тягость.
И все это так далеко от Фили. Ей еще не известно о существовании «середины». Налицо наивность, воодушевление, радость и жажда жизни. Упругая, гладкая кожа, и подобно ей все ее реакции, чувства и ощущения. Дотронься до нее – сразу прыгнет, посмотрит на что-нибудь – и тут же ей есть что сказать. Нет этого ужасного безразличия к тому, что в жизни творится, которое охватывает всех смертных в этом подлунном мире ближе к концу третьего десятка. Что-то в эти десять лет между двадцатью и тридцатью сбивает тебя с ног, побеждает и отнимает радость жизни. И это ужасно.
И что остается вместо отобранной радости жизни? Погоня за деньгами. Погоня, сопровождаемая уверенностью, что когда денег будет достаточно, радость жизни вернется. Именно это так бесило Фили. Этот дурной ход мысли. Именно это подталкивало ее, чуть ли не трахнуть меня в лифте, прямо на глазах у всех этих людей. Чтобы попытаться вывести их из равновесия – встряхнуть их.
Но лифт приезжал вниз, и люди, как горстка муравьев, вываливались наружу. Несколько отстраненных и возбужденных взглядов провожали Фили, и в этих взглядах единственное, что можно было прочесть, это желание пойти и заплатить пятьсот баксов какой-нибудь девице по вызову.
А мы усаживались на бетонную оградку клумбы, закуривали, и ощущение волшебного тепла охватывало всего меня. Вот я, в самом лучшем месте, которое только можно себе представить, и нет в мире другого такого места, где я хотел бы сейчас оказаться больше, чем здесь. Мы сидели и наблюдали за входящими и выходящими из здания людьми. Они были похожи на муравьев, снующих туда-сюда, и торопящихся куда-то далеко, или назад к себе в муравейник. Все вокруг было полно шумов, суеты, бурления, сигналов машин, шума моторов, гула пролетающих самолетов, обрывков разговоров, и среди всего этого были мы, отрезанные от всего на свете, на своем необитаемом острове любви и спокойствия, прямо посреди Манхэттена.
После мы возвращались в офис и продолжали работать, пока звук колокольчика не возвещал о конце рабочего дня, и о том, что мы вольны идти. Мы выбегали на улицу, вставали на ролики и рассекали по улицам города. Ехали кататься в центральный парк, шли в галереи, на представления или в кино, встречая по дороге самых разнообразных и прикольных людей.
Но как всему на свете и этой идиллии наступает конец.
Со следующей недели я начинаю учиться. Кинематографу.
Что общего между мной и кинематографом? Хороший вопрос. Я учился на экономиста, но было достаточно двух месяцев после окончания учебы, чтобы понять, что экономика – это не мое. Я думал, что мне это нравится, наверное, потому, что моему отцу и всем моим приятелям это нравится, и все они любят экономику, и в результате этой своей любви к экономике смогли отгрохать себе виллу-другую в районе Савийона.
Как вообще можно понять: то, что нравится тебе – это потому, что это нравится-таки тебе, или твоим родителям? Как вообще понять, кто есть «я», а кто есть «я плюс мое воспитание»? Как можно отделить одно от другого? Ведь изначально я появился на свет с какими-то генами, или набором ДНК, или как там еще это называется, а потом меня как-то воспитывали мои родители, и я видел вокруг себя какой-то мир с малых лет, и впитывал его. И как можно определить, где тут в итоге только «я», которое было вначале, а где «я плюс воспитание»? Ведь если так посмотреть, то все это есть я. Так кто же я есть на самом деле? И чего я на самом деле хочу?
Ну и вопросы. Просто идиотизм какой-то. Что вообще происходит? Сходим с ума помаленьку? Что значит «кто я»? Иди, работай, лодырь. У тебя слишком много свободного времени. Люди, у которых крыша едет, задают себе подобные вопросы. А я как раз ношусь с этими вопросами. Неужели у меня едет крыша?
По окончанию учебы я начал искать работу. Ходил на кучу тупых собеседований, и все места работы казались мне мрачными и скучными. Если не сказать просто идиотскими. Через пару лет, в течение которых я нашел одну работу, потом ушел с нее, нашел другую, откуда меня попросили, потом прошел еще с десяток дебильных интервью и собеседований, где так же были проверки и тесты, вроде тех, когда из «лего» надо было построить какую-нибудь ерунду, я пришел к выводу, что мне необходимо отойти и осмотреться. Мне необходимо что-то новое, совершенно отличное от того, чем я занимался. Я пришел к выводу, что я все еще не знаю, что конкретно мне по душе, зато точно понял, что быть экономистом – это не для меня.
Хотелось отойти от всего. Уехать куда-нибудь в Коста Рику, а оттуда махнуть в Южную Америку. Побыть немного наедине с самим собой. В тишине. Может быть, тогда мне станут ясны ответы на вопросы, ответить на которые сейчас, в состоянии постоянного напряга, я просто не могу. Одно мешало – я не чувствовал, что мне это позволено. Мне, чтобы получить удовольствие, надо сначала какое-то время страдать и преодолевать трудности. И вот мне казалось, что я недостаточно претерпел, не сделал еще достаточно и недостаточно выстрадал. А кроме того, даже последние неудачники с нашего потока в универе уже успели подыскать себе неплохие работенки и начали продвигаться вверх по карьерной лестнице. А я не мог позволить себе оттягиваться где-нибудь на пляже в Таиланде, пока мои приятели тут проворачивают миллионные сделки. Тогда я решил, что поеду в Нью-Йорк, типа что-нибудь учить. Так у меня появится определенный жизненный опыт, я увижу что-то новое, и «не потрачу время впустую». А из Нью-Йорка до Коста-Рики ведь рукой подать. Так совместим же приятное с полезным! Нечто конструктивное с мечтой. Осталось только выбрать, что пойти учить. Я хотел отойти от экономики как можно дальше. Туда, где нет формул, и где, сидя на лекции, можно просто слушать и получать от этого удовольствие. Надо было что-то выбрать. Что-то, что было бы по душе.
Я снова уткнулся в проблему того, что мне нравится… Нас ведь воспитывали очень практично, с установкой на то, что мне нравится делать то, на чем в итоге можно хорошо заработать. А чтобы зарабатывать на жизнь необходимо много и тяжело работать… и как тут выбирать? Сначала я подумал про журналистику. Ездить по миру, снимать революции и перевороты, вскрывать дела о коррупции, и спасать человеческие жизни с помощью одной лишь статьи. Потом мне пришла в голову мысль заняться фотографией – спасать мир силой одного лишь кадра. Потрясать и раскрывать правду. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Или фотографировать леопардов в Африке. А че, тоже круто! Или, может идти учить психологию? Это и прикольно, и может быть я разберусь, раз и навсегда, почему симпатичные чувихи смотрят только вперед, или почему девица, с которой ты уже лежишь в постели, снимет с себя почти все сама, но трусики оставит снимать тебе… А что, если пойти учить антропологию? Поехать куда-нибудь, в какие-нибудь гребеня, в забытое богом племя на пару-тройку месяцев… Или может быть учить историю? Говорят, что история всегда повторяется, а из школьного курса я с трудом помню, когда были погромы и смута в тысяча девятьсот лохматом году… так почему бы и нет? Или вовсе начать свое дело. Наверное, это лучше всего. Быть самому себе боссом и начальником. Никто не тычет тебе, что и когда делать. Мне это однозначно подходит. Только вот в какой области?
У меня есть закадычный друг, с которым мы уже много лет пытаемся найти идею для собственного бизнеса. В мыслях мы, уже, что только не начинали. Например, мы хотели организовать сеть химчисток, и тогда логотип нашей фирмы «Макс энд Мориц» был бы нарисован на боках всех наших грузовиков. Или еще мы хотели создать фирму по изображению огромных картин на стенах домов. В этом были бы заинтересованы крупные фирмы, как часть проекта по украшению города, когда логотип самих фирм красовался бы внизу сбоку такой картины. А еще мы были первыми, кто придумал маленькую упаковку для салата из баклажанов, для шоколадных йогуртов и для маленьких пачечек мороженого, так чтобы все это было вкуснее. Мы были директорами хай-тековской фирмы, которая организовала сайт в Интернете для бартерных сделок. Или эксклюзивными дистрибьюторами зарубежных фирм в Израиле, тех самых, продукты которых так нам нравились, когда мы были за границей, и еще миллион всяких идей…
И каждый раз мы натыкались на одну и ту же проблему. Когда появляется идея, то она кажется самой лучшей идеей во всей вселенной, но как только дело доходит до реализации и до вложения денег, все вдруг перестает выглядеть так уж безоблачно. Всплывают на поверхность опасности, риск и возможные неурядицы, и вместо положительных и оптимистичных сторон, видны только негативные и пессимистические. Фенигштейн говорит, что пессимист – это тот, кто видит затруднения в любой возможности, а оптимист – возможность в любом затруднении. Я думаю, что это сказал Черчилль, но Фенигштейн всегда присваивает себе такие фразочки, как будто это он их выдумал. Как бы то ни было, в моменты истины всегда есть тенденция быть пессимистом. Вдруг выясняется, что ты забыл учесть НДС, и ситуация на рынке в стране тоже очень нестабильная, и как раз кто-то начал похожее дело, и вообще, с чего бы людям идти и покупать в таких количествах, и при этом именно у тебя? И еще вопрос, который витает вокруг тебя, как назойливая муха: «Если это такая замечательная идея, то почему это еще никто не придумал?»
Но мы отвлеклись. В конце концов, я остановился на кинематографе.
Представьте себе, как это будет: строить другой, новый мир в своем воображении, работать с крутыми чувихами и прикольными чуваками, такими, с длинными волосами, ездить по разным прикольным местам на съемки, и в результате видеть на большом экране в окружении огромной аудитории то, что еще только вчера жило только в твоей голове. Здорово, а? Другой, новый мир! Наш мир давно полон такого количества всякого дерьма, так почему бы мне не построить другой, свой? А потом еще один. И еще. Короче – делать фильмы – это звучит здорово.
Сижу дома, в Тель-Авиве, смотрю церемонию вручения Оскаров. Я уверен, что я нашел свое предназначение. Мне ведь всегда нравилось сочинять, создавать из ничего образы. Да и длинноногие, симпатичные чувихи мне тоже очень нравятся. Поэтому, я считаю, что если где и пожинать плоды, так стопудов на такой церемонии как Оскар, а не на каком-нибудь симпозиуме в Дэйвид Интерконтинентал, в окружении старых пердунов в серых костюмах, с их весьма несвежими женами. Да! Это круто! Наконец-то я нашел свое предназначение в жизни! Какой кайф!
Я начал выяснять подробности того, как и где в Нью-Йорке учиться, и после нескольких попыток выудить что-нибудь из Интернета я понял, что мне нужно как-то пересечься с израильтянами, которые там учатся, на месте. Потому как иначе нет шансов разобраться. Это похоже на то, как, например, уехал ты путешествовать, и, например, тусишь где-нибудь по Дальнему Востоку, и приезжаешь в какую-нибудь Б-гом забытую деревню, в еще более забытой Б-гом местности. Выходишь из автобуса, натыкаешься на какого-нибудь туриста, скажем немца, американца или швейцарца. И ты можешь битый час допрашивать их, с пристрастием, где лучше всего расположиться, чем заняться, как обустроиться, и вообще, кто тут против кого. И нет шансов, что ты поймешь что-то путное из того, что они скажут, даже если потратишь на расспросы три часа к ряду. Но, вдруг, случайно, ты подмечаешь израильтянина, как раз проходящего мимо, и за три секунды разговора с ним ты понимаешь, где спать, что есть, где дешевле, где тут самое классное место, где можно ухватить чего-нибудь задарма, и вообще, кто тут есть кто. И все это за три секунды. И не важно, какой попадется израильтянин: ботан, мажор, симпатичная чувиха, торчок, крутой мужик, рубаха парень или задрот. Три секунды достаточно…
В общем, я понял, что мне необходим тамошний местный израильтянин, который рассказал бы мне по существу и вкратце общую картину существующих программ обучения, которая из них лучше, что побыстрее, как записаться на учебу и к кому по этому поводу подкатить. В конце концов, одну такую девицу, которая училась как раз где надо, я отыскал, и она рассказала мне все, что было необходимо для счастья. Где регистрироваться, на какие предметы ходить, почему там, где она лучше, какой вообще народ там учится, тяжело ли с языком и прочее…
Я записался на учебу прямо из дома. Это была годовая программа обучения киноискусству. И когда совсем уже, было, забыл о том, что я записался на нее, я получил ответ о том, что я принят. Я не верил, что меня примут, ведь у меня нет никакого опыта в области кинематографа. Но, наверное, так же как мистера Пэнка приняли в Уортон, благодаря его ассоциации, так, наверное, и меня приняли, например, за то, что у меня есть первая степень по экономике.
В тот момент, когда ты осознаешь, что ты уезжаешь надолго, например, на несколько месяцев, жизнь твоя становится слаще меда. И все вокруг вдруг становится как в последний раз и приобретает сказочный оттенок. Ты начинаешь жить в эдаком возбуждении, и каждый выход на улицу удивляет тебя обилием приятных эмоций. Все, кто тебе встречаются просто чудесные люди, на улицах ощущение всеобщего братства, самые симпатичные чувихи оглядываются тебе вслед и мило улыбаются, и все вообще зашибись. Настолько, что за несколько дней до отъезда ты вообще не понимаешь на фига куда-то ехать, когда тут все так хорошо. И вообще, было бы чего искать за бугром?..
А потом начинается самый неприятный момент – это момент многочисленных расставаний перед длительной поездкой. И особенно нехорошо становится, когда прощаешься с людьми, с которыми, скорее всего, видишься в последний раз. Например, твои бабушка с дедушкой.
По дороге в больницу я не пытался сдержать слезы, когда представлял себе предстоящий разговор с бабушкой Леей. Я ее очень любил, а теперь вот увижу в последний раз. Буду смотреть как она говорит, смотрит, слышит, двигается, дышит… В последний раз. Не могу осознать, что скоро я выйду из больницы и не увижу ее больше никогда. Я вырос у нее на руках. Под ее сказки, рассказы и шутки я рос, с того самого момента, когда вышел на свет божий. Она мне как мама. И теперь, типа, просто так прийти, сказать ей «пока бабуля» и оставить ее тут умирать на больничной койке, пока я там попиваю кофеек в Старбаксе, в обнимку с какой-нибудь не совсем трезвой чувихой, которой кажется, что если она разведет ножки для какого-нибудь недоделанного полу-режиссера, то дорога в Голливуд ей обеспечена?
И что конкретно говорят при подобного рода расставаниях? «Увидимся»? «До свидания»? «Будем на связи»? Или «Береги себя»? Что говорить любимому тобой человеку, расставаясь, когда оба вы понимаете, что следующей встречи не будет?
Я мечтал приехать к ней как-нибудь и привести жену. Бабушка всегда говорила, что мужчина сам по себе – всего лишь треть, после свадьбы – две трети, и только когда у него родятся дети – тогда он целое. Я хотел быть хотя бы половиной – если не жену, то, самое меньшее, привести свою девушку, чтобы обнадежить бабушку, что это вот-вот произойдет.
Всегда, когда я рассказывал про своих подружек, с которыми у меня были отношения, бабушка спрашивала:
– Она хорошенькая?
– Да, – отвечал я.
– А она из хорошей семьи?
– Да, – отвечал я, если это было так на самом деле.
– Ну, так женись!
Под всеобщий хохот я отвечал ей, что я как та котлета, которую если жарить на большом огне, то можно сжечь снаружи, оставив сырой внутри. И такими сырыми женятся или выходят замуж все вокруг. Мне же нужно больше времени, чтобы хорошенечко дойти до кондиции, и когда это произойдет, из меня выйдет форменный деликатес. Она смеялась мне в ответ. Всегда, когда я отвечал ей иносказательно, она позволяла мне уходить от прямого ответа. Мама приглашала ее и деда к шаббатнему обеду, и обычно бабушка не хотела идти. Тогда трубку брал я и спрашивал:
– Ну что, вы у нас на шаббат?
Она отвечала мне:
– Я неважно себя чувствую.
– Хорошо, тогда я приеду, заберу вас часикам к двенадцати.
Она посмеивалась в ответ:
– Да нет. Оставь. Незачем так напрягаться ради нас.
Это-то и было причиной того, что она отказывалась прийти, потому что хотела, чтобы напрягался я не ради нее. Я отвечал ей:
– О чем ты говоришь, для меня это удовольствие. И ты, наверное, знаешь какой это почет для меня, возить мою бабулю Лею на моей машине.
Она снова смеялась мне в ответ, и мы договаривались на двенадцать часов, и всегда без пяти они уже ждали меня внизу, мои дорогие бабушка Лея и деда Мордехай, одетые с иголочки, нарядные и аккуратно расчесанные, как будто собирались, самое меньшее, на бал. И я, зная, что они выходят раньше, тоже подъезжал пораньше на пять минут и любовался на них, стоящих там под ручку. Они садились в машину радостные, и бабуля извинялась, что она так долго усаживается, а дед заскакивал, как молодой олень на заднее сиденье, весь сияя от счастья, что их позвали на ужин. Бабушка, наконец, усаживалась, пристегивалась, чмокала меня в щеку, говорила «Шаббат шалом, мой Мируш», после чего вскакивал дед с заднего сиденья и горячо лобзал меня сквозь свой собственный «Шаббат шалом», и мы ехали в дом родителей. И всю дорогу дед бухтел о том, куда катится страна, что нет больше ценностей, и что Йоси Сарид, такой—сякой, и вообще, и как еврей может любить арабов больше самих арабов, и изображал его, как тот гуляет по арабским территориям, и вдруг натыкается на еврейский форпост, и тут же бежит стучать кому надо, прямо в Вашингтон. Бабушка успокаивала его, потому как дед не на шутку выходил из себя, и мимоходом отпускала шутку-прибаутку о том, о чем только что разорялся дед, только в более элегантной и живописной форме.
– Я тебе уже рассказывала про железную дорогу? – этот вопрос она задавала всякий раз, и не важно, что мы отвечали да или нет, она продолжала рассказывать о том, как она, будучи еще молодой девушкой, в Польше, должна была ехать в поезде одна. К ней подсели четверо здоровенных бугаев поляков, которые однозначно стали бы приставать к бедной, еврейской девушке, которая едет одна, сама по себе, если бы она не смешила их всю дорогу своими шутками-прибаутками да побасенками, да так, что они просто поголовно влюбились в нее, и на прощанье подарили ей цветок. Самое меньшее сто тысяч раз слышали мы от бабушки эту историю.
А теперь вот я еду с ней прощаться. Последнее прости этой умной, прекрасной женщине, которая сидит в голубой пижаме на больничной койке, и не перестает говорить про протекающий кран в туалете, и о щели в стене, рядом с ее койкой, откуда, того и гляди, поналезут тараканы. И дед сидит там, рядом с ней, и потихоньку сходит с ума от того, что его жена слегка потеряла рассудок, потому как каждые две секунды она обращается к нему и спрашивает:
– Мордехай, мы уже идем домой? – а он, вместо того, чтобы не обращать внимание, отвечает ей:
– Лея, мы в больнице, потому что ты помутилась рассудком, и никуда мы не идем.
А она через минуту снова:
– Мордехай, мы уже идем домой?
И он снова ей:
– Лея, я уже говорил тебе, что мы не идем домой, ты в больнице, потому как ты помутилась рассудком, и ты должна оставаться здесь.
И так раз за разом…
Бабушка сидит на краешке кровати, спина прямая, глаза ясные, еще не потерявшие своего умного, цепкого выражения, и всматривается в щель на стене:
– Мируш, ты погляди, ты видишь эти стены? Вот где начинается халатность. Вот так и производятся случайные выстрелы в армии.
Единственное преимущество такого бабушкиного состояния было в том, что мне так было легче проститься с ней, потому что она не осознавала, что я уезжаю надолго. Расставание оставалось тяжелым теперь только для меня. Я посидел полчаса, пытаясь говорить с ней на какие-нибудь обычные темы, но в ответ продолжал слышать про безалаберность и безответственность, тех, что не заделывает щели в стене. Было ясно, что бабушка не воспринимала трезво реальность. И я решил, что пришло время прощаться, поднялся и сказал ей: «Ба, я поехал». Я не знал говорить ей о поездке или нет, потому что как бы это ни было тяжело, я все же хотел, чтобы она поняла, что следующей встречи не будет.
Но она продолжала уже про клопов, и я решил не упоминать о поездке. По любому, нет в этом никакого толку. Да и язык мой не поворачивался. Я пытался запомнить ее, как она выглядит, но не мог посмотреть ей в глаза. Я наклонился к ней поцеловать ее, как вдруг она спросила:
– Когда ты уезжаешь, Мируш?
Я думал, что я провалюсь сквозь землю… Она запомнила это! Но как?
Я проглотил накативший комок в горле и сказал ей:
– Завтра.
Она сказала:
– Пусть добрые ангелы хранят тебя, – и я почувствовал, что теряю контроль над собой. Я не мог посмотреть на нее, не мог ничего сказать. Я просто поцеловал ее и вышел из комнаты, потупив взор. Я кое-как сдерживал себя до того, как вышел в коридор, и там уже дал волю слезам.
Дед подошел ко мне через пару минут. Мне надо было его подбросить до дому и попрощаться с ним тоже. Мой дед был как ломовая лошадь, сильным, с ясным рассудком, и мы оба понимали, что это не последнее наше расставание.
В полном молчании мы ехали домой в Рамат-Ган. Я остановился около их дома, и как часто это бывало, когда я подвозил какую-нибудь из своих подружек домой, я не знал глушить мотор или попрощаться быстро. Как можно понять, чего ожидает вторая сторона? Я не заглушил мотор. Мой дед, никогда не выказывал никаких признаков чувств, и я предполагал, что попрощаемся мы быстро, типа «Береги себя» и все. Но он продолжал сидеть в машине, молча, не думая выходить. Я думал, было, заглушить, но не стал, потому что подумал, что он вот-вот начнет выходить. И вдруг он заплакал. И не просто так заплакал, а аж завыл. Я был в шоке. Я пытался глубоко дышать, поберечь силы и поддержать его как-то, и не дать ему утянуть и меня, но у меня не получилось. Представьте себе мужик, восьмидесяти пяти лет, силен как буйвол, мужик, который стоял у истоков создания государства, строил своими руками эту страну, и никогда за ним не замечали каких-нибудь сантиментов, и вдруг плачет навзрыд, как ребенок. Это было чересчур. Я тоже заплакал. И так несколько минут мы просто сидели в машине и рыдали, дед и внук, плакали как дети. Как будто никого в мире больше нет, и завтра никогда не наступит. Плакали навзрыд.
И нам обоим было ясно, что плачем мы не из-за того, что мы с ним расстаемся, а из-за нашего расставания с бабушкой. Оплакивали его первое «прости», сквозь мое последнее.
Часто, когда я оказываюсь в затруднительном положении, из которого сложно найти выход, я представляю себе, что все это фильм, а я валяюсь у себя дома на диване и смотрю все это по телеку. Это дает мне возможность воспринять происходящее со стороны, оценить трезво то, что происходит, и снимает стресс.
Так, например, когда мне было пятнадцать лет и от меня залетела дочь самых близких друзей моих родителей, был созван совет, на котором присутствовали все высшие эшелоны власти, то бишь мои родители, ее родители, я и она, у них в доме на кухне, и родители начали выговаривать нам о том, что это безответственно, то, что мы натворили, и что в таком возрасте мы не понимаем на сколько серьезно все то, что происходит, и если уже заниматься «этим», то необходимо предохраняться. И мама ее почти плачет, мой папаня мне выговаривает, моя мама налетает на меня, а ее папаша покачивает головой все время, и представляет, наверное, себе, как мой член торчит между ног его дочки. И что мне делать в такой ситуации? Как пережить такой ужасающий позор?
Надо доставать камеру. Я расположил ее сверху на кухне, так чтобы все попали в кадр, нажал на запись, и увидел всю сцену извне, со стороны, как будто фильм на видео. И вдруг из полного кошмара все превратилось в комедию. Я чуть не прыснул со смеху, потому как все происходящее стало казаться мне американским ситкомом, а актерская игра родителей смешила до колик в животе. Моя мама такая: «Это просто катастрофа! Я тебе говорю…» Ее мама: «Моя дочка, моя дочка, моя дочка, и что? Аборт в пятнадцать лет? Первый мужчина, с которым я переспала в жизни, был твой отец! И ты знаешь, сколько мне было лет? Двадцать два!» Мой папаша: «Это безответственность! Просто кошмарная безответственность!» А ее папаша понравился мне больше всего. У него была роль без слов, но выражения лица у него были, как будто он вот-вот взорвется.
Кстати, это не относится к данной истории, но когда мы оттуда ушли, и я с папаней подходили к машине, то еще до того, как подошла мама, он вперился в меня взглядом полным восхищения и сказал: «Ну, ты дал! Круто, сына!» и добавил почти не слышно, так себе под нос: «в пятнадцать лет, и с такой красивой девицей… молодец!»
Так вот и в этот раз, с дедом, я попытался достать камеру. Установил ее перед лобовым стеклом, нажал на запись. Только сейчас это сработало с точностью до наоборот. Я увидел деда, взрослого мужчину, который разрывается на куски от плача, и молодого парня рядом с ним, наверное, его внука. Он тоже плачет. Каждый плачет о своем. Выглядело, как будто они плачут об умершем. Это так же напоминало, что и деду осталось немного, что и он уйдет скоро. Стало жутко. Я выключил камеру.
Дед немного успокоился, потом наклонился в мою сторону, быстро поцеловал меня своим мокрым ртом, начал было говорить: «Мируш…", но не смог продолжить. Он вышел из машины, захлопнул дверь, и пошел по дорожке к дому. Согнувшийся, потухший, разбитый. Я проводил его взглядом, пока он не скрылся в темноте подъезда.
Через две недели его не стало.