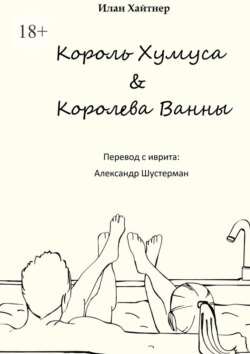Читать книгу Король хумуса, королева ванны - Илан Хайтнер - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 3
ОглавлениеВ общем, приехал я в Нью-Йорк, и не понял, о чем же весь сыр-бор?
Любой израильтянин, вернувшийся из Нью-Йорка, не перестает трахать вам мозг: «О, Нью-Йорк, Нью-Йорк, какой город, просто мечта! Как там было здорово!» Я был уверен, что все они врут. Не может быть, чтобы этот город нравился всем и каждому из тех, кто был там и попадался мне на глаза. Ведь всем известно, что Нью-Йорк холодный, бесчувственный и безжизненный город, в котором нет правды. Город полный отчуждения и стали.
И еще, всем ведь известно, что израильтяне склонны привирать на счет заграницы. То бишь, склонность привирать есть у израильтян по любому поводу, но по поводу заграницы, тут поди проверь, врут они или нет – далеко ведь. Тут-то и начинается сказка за сказкой. От любого израильтянина, который когда-либо выбирался на Кипр, скажем в Айю-Напу, можно услышать, как несколько ночей подряд он кувыркался в постели с двумя симпатичными шведками. А в день, когда надо было возвращаться, уже перед самым отлетом, на него свалилась одна француженка, которая и успела-то всего, что просто отсосать ему наскоро, потому как это было уже в лифте, с чемоданами, по дороге в аэропорт. И если бы ему не надо было в тот день возвращаться, то он о-го-го что устроил бы той француженке! Он пропахал бы ее вдоль и поперек, протаранил бы ее во все дыры. Ее, и еще подружку ее, которая все время строила ему глазки.
Я тоже решил съездить в Айю-Напу. Взял с собой четыре пачки по двенадцать презервативов в каждой, и все мне казалось, что не хватит. Меня успокоили, сказали, что в случае чего на месте можно раздобыть еще.
Ни я, ни кто-либо другой, из тех, кто был со мной, не видели никого, и не дотрагивались ни до чего, кроме, разве что, собственного члена. Вообще голяк. Когда я вернулся и спросил: «И о чем стоял такой переполох? Блядями там и не пахло!» то все вдруг стали соглашаться, что, да, на самом деле, и им тоже рассказывали всякие небылицы, а на деле – ни фига. Так что, не стоит верить сказкам о загранице.
То же самое и с Нью-Йорком. Чего им всем здесь так нравится? Бродишь по улице, холод собачий, никому нет до тебя дела. Хорошее средство понижения самооценки для тех, кто приехал из Израиля, или какой-нибудь латинской Америки, или любой другой страны, с ментальностью, в которой неотделимо присутствуют язык жестов, язык тела, и выражение глаз. Просто побродить по улицам Нью-Йорка полчаса в день, и вся ваша самооценка растворяется без остатка. Ты там просто ноль без палочки. И, только по прошествии нескольких месяцев, начинаешь понимать, что даже если ты супермодель, на тебя все равно никто не посмотрит. Если ты пойдешь по улице голым, на карачках, с павлиньими перьями, торчащими у тебя из жопы, и каждые два метра будешь ронять перо, даже тогда все равно никто не посмотрит на тебя. Это Нью-Йорк, детка. Этим он и необычен. Каждый там живет для себя, и каждый там за себя.
Эдакий храм индивидуальности, храм самовыражения и воплощения себя самого. Даже пар нет в этом городе. Миллионы людей идут по улицам, и среди них если и встретишь парочку, то это туристы. Каждый сам по себе, на улице, в кафе, живет сам по себе, и сам себе ходит в ресторан, и сам где-нибудь развлекается. В жизни не поверил бы, что такое возможно, что кто-то идет в ресторан сам по себе. Это ведь уму не постижимо! Ведь поход в ресторан – это событие, это подразумевает как минимум двоих. Да ведь будет просто курам на смех, если кто-нибудь пройдет мимо и заметит тебя в ресторане одного, как будто ты какой-нибудь изгой, в депрессии или переругался со всеми.
А вот в Нью-Йорке это возможно. Возможно все. Даже если тебя и увидят несколько израильтян, одного, в шикарном ресторане – это тут обычное дело, и вписывается в порядок вещей. И наоборот, если вдруг тебя увидят в кафе в Тель-Авиве, сидящим в одиночку больше двух минут, вот это будет стремно. Ты, типа, чего? У тебя что, и друзей-то поди нет? Ты чего как рак отшельник? Давай, кончай со своей депрессухой, мужик!
Наверное, именно поэтому израильтянам так нравится Нью-Йорк. Наконец-то, в первый раз в жизни ты можешь делать все что угодно. Вырваться из своего маленького кибуца, в котором каждый подсчитывает за другим: кто сколько съел, и кто сколько зарабатывает. Вырваться из мирка, где ты подвергаешься суровой оценке каждую секунду: как ты одет, как ты себя ведешь, холостой ты или женат, какая у тебя машина, и хорошо ли ты вытер задницу, когда выходил из туалета. Каждый там торчит носом в заду у другого. Проверяет, осуждает и призывает вести себя в соответствии с его нормами. И не дай бог шаг вправо или шаг влево, это ведь так бесит, просто жутко бесит, если кто-то не такой как все. А вдруг ему лучше, чем остальным? Да не дай Б-г!
А если ты не такой как все тебя пытаются ровнять: «Веди себя по-людски! Будь как все! Мы знаем, что тебе нужно сейчас, и что для тебя будет лучше потом!» А если ты уверен в себе и не стараешься быть как все, тогда ты, наверное, сумасшедший, психованный, и вообще, скатившийся с катушек. Что с тебя взять?
А вот в Нью-Йорке не существует психопатов. Как ты можешь быть психопатом, если ты занят тем, что тебе хочется? Не существует осуждения ближнего своего, потому как «ближний свой» не существует в этом городе по определению. И как тут выглядеть уродливо, если все равно никто не смотрит, а для тебя самого ты разодет в пух и прах? Нет кого-либо, о ком можно сказать, что он психопат, или ненормальный, равно как не существует кого-либо, о ком можно с уверенностью сказать, что он тут самый нормальный и прикольный. Каждый есть тот, кто он есть, и всем насрать кто он такой.
А еще, помимо всего прочего, Нью-Йорк – это город принадлежащий всем. Какой-нибудь пакистанец, приземлившийся вчера, израильтянин, живущий там уже два года, китаец, который тусуется по Нью-Йорку и топчет мироздание уже целых две недели, или же коренной американец, который там родился – у всех у них одинаковые права на этот город. Как минимум такое ощущение там царит.
Ты не чужой там. Потому, что никто не смотрит на тебя как на чужого. И это из-за того, что там все в равной степени чужие. Ты даже не можешь претендовать быть чужаком, потому как все равно никто не оценивает. Ты просто воздух. Ничто. И ты можешь снять все свои маски и прикиды, потому как всем все равно. Никого не интересует здесь ты или нет, крутой ты или отстой, выглядишь стильно или вообще никак не выглядишь.
Это напоминает мне вонь в моей квартире в Нью-Йорке, ближе к концу моего там пребывания, которая усиливалась изо дня в день. Сначала я думал, что это с улицы, потом мне казалось, что это какой-нибудь упавший за холодильник баклажан, который тихонько лежит там и гниет. Потом я перестал уже даже пытаться догадываться, так все вокруг воняло. Через пару месяцев выяснилось, что это мой сосед окочурился в своей квартире. Он отбросил копыта, и три месяца никто даже не интересовался что с ним. Если бы он не начал так смердеть, он мог бы там остаться на веки вечные.
Самое ужасное, пожалуй, ощущение одиночества возникло у меня, когда я занозил руку. Заноза засела под пальцами, в том месте, где я не мог дотянуться до нее, так чтобы попытаться подцепить ее с двух сторон. Я пытался извернуться и так, и эдак, но не мог изловчиться и подобраться к ней, чтобы вытащить ее, наконец. Мне никак не удавалось от нее избавиться. И рядом не было кого-нибудь из знакомых, чтобы попросить о помощи. Дни и ночи напролет я ходил с этой занозой, а она уж позаботилась о том, чтобы я, не дай бог, не забыл о своем одиночестве. Мне хотелось остановить любого встречного, не важно кого, только чтобы тот помог мне ее вытащить. Однажды, вдруг, она расплакалась мне в жилетку, и, вытирая сопли, рассказала о том, как одиноко ей бывает временами. Я озвучивал ее в нашем с ней разговоре, и таким образом узнал, что когда-то она была кусочком большой ветки, узнал про ее семью, ее друзей, про веселые вечеринки, которые они устраивали… в общем, обо всем. Я тоже рассказал ей, что и у меня была семья и куча друзей, и что с ними тоже было весело, и я тоже, бывает, чувствую себя одиноким, на столько, что даже не могу вот от нее избавиться. И мы плакались друг дружке о нашей горькой судьбе, так, что, в конце концов, даже подружились. Я и заноза…
Чего, спрашивается, мне не сиделось в Израиле? Зачем надо было сюда ехать? Только из-за того, что все мои друзья зависали тут какое-то время? Из-за того, что это и есть накатанная дорожка, так типа принято: после армии за границу, потом учиться в универе, по окончанию учебы жениться, или купить дом с ипотекой и всеми пирогами? Является ли эта моя поездка в Нью-Йорк, эдакий мой своеобразный внутренний бунт, частью обычного плана, так характерного для израильтян? Плана, который каждый из нас должен пройти? И вписывается ли в рамки нормального моя попытка от всего этого нормального убежать?
А тут, в Нью-Йорке, все строго, и даже поссать где-нибудь за углом дома нельзя. Моего друга задержали на сутки, потому что он имел неосторожность отливать на какой-то замшелой парковке. Тут вообще много чего нельзя. Например, нельзя попросить у официантки, чтобы она была более благосклонной, и принесла бы чипсов побольше, потому как жрать охота, аж мочи нет. Нельзя распивать пиво на улице. Не стоит смешить или смеяться над американцами, потому что у них абсолютно отмороженное и дебильное чувство юмора. И пригласить девицу по вызову меньше чем за четыреста баксов в час – тоже не получится. Нельзя ходить по улицам с косяком в зубах. Нельзя вот так просто подкатить к какой-нибудь чувихе, нахрапом, типа «ну, сестренка, чего расскажешь?» Нельзя остановить всю эту бешеную гонку. Черт его знает, куда все они бегут. Невозможно взять машину напрокат, и через полтора часа наблюдать закат в пустыне. Тут нет кукурузных палочек, и никак не получится просто так, завалиться в какую-нибудь забегаловку на берегу океана с друзьями, и съесть там по тарелочке хумуса.
Зато можно, и, притом, в больших количествах, стоять в очередях. Можно придержать дверь для того, кто идет за тобой. Можно пригласить агента по продажам чего-нибудь, на дом, чтобы принес тебе то, что тебя интересует. Можно глазеть на звезд шоу бизнеса, проходящих мимо прямо по улице. Можно жрать все, что заблагорассудится. Можно вырядиться попугаем, типа футболка, стильные брюки от Армани и шлепанцы на босу ногу. Можно разговаривать с самим собой на виду у всех. Можно наткнуться на девиц, метр восемьдесят ростом при весе в двадцать килограмм, которым все еще кажется, что они жирные. Можно встретить людей, пьющих травяной сок, потому что, типа, это полезно для здоровья, а рядом с ними будут другие, с такими гигантскими шариками мороженого, прям как газовые резервуары на перекрестке Глилот. Среди всех них, бывает, попадаются замечательные люди, а бывают и просто долбанутые вхлам. Там можно и самому, ненароком, помешаться рассудком. Тебе может вдруг отсосать девица, с которой ты познакомился три минуты назад. Там можно учиться тому, что нравится тебе, и никто не станет тебе доказывать, что это не практично. И там можно ощутить, что ты да имеешь право быть самим собой, и заниматься тем, что нравится тебе, без того, чтобы кто-нибудь выносил тебе мозг по этому поводу. И помимо всего прочего, это единственное место в мире, где можно стать миллионером, делая статуи из зубочисток, или лепить жвачки на спинках стульев и называть это высоким искусством. Это такой огромный рынок возможностей, что достаточно иметь немного творческих способностей и стремления, и ты далеко пойдешь. Там нет предела совершенству, и со временем начинаешь понимать, на сколько это верно.
А вот с девицами было тяжело. Было совершенно непонятно, как к ним подкатывать. Какой пароль к ним подходит? Типа, I am Amir, I am from Israel, do you want to go out for a drink? Фигня какая-то… Чего там у них вообще принято говорить в таких ситуациях? У нас, например, есть взгляд, есть язык тела. Например, она прикуривает сигарету, ты киваешь ей, типа так держать, сестрёнка, она тебе слегка кивает в ответ, и тогда ты можешь к ней подкатить. А тут нет взгляда. Никто на тебя не глядит. И что? Просто так подкатывать с бухты-барахты? Hi, типа, I am Amir, типа, I am from Israel, you are beautiful, you know?
Вот так сидел я на Вашингтон сквер и думал обо всем этом, как вдруг меня разобрал жуткий голод, и, странно, но мне подумалось о хумусе. Какой выбрать: Ашкара или Баадунес? Типа, когда я вернусь домой, в какой из этих двух я перво-наперво зайду? В тот раз победил Ашкара. Я представил себе, как я останавливаю мопед, снимаю каску, улыбаюсь и захожу внутрь. А внутри мне, типа: «как дела, мужик?» и не важно, что так они обращаются к каждому, кто входит, все равно приятно. Усаживаюсь, под очередную хохму одного из официантов и под улыбки остальных. Солнце заливает улицу своими лучами. Лук с редиской, как только что с грядки, приземляются на стол вместе с корзинкой свежих пит, еще горячих, через две секунды после того как туда приземлился я. И вот, самая лучшая в мире еда уже на столе. А рядом друзья-приятели. Мы все едим вместе, и в воздухе царит атмосфера любви и благоденствия. Так это делается в Израиле, когда общая тарелка стоит для всех посреди стола, даже если каждый ест из своей. Часть неповторимого вкуса хумуса как раз состоит из этого «вместе», и из объединяющего всех, кругового движения, когда вымазывают хумус кусочком питы из общей тарелки.
Именно поэтому американцы и не употребляют хумус. Пита, загребающая хумус по кругу с круглой тарелки – для них это чересчур округло. У них так рука не двигается. Они думают и живут квадратными понятиями. Ну, максимум, палочки для суши – еще куда ни шло. Но кушать руками, загребая вот так по кругу? Чувак, это Америка. Здесь нет ничего круглого. Если ты швейцар, то бишь тот, кто открывает и закрывает перед другими двери, то такая у тебя работа, и ты будешь гордиться ей, будешь заниматься ей всю свою сознательную жизнь. Существует даже профсоюз швейцаров. У них есть свое лобби в парламенте, своя гильдия, с председателем и управляющим. Это же не просто так, это профессия! Или если ты лифтер и нажимаешь на кнопки тех этажей, куда люди хотят попасть, то это тоже такая работа. С восемнадцати лет и до семидесяти, это то, чем ты будешь заниматься, и будешь горд, что, мол, это моя работа, и она меня содержит и кормит. Все там не как в Израиле, где любой торгаш за прилавком одновременно является риэлтером, брокером на бирже и членом центристского блока партии национального единства.
Все там однозначно определено, разграничено и помечено. Все стоит в четкой последовательности. Нет никаких исключений. Никто не будет тебе надоедать и бегать за тобой, ни налоги, ни счета, ни проверки, ни декларации, как это обычно бывает в Израиле. Но, не дай Б-г, тебя поймают на сокрытии налогов, тебя вздрючат по полной программе так, что и бабушке твоей достанется. В Израиле за тобой будут бегать, тебе будут надоедать, выносить тебе мозг, каждый год, и если поймают тебя на неуплате налога со ста миллионов шекелей, то, максимум, выпишут тебе штраф на пять тысяч и присудят общественные работы в течение полугода.
В Америке тебя не будут доставать дебильными, рутинными проверками и прочим выносом мозга, и типа, если поймают тебя за рулем без прав, то простят, или выпишут смехотворный штраф. Как раз наоборот. Там можно ездить, как тебе заблагорассудится, и никто к тебе не станет приставать. Но если, так, чисто случайно, тебя поймают за рулем без прав, тебя отымеют так, что ты всю жизнь будешь ходить с правами на шнурке на шее, даже если ты продал машину десять лет назад, и вообще, тебя всего трясет от Паркинсона, и ты с трудом водишь перед собой свой ходунок. Там они дают тебе свободное пространство жить и дышать полной грудью: делай что хочешь, и никто тебе слово поперек не скажет. Но если тебя, не дай бог, поймают на не соблюдении закона: пиши – пропало.
Короче, сижу я такой на Вашингтон сквер, меня терзает голод, в голове проносятся фантазии о хумусе Ашкара, и я уже собираюсь завернуть в Макдональдс, потому как ни хумуса Ашкара, ни шавермы в Дерби баре, ни фалафеля на Нордау Бен-Йеуда, и ни Бурекаса Круглые-Сутки тут, естественно, нет и быть не может. И в тот самый момент, когда я почти уже ушел, метрах в пяти от меня приземляется эдакая фифа, достает небольшую подстилку из пакета, расстилает ее и располагается на ней с книгой наперевес. И даже не глядит в мою сторону. Вообще никак. И почему бы ей, засранке эдакой, не расстелить эту подстилку у себя дома, если то, что вокруг нее, не удостаивается даже взгляда?
Я снова сел. Представил себе, как мы идем вечерком в ресторан, а там, на столе шикарная еда и две бутылки хорошего вина. И выглядит это весьма неплохо. Вопрос только как с ней заговорить? Я подождал пару минут в надежде, что она оторвется от своей книги и подымет голову, но она зарылась в ней по самые уши. Ее не интересовало ни что происходит на площади, ни солнце в небе, ни вообще ничего. Я тут стою, помираю с голоду, страсть как охота чего-нибудь съесть, но я не уйду пока не дождусь ее взгляда. Я подождал пять минут, потом еще десять минут, потом полчаса. Живот урчит, я от голода уже схожу с ума… И тут она встает и уходит. Просто так уходит и все.
Я ввалился в Макдональдс, и сожрал там девять порций наггетс с чипсами, в одно лицо, и залил все это обильно фантой.
После этого я вернулся домой, и вот как раз тогда мне и позвонил приятель из моего сопливого детства, и предложил пойти с ним на Пет Шоп Бойз. Понятное дело, что я согласился. В конце концов, кто-то поможет мне вытащить занозу.
И вот мы сидим на оградке нашей клумбы около ее работы в последний раз. Больше не будет поцелуев взасос в лифте, и я не буду раскладывать письма по конвертам, и держать ее за руку, пока она отвечает на звонки. Еще одно расставание. Мы это не обсуждали, но было все равно немного грустно, потому что заканчивался еще один отрезок времени, когда мы зависали с ней у нее на работе. Кусок жизни, когда все было вокруг Фили.
Завтра начинается учеба.
Я прям не нахожу себе места от волнения. Кто будет со мной в классе? Как будет выглядеть сам класс? Нужно ли будет представиться в самом начале? Какие люди там подберутся, и смогу ли я найти с ними общий язык? С тех пор, как я закончил учиться на экономике, ни одна капля информации не попадала в мой мозг в упорядоченном виде. Смогу ли я понять, о чем там будут говорить? И вообще, что учат на факультете кинематографии?
Фили меня успокаивала. Даже если все будет из рук вон плохо, она здесь, рядом со мной. С перепугу я даже попросил ее пойти со мной в класс. Типа только в первый день. Но она согласилась проводить меня до школы, и сказала, что дальше я должен буду идти сам.
Первое, что я помню – это смуглую, сногсшибательную, шикарную чувиху, которая вошла в класс передо мной. Ну и на фиг она мне именно сейчас заслоняет горизонт, когда у меня все и так хорошо? Но, тем не менее, мы сразу подружились. Она была колумбийка, и поэтому это не удивительно. Южноамериканцы и израильтяне сходятся моментально, потому что ментальность у них одинаковая. Все, кто растет под лучами яркого солнца в атмосфере постоянных бед, обладают некоей внутренней теплотой и любовью к жизни. Факт. Колумбийцы, правда, вежливее нас, израильтян, и у них больше шарма в их языке и в очаровании сальсы, но и у них есть желание заработать одним нахрапом хорошенькую сумму, чтобы остаток жизни не напрягаться. Они так же смотрят в глаза, и в их речи обязательно есть жесты и язык тела, они так же едят остро-перченое с кучей всевозможных специй, и у них так же как у нас сильное ощущение братства, и им характерна такая же, как и у нас жажда жизни. Они тоже шумные, не прочь обмишурить, и горазды на всякие выдумки, когда можно провернуть что-нибудь эдакое с выгодой для себя.
Мы уселись рядом за одну парту и стали ждать учителя. В класс заходили люди и тихонько рассаживались. Около нас уселся какой-то ботан американского происхождения, типа, из старательных, который перед тем как усесться достал платок и хорошенечко протер стул. Я посмотрел на свою соседку с выражением праведного гнева в глазах, типа «Какой кошмар! Посмотри, ЧТО с нами учится!» Она рассмеялась, и в ее смехе прозвучали грубоватые, презрительные нотки, и подмигнула мне в знак согласия. Мы понимали друг друга с полуслова.
В класс поднабралось десятка два людей всех возрастов и национальностей, и, наконец, в класс зашел декан факультета, с пластиковым стаканом кофе в руке. Он поставил его на стол и усталым голосом сказал: «Я надеюсь, тут собрались люди, для того, чтобы просто учиться в свое удовольствие, потому что я буду сильно удивлен, если кто-нибудь из вас будет-таки задействован в съемках художественного фильма по окончанию учебы» – и хмыкнул себе под нос. Его звали Терри Пате, и он был типичным ньюйоркцем. Не женат, пятидесяти лет, едкий и циничный, с новой чашкой кофе после каждой перемены.
Он начал говорить о разных вещах, которые, судя по всему, относились к кинематографу, но ни я, ни Анжелика (колумбийка), не могли понять ни слова из того, что он говорил. Он глотал слова, и было просто невозможно его понять. Не только не англоязычные в классе, как выяснилось позже, его не понимали, но и те, у кого английский был родным, тоже столкнулись с немалыми трудностями. Это сблизило меня с Анжеликой еще больше, потому как каждые несколько секунд мы беспокойно переглядывались, для того чтобы убедиться в обоюдном, полном непонимании.
Я вернулся домой, к Фили, и мы пошли на Челси Пирс, посидеть на набережной и поболтать. Я рассказал ей всё, что было в классе в первый день. Она сидела и слушала, затаив дыхание. Я рассказал ей про Анжелику тоже. Естественно не все. Рассказал типа, что рядом со мной сидела одна симпатичная южноамериканка. Согласитесь, это звучит совсем невинно относительно того, что было на самом деле когда «рядом со мной уселась сногсшибательная секс бомба из Колумбии». Незачем напрягать человека почем зря.
После этого мы пошли на йогу, затем к приятелям Фили, оттуда продолжили в какую-то новую галерею видео-арта, а потом зашли в индийский ресторанчик на шестой авеню, чтобы съесть курицу с кари. Фили в наших отношениях тяжело и безнадежно занесло в режим допроса с пристрастием, и она не отставала от меня с расспросами о моем прошлом. Я же, в отличие от нее, почти не задавал вопросов, потому как, и я ей об этом сказал, я верю в знакомство, и в то что происходит по ходу дела, а не в информативное анкетирование. На что Фили мне ответила, что так, мол, не пойдет, и чтобы я не задирал нос в своих попытках выглядеть крутым. Мы вернулись домой, но поток вопросов не иссякал, и через пол часа я вдруг обнаружил, что я с увлечением рассказываю ей что-то, отвечая на очередной вопрос, а она уже спит сном младенца. Я мысленно закончил рассказ тем, что послал ее, блин, умницу, в жопу, и тоже пошел спать.
Наши самые замечательные разговоры всегда были в постели, после секса, до того, как мы засыпали. Иногда, по ходу таких разговоров, она пыталась подловить меня, задавая вопросы и пытаясь раздобыть информацию о вражеских позициях и планах наступления, когда пленный терял бдительнось:
– Фили, почему ты оглядываешься на других женщин на улице?
– Фили, я смотрю на них как на картины в музее.
– Да? А как ты смотришь на картины в музее?
– Я стою напротив картины и наслаждаюсь ее красотой.
– Да, но зачем ты смотришь на другие картины, когда ты говоришь, что самая красивая картина у тебя дома?
– Чтобы мочь оценить красоту той картины, которая висит дома.
– А если вдруг ты захочешь купить другую картину, которая покажется тебе красивее той, что дома?
– У моей картины есть не только красота, у нее еще есть характер.
– А если и у той тоже будет характер?
– Я не могу этого знать, потому что я не всматриваюсь, я просто окидываю ее взглядом и продолжаю идти дальше.
– А если она просто очарует тебя, настолько она будет красива, хороша и прекрасна?
– Нет прекраснее моей.
– Да, но про твою бывшую подругу ты тоже думал, что она самая необычная, а потом появилась я, и стала еще необычнее, чем она, верно?
– Верно. – блин… приперла к стенке…
– И теперь если ты увидишь более необычную картину, что тогда?
– Это совсем неважно, потому что я… потому что моя картина… потому что я люблю мою картину.
– Ты любишь ее только потому, что она такая необычная?
– Нет, не только. Я люблю ее… потому… Я люблю ее потому, что я люблю ее и все.
– Да!!! Именно это я хотела услышать! – и она запрыгнула на меня с поцелуями.
Вот ведь чертяка… уже тогда она понимала вещи, до которых я дохожу только сейчас. У любви нет причин. Любовь «почему-то» – это не любовь. Ты любишь просто, потому что ты любишь. Это не как список необходимых покупок в магазине, типа, если девушка обладает определенным набором качеств, то ты любишь ее, а если нет, то нет. Ты любишь в ней все. И то, что она «да» и то, что она «нет».