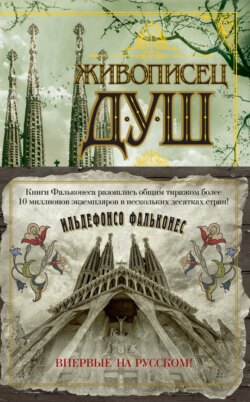Читать книгу Живописец душ - Ильдефонсо Фальконес - Страница 3
Часть первая
1
ОглавлениеБарселона, май 1901 года
Сотни женских и детских голосов звенели в переулках старого центра. «Забастовка!» «Закрывайте двери!» «Останавливайте станки!» «Опускайте шторы!» Пикет составляли женщины, многие несли на руках малышей или крепко держали за руку детишек постарше, хотя те и пытались вырваться, чтобы побежать за совсем уж большими, вышедшими из-под контроля; они обходили улицы старого города, призывая рабочих и торговцев, чьи мастерские, цехи и магазины все еще были открыты, немедленно прекратить всякую деятельность. Палки и куски арматуры у них в руках убеждали большинство, хотя кое-где бились витрины и вспыхивали стычки.
– Это женщины! – крикнул какой-то старик с балкона второго этажа, прямо над головой разъяренного лавочника, который сцепился с двумя пикетчицами.
– Ансельмо, я просто…
Его оправданий никто не слушал, их заглушили оскорбления и свист других жильцов, наблюдавших сцену с балконов ветхих, сгрудившихся домов, где обитали мастеровые и прочий неимущий люд: фасады растрескались, штукатурка облезла, всюду видны были пятна сырости. Лавочник поджал губы, замотал головой и опустил железную штору под торжествующие, насмешливые крики оборванных и грязных ребятишек. Зрители невольно заулыбались, оценив шуточки юных забастовщиков: лавочника не любили в квартале. Он тачал и продавал эспадрильи. Не верил в долг. Не улыбался. Ни с кем не здоровался.
Ребятишки продолжали потешаться над ним, пока полиция, следовавшая за пикетчицами, не подошла совсем близко. Тогда они побежали за громогласной ордой, которая хлынула в переулки средневековой Барселоны, извилистые и темные, ведь даже волшебный весенний свет майского утра не в силах был проникнуть глубже самых верхних этажей в хитросплетение построек, что возвышались над брусчатой мостовой. Жильцы, высыпавшие на балконы, умолкли при виде жандармов; иные ехали верхом, с саблями в ножнах, лица у большинства были хмурые, всадники двигались размеренно, отчего напряжение возрастало. Все понимали, как этим людям непросто: они должны были остановить незаконные пикеты, но не были готовы сражаться с женщинами и детьми.
История рабочего движения в Барселоне неразрывно связана с женщинами и их детьми. Они сами в большинстве случаев уговаривали своих мужчин оставаться в стороне от насильственных актов. «На нас они не посмеют напасть, а нас достаточно, чтобы остановить работу», – твердили женщины в качестве аргумента. Такую тактику применили и сейчас, в мае 1901-го, когда рабочие вышли на улицы после того, как компания по обслуживанию трамваев уволила забастовщиков и наняла вместо них штрейкбрехеров.
До всеобщей забастовки в поддержку трамвайщиков, к которой призывали рабочие союзы, было еще далеко, и, несмотря на отдельные акты насилия, жандармерия вроде бы контролировала город.
Вдруг из сотен женских глоток вырвался единый вопль: пронеслась весть, будто по Ла-Рамбла ходит трамвай. Зазвучали ругательства и угрозы: «Штрейкбрехеры!», «Сучьи дети!», «Покажем им!».
Пикетчицы пустились быстрым шагом, почти бегом, по улице Портаферрисса к цветочным рядам на Ла-Рамбла, чуть выше рынка Бокерия, который, в отличие от других барселонских рынков, таких как Сан-Антони, Борн или Консепсон, не был выстроен по конкретному проекту, торговцы попросту оккупировали площадь Сан-Жузеп, великолепное, окруженное портиками пространство; в конце концов купцы одержали верх, и площадь покрылась тентами и навесами, а портики, окружавшие площадь, – в стены нового рынка. Обычные места, где торгуют цветами, киоски чугунного литья, расположенные вдоль бульвара друг против друга, были закрыты, но цветочницы, в вызывающих позах, уперев руки в бока, стояли рядом, готовые защищать их. В Барселоне только в этой части Ла-Рамбла продавали цветы. У рынка Бокерия застряла нескончаемая череда крытых подвод: лошади и экипажи терлись друг о друга в паре шагов от трамвайных путей. Истошные крики проходящей мимо толпы женщин растревожили животных. Но мало кто из пикетчиц обращал внимание на взбесившихся, встающих на дыбы коней и на мечущихся очертя голову конюхов и продавцов. Трамвай, следующий к бульвару Грасия от Рамбла-де-Санта-Моника, приближался.
Далмау Сала в толпе других мужчин молча двигался за пикетом по улицам старого города, вслед за жандармами. Теперь, на более широком бульваре Ла-Рамбла, ему открылась полная картина. Абсолютный хаос. Лошади, экипажи и торговцы. Сбежалась толпа ротозеев; полицейские встали в строй перед женщинами с детьми, а те образовали живую цепь, отсекая тех, которые сгрудились на рельсах, норовя остановить машину. Увидев, как женщины поднимают малышей перед жандармами, Далмау содрогнулся. Дети постарше цеплялись за юбки матерей, тараща испуганные глазенки, пытаясь постигнуть непостижимое, а подростки, заразившись общим энтузиазмом, дразнили полицейских.
Не так давно, года четыре или пять тому назад, Далмау точно так же задирал полицию, а его мать позади криками требовала справедливости или улучшения социальных условий и воодушевляла его на борьбу. Так поступало большинство матерей: ставили детей на защиту дела, за которое они сами готовы были отдать жизнь.
На какой-то миг крики женщин опьянили Далмау, вселили в него прежнее воодушевление, когда и он противостоял полицейским. Подростки тогда себя чувствовали богами. Боролись за рабочее дело! Бывало, что жандармы или солдаты набрасывались на них, но сегодня такого не случится, сказал себе Далмау, переводя взгляд на забастовщиц, преграждавших путь трамваю. Нет. Этот день не назначен для того, чтобы силы правопорядка атаковали женщин; он это предчувствовал, это знал.
Далмау быстро нашел их в толпе. В первом ряду, впереди всех, с пылающими глазами, будто одним только взглядом собираясь остановить трамвай до Грасии, который уже приближался. Далмау разулыбался. Что неподвластно этаким взглядам? Монсеррат и Эмма, его младшая сестра и его невеста, подруги, неразлучные в бедах, неразлучные в борьбе за рабочих. Трамвай приближался, звонок дребезжал, лучи солнца, проникая сквозь листву деревьев на Ла-Рамбла, высекали искры из колес и других металлических частей вагона. Кое-кто из женщин отступил, но таких оказалось немного. Далмау выпрямился. Он не боялся: трамвай остановится. Матери и полицейские умолкли, затаив дыхание. Зеваки тоже замерли. Группа женщин на рельсах как будто увеличилась, сплотилась, вросла в почву: будь что будет.
Трамвай остановился.
Женщины разразились торжествующими криками, а немногие пассажиры, которые осмелились воспользоваться транспортом и ехали на втором ярусе, под открытым небом, спотыкаясь, спускались вниз и удирали следом за водителем и кондукторами – те попрыгали с трамвая еще до того, как он остановился.
Далмау глядел на Эмму и Монсеррат: обе поднимали к небу сжатые кулаки, улыбались, вместе со всеми празднуя победу. Не прошло и минуты, как сотни женщин набросились на трамвай. «Сюда!» «Поддадим!» Жандармерия хотела вмешаться, но живая цепь женщин с детьми вышла навстречу. Множество рук оперлось о стенку вагона. Кто не мог подойти к трамваю, налегал на спины впереди стоящих.
– Толкайте! – раздавались крики.
– Сильнее!
Трамвай закачался на железных колесах.
– Еще! Еще, еще…
Раз, два… Вагон раскачивался все сильнее, женщины криками подбадривали друг друга. Наконец вопль, вырвавшийся из сотен глоток, возвестил падение трамвая. Вместе с грохотом полетели щепки, зазвенело железо, поднялась туча пыли, окутав трамвай и женщин.
Относительную тишину, наступившую после того, как трамвай рухнул на землю, прервали истошные крики:
– Ура революции!
– Да здравствует анархия!
– Все на забастовку!
– Смерть монахам!
Покончить с безработицей, увеличить зарплату. Сократить непомерный рабочий день. Запретить детский труд. Покончить с властью Церкви. Обеспечить безопасность. Предоставить приличное жилье. Здравоохранение. Светское образование. Продукты по доступным ценам… Тысячи требований гремели над цветочными рядами на Ла-Рамбла, там собиралась и ширилась толпа неимущих, люди стекались со всех сторон и яростно рукоплескали женщинам из рабочих.
Эмма и Монсеррат, вспотевшие, запачканные, с лицами, потемневшими от пыли, поднявшейся после падения вагона, прыгали от восторга, подбадривали подруг, махали руками, взобравшись на стенку трамвая.
У Далмау волосы встали дыбом при виде этих юных дев. Какая отвага! Какое бесстрашие! Он вспомнил, сколько раз вместе с матерями и женами рабочих бросались они на защиту правого дела. Далмау был старше на два года, но эти девчонки, как будто женская природа их к тому обязывала, смелостью превосходили его, кричали, ругались, чуть ли не задирали жандармов. А теперь стояли на самом верху, на торце трамвая, который опрокинули собственными руками. Далмау вздрогнул, поднял руку, сжатую в кулак, и в восторге присоединился к крикам и требованиям толпы.
Крики все еще звучали в ушах Далмау, волнение не покидало его, когда он поднимался по Пасео-де-Грасия к керамической фабрике, где работал в районе Лес-Кортс, на пустыре неподалеку от русла Баргальо. Ему не удалось поговорить с девушками: добившись цели и видя, что жандармы теряют терпение, женщины с детьми, составлявшие пикет, рассеялись в разные стороны. Монсеррат и Эмму наверняка заприметили, подумал Далмау. «Еще бы!» – сказал он себе и улыбнулся, топча упавший с дерева лист. Как не запомнить их, стоящих наверху? Конечно, они быстро смешались с другими женщинами на рынке Бокерия или на Ла-Рамбла, такими же, как они, одетыми одинаково: юбка до щиколоток, передник и блузка с засученными рукавами. Те, что постарше, повязывали на голову платок, чаще всего черный; молодые подкалывали волосы в пучок и не носили шляпок. Эти женщины коренным образом отличались от тех, что прогуливались по Пасео-де-Грасия: богатых, элегантных.
Ежедневно, проходя из конца в конец одну из главных магистралей древней столицы Барселонского графства, Далмау отводил душу, разглядывая дам, которые прогуливались с гордым видом в сопровождении нянек в белом, детишек и конных экипажей. Грудь, живот и ягодицы; говорили, будто по этим трем параметрам следует судить о том, насколько женщина близка к идеалу. Женская мода в эпоху модерна эволюционировала вместе с архитектурой и другими искусствами, и суровые средневековые линии, бывшие в ходу в последнее десятилетие прошлого века, вышли из употребления, теперь целью было показать живых женщин: корсет подчеркивал естественные формы тела, его сказочные изгибы – выступающая грудь, плоский, стянутый живот, задорно и воинственно торчащие ягодицы. Когда было время, Далмау задерживался на бульваре, садился на скамейку и делал наброски углем, запечатлевая этих женщин; правда, одежда не занимала воображение художника, и он рисовал их нагими. Зачем ограничиваться тем, на что лишь намекают корсеты и платья? Ноги, бедра, щиколотки, главное – щиколотки, тонкие, точеные, с натянутыми струнами сухожилий; руки и плечи. Еще шеи! К чему руководствоваться только тремя критериями: грудь, живот и ягодицы? Он любил женскую наготу, но, к сожалению, не имел возможности работать с раздетыми натурщицами: его учитель, дон Мануэль Бельо, это запрещал. Мужская нагота – пожалуйста, женская – нет. Раз он сам не пишет нагих натурщиц, значит и Далмау не должен. Это можно понять, зная супругу дона Мануэля, ухмылялся про себя Далмау. Буржуазка, реакционерка консервативных взглядов, католичка ярая – до мозга костей! Разделяя все эти добродетели со своим супругом, дама цеплялась за моду, устаревшую несколько лет назад, и до сих пор носила кринолин, нечто вроде каркаса, крепящегося на талии, с объемистой накладкой сзади.
– Ни дать ни взять улитка, – насмехался Далмау, описывая туалет дамы Монсеррат и Эмме, – юбка широченная, на заду что-то вроде панциря, который она всюду за собой таскает. Странно ли, что я не в силах вообразить ее голой?
Девушки рассмеялись.
– Ты никогда не снимал панцирь с улитки? – спросила сестра. – Добавь слизнячку шиньон вместо рожек, и вот она, твоя буржуазка, голенькая, вся в слюнях, как все они.
– Замолчи! Какая гадость! – вскричала Эмма, толкая Монсеррат. – Но зачем тебе понадобилось воображать голых женщин? – спросила она Далмау. – Тебе недостаточно тех, которые дома перед тобой?
Последнюю фразу она произнесла вкрадчиво, нежно, растягивая слова. Далмау привлек ее к себе, поцеловал в губы.
– Достаточно, еще как, – шепнул ей на ухо.
В самом деле, если не считать эротических снимков, по которым он изучал женскую наготу, запрещенную учителем, одна только Эмма позировала для него нагой. Монсеррат, узнав об этом, тоже захотела быть моделью.
– Как я буду рисовать голой собственную сестру? – возмутился Далмау.
– Ведь это искусство, разве нет? – настаивала та, начиная уже снимать блузку, чего Далмау не позволил, схватив ее за руку. – Я в восторге от рисунков, которые ты сделал с Эммы! Она там такая… чувственная! Такая женственная! Просто богиня! Никто и не скажет, что она кухарка. Я тоже хочу выглядеть так, а не как обычная работница ситценабивной фабрики.
Видя, что сестра дергает свою цветастую юбку, будто собирается ее скинуть, Далмау на несколько мгновений закрыл глаза.
– Мне бы тоже понравилось, если бы ты меня так нарисовал, – не отставала Монсеррат.
– А маме понравилось бы? – перебил ее Далмау.
Монсеррат скорчила гримасу и отрешенно покачала головой.
– Мне не нужно рисовать тебя голой, тебе и так известно, что ты такая же красавица, как Эмма, – попытался ее утешить Далмау. – В тебя все влюблены! Сходят с ума, падают в ноги.
В тот день, когда на Ла-Рамбла опрокинули трамвай, Далмау и без того опаздывал на работу, ему было не до воображаемой наготы буржуазок, выставлявших себя на Пасео-де-Грасия. Недосуг было и разглядывать здания в стиле модерн, которые строились в Барселоне на Эшампле, или Энсанче, за городскими стенами, там, где веками строительство было запрещено из соображений обороны; только в XIX веке, когда стены снесли, эта зона вошла в план городской застройки. Учитель Бельо не принимал этих зданий в стиле модерн, хотя его фабрика процветала, поставляя керамику на стройки.
– Сынок, – оправдывался он, когда Далмау однажды рискнул намекнуть на такое противоречие, – дело есть дело.
Воистину, модерн, не ограничиваясь женскими нарядами, начиная со Всемирной выставки 1888 года во все привнес важные изменения, и такой крен трудно было принять людям консервативного склада. В последнее десятилетие XIX века женщины, хоть и освободившись от турнюров, которые делали их похожими на улиток, все же носили строгие платья средневекового покроя. В то же самое десятилетие и архитекторы вдохновлялись Средневековьем, пытаясь возродить тогдашнее величие Каталонии. Доменек-и-Монтанер возвращался к использованию местных материалов, таких как старые кирпичи, и таким образом построил кафе-ресторан для той же самой выставки 1888 года, величественный, по-восточному пышный замок с зубцами, причем позволил себе поместить вдоль фриза около пятидесяти керамических щитов из сотни с лишним задуманных; изображения на белых щитах рекламировали продукты, которые подавались в заведении: моряк пьет джин, барышня ест мороженое, кухарка готовит какао…[1]
Через несколько лет Пуч-и-Кадафалк взялся за перестройку дома Амалье[2] на Пасео-де-Грасия в готическом духе, отказавшись от классицистической симметрии и подарив Барселоне первый яркий фасад. Как и Доменек в кафе-ресторане на Всемирной выставке, Пуч стал играть с декоративными элементами и, сообразуясь с увлечением хозяина дома, включил в проект целую толпу гротескных зверей: собаку, кота, лисицу, козу, птичку и ящерку в виде стражей; лягушку, выдувающую стекло; еще одну, поднимающую бокал; пару свиней, лепящих кувшин; осла, читающего книгу, в то время как другой осел наблюдает за ним через очки; льва-фотографа рядом с медведем под зонтиком; двух кроликов, льющих металл, и обезьяну, стучащую по наковальне.
Эти два здания, среди многих других, где уже намечались перемены, прослеживалось иное понятие об архитектуре, предвозвестили, по словам учителя Далмау, дом Кальвет на улице Касп в Барселоне: здесь Гауди начал отходить от историзма, питавшего его творчество в последние десятилетия прошлого века, и замыслил архитектуру, которая привела бы материю в движение. «Камень – в движение!» – восклицал дон Мануэль Бельо, недоуменно поднимая брови.
– Женщины и здания, – разоткровенничался он однажды перед Далмау, – теряют мало-помалу класс, манеры, величие; порывают со своей историей и проституируются: женщины извиваются, как змеи, а здания превращаются в миражи.
Тут он отвернулся, взмахнув руками в отчаянии, словно вселенная распадалась у него на глазах. Далмау не стал говорить, что его привлекают женщины, подобные змеям, и он восхищается архитекторами, которые стремятся к тому, чтобы чугун, камень и даже керамика пришли в движение. Ведь только колдун, волшебник, выдающийся творец способен представить глазам материю, превращенную в поток!
Длинная, нагруженная глиной повозка, которую тащила четверка могучих першеронов с величавыми головами, мускулистыми шеями и крупами, толстыми, поросшими длинной шерстью бабками, неспешно, с тяжелым скрипом проехала мимо, сотрясая землю, и это вывело Далмау из задумчивости. Он поднял взгляд; задок доверху наполненной повозки стоял перед глазами, а над ним вырисовывались две высокие фабричные трубы. «Мануэль Бельо Гарсия. Фабрика изразцов». Надпись из тех же изразцов, синих на белом, венчала ворота; дальше начиналась обширная промышленная зона, с водоемами и сушильнями, складами, конторами и печами для обжига. Фабрика была средних размеров, она выпускала серийную продукцию, но работала и по особым заказам, производя изразцы по эскизам или замыслам архитекторов либо техников-строителей для жилых домов, а также для многочисленных коммерческих учреждений, лавок, аптек, гостиниц, ресторанов и прочих: керамика, элемент по преимуществу декоративный, требовалась часто.
В том и заключалась работа Далмау: рисовать. Создавать собственные композиции, которые потом пойдут в серийное производство и будут включены в каталог фирмы; воплощать задумки, довершать наброски прорабов, строящих частные дома или учреждения, или же копировать образцы, которые великие зодчие стиля модерн приносили им уже доведенными до совершенства.
– Простите, дон Мануэль… – Далмау явился в кабинет учителя, одновременно служивший мастерской и располагавшийся на втором этаже одного из фабричных зданий. – В старом квартале настоящий хаос. Манифестации, полицейские патрули. – Тут он несколько преувеличил. – Мне пришлось задержаться из-за матери и сестры.
– Мы должны заботиться о наших женщинах, сынок. – Дон Мануэль, в строгом черном костюме, сугубо приличном, при галстуке темно-зеленого цвета, завязанном огромным узлом, кивнул ему из-за стола красного дерева, за которым сидел. Бакенбарды, широкие и густые, соединялись с усами, столь же пышными, образуя безупречно выверенную линию растительности над тщательно выбритым подбородком. – Они нуждаются в нас. Ты поступаешь правильно. Анархисты и либералы погубят страну! Надеюсь, жандармерия с ними разобралась. Жесткая рука! Вот чего заслуживает такая неблагодарность! Не беспокойся, сынок. Иди работай.
Рабочий стол Далмау стоял в соседней комнате, дверь в дверь с кабинетом учителя. Он тоже не делил помещение с другими служащими, а располагал собственным пространством, достаточно обширным, где мог сосредоточиться на работе, которая ныне заключалась в зарисовках к серии изразцов на восточные мотивы: цветы лотоса, кувшинки, хризантемы, стебли бамбука, бабочки, стрекозы…
Чтобы научиться рисовать цветы, он прошел несколько курсов в барселонской Льотхе[3]. Цветы с натуры, цветы силуэтом, цветы затененные; эскизы и, наконец, натюрморты маслом. В списке предметов, изучаемых в Льотхе, куда Далмау поступил в возрасте десяти лет, значились арифметика, геометрия, рисунок геометрический, черчение, орнамент, рисунок с натуры, живопись, но самым важным был рисунок для прикладных искусств и фабричного производства. Для этого и была создана Льотха: чтобы обучить прикладным искусствам рабочих, которые могли бы применить в производстве полученные навыки.
Хотя с середины XIX века чистое искусство получило преимущество над прикладным, последнее, предназначенное для нужд промышленности, не было заброшено, что, без сомнения, касалось и рисования цветов. Растительные элементы составляли основу орнамента в готическом искусстве, и теперь, после нового обращения к Средневековью, в индустрии, которая двигала Каталонию, использовались для рисунков на ткани и одежде; а с приходом в архитектуру модерна попали на изразцы и ступеньки, мозаики, в чугунное литье, маркетри и витражи, а также на гипсовую лепнину, обильно украшавшую здания.
Далмау накинул халат на бежевую блузу, доходящую до колен; эта блуза, штаны из смеси шерсти и льна неопределенно-темного цвета, шапочка и черные ботинки составляли его обычный костюм. Как только он уселся перед кучей набросков, громоздящихся на столе, и отточил карандаши, исчезли голоса, смех, крики – шум фабрики в разгар рабочего дня, временами оглушительный. Отрешившись от всего, Далмау полностью сосредоточился на японских рисунках, стараясь перенять восточную технику, которая в обход реализма искала стилизованной красоты, без тени; далекая от западных образцов, она ценилась на рынке, жадно поглощавшем все непохожее, экзотическое, модерное.
Как он отрешился от всякого шума, так и тишина, воцарившаяся на фабрике, опустевшей, когда ночь упала на Барселону, застала его погруженным в работу. Он съел почти без аппетита, чуть ли не с досадой, обед, который ему принесли, а позже что-то бормотал в ответ сотрудникам, которые заглядывали к нему в мастерскую, чтобы попрощаться. Для дона Мануэля, уходившего в числе последних, не было сделано исключения; прищелкнув языком, то ли с удовлетворением, то ли с укором, он повернулся спиной к Далмау, который и не расслышал его слов, и не поднял глаз от рисунков.
Через пару часов газовые лампы, освещавшие мастерскую, начали меркнуть и оставили его почти в тьме.
– Кто погасил свет? – возмутился Далмау. – Кто здесь?
– Это я, Пако, – отозвался ночной сторож и отвернул газовый кран, чтобы в мастерской стало светлее.
При свете показался сгорбленный, дряхлый старик. Человек чудесный, но быть ему здесь не следовало. Учитель запретил доступ в мастерские, где находились эскизы и проекты, незаконченные работы: эти материалы могли видеть только сотрудники, пользующиеся неограниченным доверием.
– Что ты тут делаешь? – удивился Далмау.
– Дон Мануэль велел, если ты слишком задержишься, выставить тебя вон. – Старик улыбнулся беззубым ртом, обнажив голые десны. – В городе сложная обстановка, народ в сильном волнении, – объяснил он, – и твоя мать, наверное, беспокоится.
Возможно, Пако прав. Так или иначе, стоило Далмау отвлечься, как желудок запротестовал, требуя пищи, да и глаза устали: похоже, пора кончать работу.
– Гаси свет, – распорядился Далмау, снимая халат и бросая его на вешалку, стоявшую в углу, там он и повис кое-как, на одном рукаве. – Что происходит в городе? – поинтересовался юноша, прибираясь на столе.
– Обстановка обострилась. Пикетчики, в основном женщины и подростки, прошли по старому городу, забрасывая камнями фабрики и мастерские, пока те не прекратили работу. Вроде бы утром они опрокинули трамвай, и это им придало отваги. – (Далмау резко выдохнул.) – Что-то подобное устроили и на больших фабриках в районе Сан-Марти. Напали на полицейские участки. Ребята воспользовались суматохой и подожгли несколько пунктов по сбору пошлин, предварительно пошарив внутри. В общем, все вверх дном.
Они спустились по лестнице на склады первого этажа. Там, перед тем как выйти на окружавшую постройки обширную зону, где готовили глину, Далмау попрощался с двумя мальчишками, не старше десяти лет, которые жили и ночевали на фабрике, подстелив одеяло на пол, – зимой подле печей для обжига, от которых удалялись по мере того, как на дворе теплело. Их даже не приняли в ученики, просто давали разные поручения – сделать уборку, сбегать куда-нибудь, принести воды… У обоих, по их словам, были родители: рабочие из квартала Сан-Марти, прозванного каталонским Манчестером, и жили они в битком набитых квартирах, которые делили с другими семьями. Квартал Сан-Марти располагался далеко, и учитель ничего не имел против того, чтобы дети жили на фабрике и зарабатывали по несколько сентимо, только взамен требовал, чтобы по воскресеньям они ходили к мессе в приход Санта-Мария-деи-Ремеи в квартале Лес-Кортс. Родителей, похоже, не заботило, что мальчишки живут на фабрике, никто ни разу не пришел поинтересоваться, как они тут. Есть такие, кому гораздо хуже, думал Далмау, по пути к двери мимоходом взъерошив грязные волосы одного из ребят: целая армия trinxeraires[4], как их называли, по скромным подсчетам, больше десяти тысяч, прозябали на улицах Барселоны, прося милостыню, воруя и ночуя под открытым небом, в любой щели, где могли устроиться; то были сироты или просто заброшенные дети, как эти двое мальчишек на побегушках, чьи родители были не в состоянии обихаживать их и кормить.
– Доброй ночи, маэстро, – попрощался с Далмау один из них. Ни малейшей насмешки нельзя было обнаружить в его тоне, он говорил совершенно искренне.
Далмау обернулся, поджал губы, порылся в карманах штанов и бросил им монетки по два сентимо.
– Щедрая душа! – На этот раз насмешка прозвучала.
– Не нашел по одному сентимо? – вопросил другой мальчишка. – Знаешь, таких… совсем маленьких.
– Неблагодарные! – рявкнул сторож.
– Оставь их, – попросил Далмау с улыбкой. – Осторожней с деньгами, – включился он в шутку, – смотрите, как бы вы не объелись.
– Гляди-ка! – подпрыгнул один из них. – Маэстро хочет поужинать с нами.
– Нет, спасибо, как-нибудь в другой раз. Сегодня пригласите девушек, – со смехом присоветовал Далмау, направляясь к выходу.
– Целый бараний бок оприходуем на эти четыре сентимо! – услышал Далмау у себя за спиной.
– Попьем доброго винца из Алельи!
– Вот наглецы, – продолжал ворчать сторож.
– Вовсе нет, Пако, – возразил Далмау. – Что остается заброшенным детям, как не смотреть на жизнь с насмешкой?
Сторож умолк, а Далмау миновал ворота с надписью, возвещавшей о том, что здесь находится фабрика изразцов дона Мануэля Бельо, и начал потихоньку привыкать к яркому свету луны, озарявшей пустыри и улицы, до которых не добралось еще городское освещение. Вобрал в себя ночную свежесть. Тишина казалась напряженной, будто крики забастовщиков, целый день ходивших по городу, все еще витали в воздухе. Далмау разглядывал панораму, раскинувшуюся вплоть до самого моря. Силуэты сотен высоких труб вырисовывались в лунном свете. Барселона была индустриальным городом, где теснились фабрики, склады и мастерские разного рода. С XIX века здесь использовали энергию пара для работ, которые в других местах выполнялись вручную, и это, а также влияние соседних стран, в частности Франции, вкупе с врожденным у каталонцев духом предпринимательства, поставило их столицу вровень с самыми передовыми городами Европы. Главной была текстильная промышленность; половина рабочих Барселоны были текстильщиками. Не менее важное место занимали также металлургическая, химическая и пищевая индустрии. А еще деревообрабатывающая, кожевенная и обувная, производство бумаги и печатное дело – десятки фабрик в городе, где население достигло полумиллиона человек. Но если богатые промышленники и буржуа пожинали плоды индустриального подъема и пользовались ситуацией, к простому народу, к трудящимся реальность поворачивалась совсем другой стороной. Работа по семь дней в неделю, по десять-двенадцать часов, за мизерную плату. Она, эта заработная плата, за последние тридцать лет увеличилась на тридцать процентов, в то время как цены на продукты поднялись на семьдесят. Неуклонно росла безработица; городские приюты бывали ночами переполнены, и на благотворительных кухнях каждый день раздавали тысячи порций еды. Барселона, думал Далмау, качая головой, бесчеловечно жестока к тем, кто создает ей величие ценой жизни и здоровья – своих собственных, семьи и детей.
Монсеррат дома не было. Эммы тоже. Наверняка празднуют успех выступления, подумал Далмау; устроили собрание, обсуждают, что им предпринять на следующий день, улыбаются, поздравляют друг друга. Далмау заколебался – не пойти ли в столовую возле рынка Сан-Антони, но решил, что, даже если весь персонал не бастует, Эмма наверняка не вышла на работу.
Далмау жил с матерью на третьем этаже старого дома по улице Бертрельянс; этот узкий проулок в историческом центре Барселоны соединял улицу Кануда с улицей Святой Анны, куда выходила одноименная церковь, которую в тот момент перестраивали. Жилище семьи Сала было похоже на все те, что теснились в старом квартале, в Сантс, Грасия, Сан-Марти… Пяти-шестиэтажные дома, сырые и мрачные, с узкими лестницами, ведущими на верхние этажи; ни канализации, ни газа, ни электричества; вода подавалась из бака, расположенного на кровле, общего для всех жильцов. На каждую площадку, где находилось общее отхожее место, выходили двери квартир, совершенно одинаковых: темный коридор вел в кухню-столовую, воздух в которую нередко поступал из двора-колодца, дальше следовала комната без окон и, наконец, последняя, с окном на улицу.
В этой, наиболее светлой, Далмау нашел свою мать; она, как всегда, шила, сейчас – при свете жалкой свечи, которая лишь сгущала темноту, вместо того чтобы давать хоть немного света швее, жмущей неустанно, безостановочно на педаль швейной машинки, приобретенной в магазине сеньора Эскудера на улице Авиньон. Мать, должно быть, работала целый день, возможно, больше тринадцати часов.
– Как вы, мама? – спросил Далмау, целуя ее в лоб.
– Как видишь, сынок, – ответила та.
Далмау помедлил, потом подошел сзади и положил ей руки на плечи. Ощутил дрожь от швейной машинки: руки и плечи матери вибрировали в ритме шитья. Не отводя глаз от работы, мать сжала губы в подобии улыбки, но ничего не сказала, просто продолжала работать, нажимая на педаль и прострачивая ткань. В тот день она шила белые накладные воротнички и манжеты к мужским сорочкам; такую работу ей предложил комиссионер из универмага, где эти изделия будут продаваться. Накладные воротнички и манжеты оплачивались хуже всего: после нескончаемого рабочего дня швея получала около песеты. Буханка хлеба стоила пятьдесят сентимо. Комиссионер обещал ей партию брюк, даже перчаток, но в тот день у него были только воротнички и манжеты для белых рубашек богачей. Хосефа – так звали мать Далмау – не особо надеялась, что мужик сдержит слово. Возможно, если бы она позволяла себя тискать и щупать, дело бы пошло на лад. «Нет, – одергивала она себя, – ни за что». Некоторые вставали перед ним на колени и теребили ему член или наклонялись, задрав юбку и передник выше пояса, позволяя делать с собой что угодно. И были они моложе Хосефы и куда красивее! Она их всех знала, иногда даже слышала, как они спорят шепотом, позабыв всякий стыд, на кого нынче падет жребий. Пасть он мог только на одну: мужик был не ахти в плане секса, проливался мгновенно и насыщался еще быстрее. Хосефа их не судила. Не злилась на них. Им нужно было кормить детей.
Женщина вздохнула. Далмау это заметил и бережно обнял за плечи. Хосефа могла рассчитывать на помощь сына. Большинство швей, да и не швей тоже, глядели на нее с завистью и часто шушукались за ее спиной. Хосефа это замечала, и это ей не нравилось: чем она отличается от других – бедная вдова рабочего-анархиста, несправедливо осужденного, подвергнутого пыткам, от последствий которых он и умер в изгнании, как ей сообщили; у нее самой с каждым днем слабело зрение, да и бронхит, от которого страдали швеи, часами сидевшие неподвижно за машинками, полуголодные, измотанные, дышащие смрадом, поднимавшимся из подвалов, донимал ее; сырость пронизывала до костей – и все ради того, чтобы снабдить богачей белыми манжетами и воротничками. Зато Далмау завоевал престиж и получал хорошее жалованье, работая на «того, с изразцами, который ссыт святой водой», как о нем говорили все женщины в доме, включая Эмму. «Оставьте работу, мама», – вечно твердил он. Но Хосефа не хотела жить за счет сына. Далмау женится, пойдут расходы. Он помогал, да, и немало, так что ей не нужно было потакать похоти комиссионера, распределявшего заказы. Помогал и сестре, даже старшему брату Томасу, анархисту, как их покойный отец, такому же идеалисту, либертарию, утописту; а по сути, Томас – такое же пушечное мясо, как и его родитель.
– А девочка где? – спросил Далмау с нежностью, имея в виду Монсеррат; еще раз стиснул плечи матери и уселся рядом со швейной машинкой на постели, общей для Хосефы и ее дочери.
– Поди знай! Думаю, планируют на завтра манифестации. Заходила, рассказала, как они опрокинули трамвай. – (Тут Далмау кивнул.) – В мои времена трамвай везла упряжка лошадей. Попробуй опрокинь такой, – развеселилась она.
– А Эмму видели?
– Да, – выпалила мать с таким напором, что Далмау удивился. Она, заметив, сбавила тон. – Заходила с твоей сестрой. Принесла еду в горшочке. Твое любимое блюдо, – подмигнула она. – Потом пошли бороться дальше.
Bacallá a la llauna[5]. В самом деле, это блюдо было из тех, что больше всего нравились Далмау, и Эмма умела его готовить: треска вымоченная, но не слишком, так, чтобы чувствовался привкус моря, обвалянная в муке и поджаренная. Потом ее кладут в llauna, противень с высокими бортиками, где уже обжариваются до золотой корочки дольки чеснока, потом добавляют красный перец и вино, чтобы блюдо не подгорело и не стало горчить. Все это запекается вместе несколько минут… Хосефа подогрела еду на углях очага, встроенного в стену, и отнесла на кухню, добавив хлеб и бутыль красного вина.
Даже когда они отдали должное треске и на улицах зазвучали голоса людей, покинувших свои убогие жилища, чтобы поболтать на свежем воздухе, прогуляться, выкурить сигаретку или выпить с другом винца, Далмау так и не смог оторвать маму от машинки.
– Осталось еще много работы, – сказала она виновато.
«Когда же она кончается?» – чуть было не ответил он, но не хотелось заново вступать в тот же самый нескончаемый спор. «Вам это ни к чему». «Я дам денег». «Вы ни в чем не будете нуждаться…»
– Мы даже могли бы сменить квартиру, – однажды предложил он.
– Я жила здесь с твоим отцом и здесь умру, – отрезала мать неслыханно суровым тоном. – Может быть, для тебя, для твоих брата и сестры наш дом… трущоба, – добавила она хрипло, – но эти стены слышали смех и плач твоего отца, да и ваши, конечно, тоже. Далмау, никакая сырость, никакой запах, никакая темнота не сотрут из моей памяти счастье, которое я испытала здесь с ним, с тобой, с твоими братом и сестрой. Как мы старались поставить на ноги вас троих, тех из пятерых моих деток, кому посчастливилось выжить; как боролись за рабочих, за обездоленных, за справедливость. Сколько несчастий, сколько огорчений, множество, великое множество. Все это ковалось здесь, сынок, в этом склепе. Стук педалей и стрекот швейной машинки, которые порой так тебя раздражают… – Мать замахала руками. – Не скажу, что это музыка, но звуки эти сроднились со мной, они меня переносят в те счастливые дни, когда вы были детьми и отец ваш был с нами. Шитье у меня уже выходит само собой! – Она то ли рассмеялась гортанно, то ли закашлялась. – Руки знают, что делают, лучше, чем глаза, устающие после тяжелого дня. – Она вздохнула. – И пока руки работают, стрекот швейной машинки мне напоминает о прошлом, о твоем отце…
Далмау не заметил, в какой момент слова застряли у матери в горле и слезы потекли по щекам. Этим вечером он наконец увидел, какая она хрупкая, беззащитная: встав рядом с матерью, он прижал ее голову к своей груди и баюкал, как маленькую девочку. Позже, оставшись один в своей спальне, комнатушке без окон, он со всем пылом чувства попытался при свете свечи изобразить лицо матери. Один за другим комкал и рвал наброски. Не такая она старая, чтобы жить одними воспоминаниями! Но как ни налегал он на уголь, добавляя улыбку, оживляя взгляд, впечатление оставалось прежним: женщина, исполненная печали.
Наутро Далмау нашел на кухонном столе остатки трески, которые мать приберегла ему на завтрак. Еще не рассвело, но на улицах ночная тишина уже давала трещину. Далмау ополоснулся в тазу и, прежде чем полакомиться треской, приоткрыл дверь в другую спальню, где сестра и мать еще спали среди спутанных простыней.
На улице было свежо. Небо светлело над верхними этажами, оттуда просачивались солнечные лучи, как будто там, наверху, существовал чистый, здоровый мир, чуждый крикам, полумгле, сырости, грязи и вони, которые терзали обитателей древнего центра Барселоны. Не то чтобы люди проклинали свой квартал; наоборот, большинство, как и его мать, любили место, где родились, играли в детстве или работали в зрелые годы. Нет, жители ни при чем. Врачи, посланные городской управой, утверждали в отчетах, что почва в Барселоне насквозь гнилая. Власти уверяли, что глинистая почва удерживает влагу, отсюда постоянная сырость; что в эти слои просачиваются и там застаиваются сточные воды, органические продукты в стадии разложения и фекальные массы; что канализация в удручающем состоянии, с пробоинами и протечками на всем протяжении; что уборка улиц и вывоз мусора – чистая фикция; что отсутствуют запасы воды, а та, которую барселонцы берут из колодцев, – грязная и полна микробов. Тиф и другие инфекционные болезни стали уже эндемичными, смертность из-за них держалась на высоком уровне.
«А мама не хочет уезжать отсюда!» – посетовал Далмау, выходя на площадь Каталонии, сразу за церковью Святой Анны. То был огромный, заброшенный пустырь, где с самой Всемирной выставки 1888 года собирались обустроить площадь; ее, несуществующую, все уже называли площадью Каталонии. Обходя топкие лужи и кучи мусора, копившиеся тут, Далмау вышел к дому Понс, великолепному шестиэтажному зданию, неоготическому, внушительному, с двумя коническими башенками по углам; его построили в последнее десятилетие прошлого века, когда стали бурно развиваться прикладные искусства: витражи, литье, резьба по дереву и та же керамика, выпускаемая учителем Далмау.
Это здание архитектора Саньера, воздвигнутое в начале первого квартала Пасео-де-Грасия, не только знаменовало собой приход стиля модерн в Барселону, но и обозначало такую наглядную, такую поразительную границу между двумя мирами, что Далмау всегда останавливался на мгновение рядом с этим домом, и, глубоко дыша, глядел то вниз, туда, откуда он пришел и где пребывали его мать и сестра, которые, наверное, уже встали; то наверх, где простирался широкий бульвар, по которому ему предстояло пройти, чтобы добраться до фабрики.
Туда попадало солнце. Там солнце светило. Достигало земли, сверкало на булыжниках мостовой! И запах был не такой отвратительный. На самом деле и богачам не удавалось решить проблемы с канализацией, так что черная жидкость в отстойниках все-таки пахла, однако бриз уносил миазмы, и определенно в сторону старого центра, опасался Далмау. В столь ранний час на бульваре не было молодых буржуазок, выставлявших себя напоказ. Вместо них булочники разносили хлеб по домам, подходили к дверям водоносы; служанки, в большинстве своем красивее и свежее, чем их хозяйки, спешили за покупками с корзинками на сгибе локтя; рабочие, чаще всего каменщики, шли кто куда; посыльные из магазинов, мальчишки и девчонки, спешили доставить заказы, и целые полчища нищих и убогих выстраивались в очередь перед задней дверью какого-нибудь богатого дома, ибо там был день раздачи милостыни.
– Военное положение! – Крики сорванца, продававшего газеты, вывели Далмау из задумчивости. – Военное положение в Барселоне! – вопил парнишка во всю силу легких.
Далмау подошел к нему.
– Дай мне номер, – попросил он, как и многие другие, то и дело подбегавшие к продавцу газет.
Сорванец, нагруженный газетами, раздавал их, собирал деньги и при этом не переставал кричать, чтобы привлечь побольше покупателей.
– Гражданский губернатор передал власть военным!
Далмау стал жадно читать. Все верно! Продавец выкрикивал дальше:
– Не в силах совладать с рабочими волнениями, гражданский губернатор передал всю полноту власти в городе в руки военных! Генерал-капитан объявляет чрезвычайное положение! Действие гарантий и гражданских прав приостанавливается!
Далмау вышел из толпы, жаждавшей прочесть первый утренний выпуск газеты, и вот, словно подкрепляя непрекращающиеся вопли мальчишки, вверх по Пасео-де-Грасия двинулся трамвай в сопровождении отряда кавалеристов с саблями наголо.
В течение дня кое-где еще происходили отдельные стычки, но, когда из других городов Каталонии прибыло подкрепление, забастовка захлебнулась, боевой дух упал и все вернулись к нормальной жизни, хотя военное положение никто не отменил.
На фабрике Далмау погрузился в работу над рисунками для изразцов по японским мотивам. Настал час обеда, и после того, как Далмау в очередной раз не откликнулся на зов, учитель велел одному из подмастерьев встряхнуть его хорошенько и сказать, что его ждут во дворе, в экипаже: дон Мануэль приглашает ученика обедать к себе домой. Учитель часто так делал. Он жил на Пасео-де-Грасия, как уважающий себя богатый промышленник, в огромной квартире с высоченными потолками, неподалеку от улицы Валенсия. Далмау мог бы дойти туда пешком, но учитель предпочитал ехать в экипаже, куда поднимался и откуда выходил с таким видом, будто собирается подняться по лестнице Королевского дворца в Мадриде, а внутри располагался так, словно сидел в лучшем из ресторанов. Он постучал в потолок экипажа серебряным набалдашником трости, и кучер отпустил поводья.
Они еще не выехали со двора, как дон Мануэль воздел руку и в очередной раз указал Далмау на его костюм.
Далмау в очередной раз пожал плечами.
– Я хорошо плачу тебе, даже очень хорошо, – продолжал давить хозяин. – Ты мог бы одеваться соответственно.
– Простите, дон Мануэль, но я всегда так ходил. Вам лучше, чем кому бы то ни было, известно, что я из простой семьи. Не вижу себя барчуком.
– Не о том речь. Хорошие брюки, рубашка и пиджак, приличная шляпа вместо этой… – дон Мануэль ткнул пальцем в шапочку, которую Далмау мял в руках, – этой шапки босяка, и, к примеру, моя обожаемая супруга тебя допустит к столу.
Далмау выдвинул те же доводы, что и каждый раз, когда учитель указывал на его бедную одежду и на возможность обедать с его супругой и двумя дочерьми – маленького сына все еще кормила нянька, – а время от времени также и с преподобным Жазинтом, монахом-пиаристом[6], преподающим в Благочестивой школе Святого Антония; сидеть за огромным столом красного дерева в столовой, где прислуга разносит блюда, серебряные приборы и льняные салфетки лежат по сторонам великолепных, ярких фарфоровых тарелок, а рядом стоят тонкие, резные хрустальные бокалы, которые, опасался Далмау, треснут и расколются от одного только неосторожного взгляда.
– Дон Мануэль, вы же знаете, что я не смогу соответствовать вашим ожиданиям, тем более требованиям доньи Селии. Не хотелось бы доставлять вам неприятности. Я не так воспитан, – в очередной раз повторил он.
– Ну да, ну да… – согласился учитель. – Но твоя одежда… – не отставал он, снова показывая пальцем. – Ладно, для мастерской она подходит. Но ты – второй рисовальщик на фабрике! Первый после меня. Ты должен показывать пример.
Еще один постоянный припев дона Мануэля. Далмау пристегнуть воротничок? Может, тот самый, какой сшила его мать при мутном свете, сочащемся сквозь окно их квартиры на улице Бертрельянс. Нет. Никогда не наденет он эти воротнички и манжеты, рубашки, пиджаки и брюки, на которые его мать потратила жизнь! Далмау с грустью вспоминал детские годы, прошедшие под стук педали швейной машинки. От назойливого ритма, который достигал каждого уголка в их крохотном жилище, он иногда просыпался в испуге.
– Мне в такой одежде неловко, дон Мануэль, – отвечал он вежливо, но твердо. – Так я не могу сосредоточиться на работе. Мне жаль.
Не дожидаясь ответной реплики, Далмау отвернулся к окну и стал рассматривать город. В эти часы в Эшампле, богатых кварталах, где они проезжали, благодаря чрезвычайному положению, объявленному генерал-капитаном, царил полный покой. Далмау приметил солдат, которые лениво грелись на весеннем солнышке и пялились на проходящих женщин, вместо того чтобы подавлять забастовку и несуществующие волнения. Он подумал об Эмме и Монсеррат: девушки, должно быть, вернулись к работе – одна в столовую, другая на фабрику. Обе, как и большинство рабочих, сказал себе Далмау, и негодуют, и унывают из-за вмешательства военных. Вечером он встретится с ними, улыбнулся Далмау, и тут умолкли понуканья кучера и цоканье копыт: пара лошадей замерла перед многоквартирным домом на Пасео-де-Грасия, где жил учитель со своим семейством. Далмау настоял на том, чтобы дон Мануэль вылез из экипажа первым, иначе пришлось бы помогать учителю, а тот, без всякой нужды опираясь о его руку или повышая голос, прилюдно подчеркивал бы его подчиненное положение, обращаясь с ним как с прислугой, раз уж он не желает сменить костюм. Ибо чуть позже, в просторном буржуазном доме, с высокими, отделанными плиткой потолками, полном мебели, картин, скульптур и прочих вещиц, полезных или бесполезных, дон Мануэль будет по-другому обходиться с Далмау.
Расположение, какое оказывал учитель Далмау, не разделяла донья Селия, его супруга, и никогда не скрывала своего презрения к скромному, к тому же и бунтарскому, происхождению юноши. Для этой женщины ничего не значил талант к живописи, проявившийся у сына анархиста, приговоренного за террор. «Наверняка найдутся тысячи мальчиков, столь же одаренных, как этот, пусть даже из бедных семей, – проповедовала она перед доном Мануэлем. – Я ничего не имею против рабочих, если они правоверные католики, а не безбожники, как этот парень». То, что его супруга встречала Далмау с кислой миной, ничуть не заботило дона Мануэля, поскольку приглашения на обед преследовали одну-единственную цель: узнать мнение юноши о работе, которой учитель занимался не на фабрике, а в мастерской, устроенной в одной из комнат квартиры. Он писал картины. К керамике это не имело ни малейшего отношения. Обычно пейзажи, хотя иногда отваживался на сюжет из священной истории или даже на портрет. Дон Мануэль был выдающимся живописцем, признанным не только в Каталонии, но и во всей стране. Кроме того, он занимался культурной и общественной деятельностью, и эти свои многообразные занятия сочетал с преподаванием в Льотхе. Там он распознал, затем уверившись в своей правоте, блестящие способности юного Далмау, которого только что не усыновил. Даже помогал деньгами, когда отец его умер в изгнании после суда в Монжуике, пародии на правосудие: власти воспользовались взрывом бомбы в 1896 году во время процессии на празднике Тела и Крови Христовых у церкви Санта-Мария дель Мар, чтобы истребить анархистское движение. То, что отец Далмау был революционером-анархистом, не волновало дона Мануэля, наоборот: он усматривал возможность, приложив усилия, привлечь сына неистового либертария и террориста к истинной вере и христианской доктрине.
Еще до того, как Далмау кончил курс в Льотхе, дон Мануэль нанял его на фабрику учеником. Цель – узнать все, что только возможно, об изготовлении изразцов, а главное – об их применении в строительстве. Промышленники не могли допустить, чтобы неумелые укладчики свели на нет хорошую работу и чтобы в конечном итоге подрядчик приписал изготовителю изразцов дефекты, обнаруженные в процессе строительства. Далмау жил во времена, когда появился уже портланд-цемент и в укладке плиток произошла революция. Он усвоил, что, если накладываешь плитку на пол или на стену, требуется разная толщина песчаного слоя; кладя плитку на лестницу, нужно учитывать борта для опоры; если покрывать плиткой деревянный пол, нужно сначала обработать дерево, а потом покрыть его слоем цемента. Усвоил также, сколько времени нужно отмачивать плитки, прежде чем выкладывать их; и что надо начинать с центра комнаты, оставляя стыки со стенами напоследок. В общем, научился всему, что нужно знать об укладке изразцов и мозаик, и в девятнадцать лет собственными силами добился того, что стал первым дизайнером и рисовальщиком после учителя. Не обошлось, конечно, без зависти и обид, многим на фабрике нелегко было подчиняться юнцу, который даже не носил пиджака и шляпы и совсем недавно ползал на коленях рядом со всеми, но Далмау вскоре показал свои умения, и жалобы затихли.
Донья Селия фыркнула и взглянула исподлобья, когда Далмау следом за учителем прошел через гостиную, направляясь в его мастерскую.
– Добрый день, сеньора, – тем не менее поздоровался он. – Сеньориты, – слегка кивнул двум дочерям учителя. Девушки, моложе Далмау на год или на два, убивали время, апатично сидя у широких окон, выходящих на Пасео-де-Грасия.
Маленький сын учителя, должно быть, в игровой комнате, предположил Далмау.
Урсула, старшая из сестер, ответила на приветствие загадочной улыбкой, которая взбудоражила Далмау. Не в первый раз подмечал он эту улыбку, взгляд из-под чуть опущенных век: мгновение бесстыдства, какое позволяла себе девушка, стараясь, чтобы никто другой на нее не смотрел и этого не заметил, говорило Далмау о чем-то гораздо большем, чем простое мимолетное приветствие.
– Далмау!
Оклик учителя, который стоял уже перед дверью своей мастерской, прогнал эти мысли.
– Что думаешь? – спросил дон Мануэль, напыщенным жестом показывая свое последнее творение. – Хочу преподнести это новому епископу в честь его прибытия в город.
«Реально, слишком реально» – мог бы сказать Далмау. Но промолчал и сделал вид, будто пристально рассматривает картину. Ему не требовалось слишком в нее вникать. Картина хорошая… но устарелая, вроде тех темных полотен, какие можно видеть внутри храмов. Городской пейзаж, на котором выделяется церковь, на переднем плане две скромно одетые женщины, готовые войти вовнутрь. Но не хватало света; света, унаследованного от импрессионистов, с которым даже соратники учителя в конце концов стали заигрывать. Может, новому епископу картина понравится. Она была овеяна ностальгией. Не выражала почти никаких чувств, кроме благочестия и религиозного пыла. «Что думаешь?» Всегда одно и то же: выскажешь суждение, и создашь себе проблемы. А он был связан с учителем. Дело было не только в работе на керамической фабрике. В январе этого года в Барселоне прошла жеребьевка среди юношей, достигших девятнадцати лет, которым предстояло пополнить ряды армии. Судьба не была благосклонна к Далмау, на его имя выпал жребий. Двенадцать лет посвятить армии! Первые три года действительной службы на казарменном положении, еще три в запасе первой очереди и остальные шесть в запасе второй очереди. Крах для любого молодого человека, который по меньшей мере на первые три года действительной службы вынужден бросить образование, привычную жизнь, работу, часто незаменимую в скудном бюджете рабочей семьи. Хосефа, мать Далмау, узнав новость, чуть не лишилась чувств; Монсеррат и Эмма обрушили свой гнев на государство, армию, богачей и попов, потом обе расплакались, Эмма – безутешно, ведь она понимала, что теряет жениха. А дон Мануэль Бельо посетовал, ругнулся, не выходя за рамки приличий, как и следует доброму христианину, подумал несколько мгновений, немного попыхтел и предложил Далмау взаймы сумму, необходимую для выкупа: заплатив ее, богатые освобождались от военной службы, а те, кто не располагал средствами, залезали в долги: полторы тысячи песет золотом!
Далмау переговорил со своими. Те приняли, хотя и считали учителя оголтелым католиком, буржуа, капиталистом, денежным мешком: он олицетворял все то, против чего они до сих пор боролись. Отец Далмау, Томас, был несправедливо осужден и погиб. Дон Мануэль служил живым воплощением власти, угнетающей рабочих, обкрадывающей их и эксплуатирующей, и против этой власти сейчас поднималась на борьбу молодежь.
– А ты сам, сынок, что думаешь? – спросила Хосефа, заставив девушек замолчать.
Далмау вытянул руки, показал ладони.
– Я только хочу рисовать, писать картины и оставаться с вами, – проговорил он. – И какая разница, тот, другой или третий одолжит мне полторы тысячи песет, чтобы откупиться от армии?
Они подписали договор о займе, составленный адвокатом дона Мануэля. Уселись втроем за длинный стол, предназначенный для куда более многочисленных собраний. Встреча заняла больше времени, чем было необходимо для подписания документа, который адвокат теребил в руках, будто какую-то бумажку, не имеющую значения, пока они с учителем беседовали о своих семьях и прочих обыденных вещах, словно и не замечая присутствия Далмау. Наконец, будто осознав вдруг, что понапрасну теряют время, оборвали разговор и занялись займом. Адвокат просмотрел документ, составленный помощником. «Как и следует. Как положено. Хорошо. Верно», – приговаривал он походя.
– Повезло тебе, парень, – сказал он Далмау, показывая пальцем, где подписать, – что у тебя такой щедрый учитель, как дон Мануэль.
Далмау должен был в счет долга возвращать по сто песет в год, учитывая проценты; это ему сообщил адвокат. Он так и не прочел весь договор, слишком много в нем было страниц, и, дав его на подпись матери, поскольку в свои девятнадцать лет еще считался несовершеннолетним, положил в папку для документов, а копию, предназначенную для учителя, прихватил с собой на работу, чтобы вручить ему. Какая разница, что написано в договоре? Он работал на дона Мануэля, тот платил хорошо, и именно человеку, который платил ему, Далмау был должен деньги.
И теперь нужно высказать суждение о картине, написанной человеком, благодаря которому он не заперт в казарме где-нибудь на просторах Испании. Картина ему не нравилась, он находил ее темной и устарелой, она не вызывала у него никаких чувств. Но мог ли он высказать свое истинное суждение? Надо было найти что-то такое, что не звучало бы как откровенная ложь.
– Кажется, будто слышишь молитвы, исходящие из уст этих двух прихожанок, – проговорил он со значением, хотя и тихим голосом, будто не желая прерывать молящихся.
Дон Мануэль расплылся в блаженной улыбке, которую не скрыли даже бакенбарды и пышные усы, весь прямо раздулся от гордости.
Тем же вечером Далмау бездумно брел среди толпы по кварталу Сан-Антони. Он попросил Пако пораньше зайти к нему, и старый сторож охотно выполнил свою задачу, притушив газовые лампы в мастерской, в то время как юноша все еще был погружен в работу.
– Что случилось? – возмутился Далмау, увидев, что его прервали.
Вспомнив, улыбнулся, забросил на вешалку халат и направился в столовую, где работала Эмма, заведение, расположенное на улице Тамарит, недалеко от рынка и от фабрики дона Мануэля в квартале Лес-Кортс: идти туда было около получаса, если не торопиться, все время прямо, по направлению к морю. Иногда, если солнце еще светило над Барселоной, Далмау делал крюк, проходил часть пути по проспекту Диагональ и спускался в старый город по Пасео-де-Грасия или Рамбла-де-Каталунья, любуясь зданиями в стиле модерн и гуляющими по улицам богатеями. Но в сумерках, как сейчас, ему больше нравилась атмосфера бедных кварталов, постоянное движение, грохот, доносящийся с мебельных фабрик и столярных мастерских. В квартале Сан-Антони, не то что в Лес-Кортс, расположенном дальше от центра города, было всякой твари по паре: портные, шорники, цирюльники и лудильщики, чьи заведения перемежались со шляпными фабриками, скорняжными мастерскими, где стригли кроличьи шкурки; заводами, где гнали ликеры или водку; фабриками по производству ламп, кузнями…
Квартал Сан-Антони имел границы, четко обозначенные в административном регистре, но обычно считалось, что он охватывает обширную зону от снесенной Барселонской стены, от которой остались ворота Сан-Антони и окружная дорога, до скотобойни по левому краю; верхним пределом полагали улицу Кортес или даже забирали еще выше; проспект Параллель и площадь Университета ограничивали квартал соответственно снизу и справа. Весь он составлял часть барселонского Эшампле, района новой застройки: после сноса стен освободилась прилегающая к ним территория, которую раньше нельзя было застраивать из соображений обороны.
Но, в отличие от Пасео-де-Грасия, Рамбла-де-Каталунья и прилегающих улиц, где богатые буржуа старались перещеголять друг друга, воздвигая здания в неоклассическом стиле, а теперь и в стиле модерн, Сан-Антони представлял собой скопление самых разных предприятий, больших и малых, вперемежку с безликими жилыми домами и еще не застроенными участками. Внутренние части кварталов, которые согласно первоначальному градостроительному замыслу Серда[7] предназначались для садов и площадок для отдыха, занимали мастерские и жалкие хибары, выстроившиеся вдоль дорожек, ведущих к центру этих обширных дворов.
Люди беспрерывно входили и выходили из домов и мастерских, спокойно, как ни в чем не бывало, будто и не объявлялось чрезвычайное положение, за исполнением которого лениво следили расхаживающие по району солдаты. Трамваи, повозки, запряженные мулами, извозчики, всадники, велосипедисты сновали с опасностью для жизни по немощеным дорогам, поднимая тучи пыли. Крики, смех, а порой и ругань разносились по улицам, вместе с тысячами запахов, плывущих по воздуху: соленая рыба; кислоты, серная или азотная, от которых перехватывало дыхание; спиртное, уксус, удобрения, жиры, выделанные шкуры самых разных животных… Далмау ощущал, как все его чувства возбуждаются, воспринимая свет, цвета, людей, запахи, шум, грохот, веселье… Хорошо бы написать это, прямо здесь, уловить ощущения и перенести их на холст, вперемешку, так, как он это чувствует: яркие вспышки, выстрелы жизни. К столовой «Ка Бертран», где работала Эмма, он подошел в необычайном состоянии, которое никак не мог определить: то ли ему приятно, то ли беспокойно.
Столовая «Ка Бертран» представляла собой одноэтажное здание из бросовых материалов; в просторном зале в три ряда стояли столы; крыша с двух сторон покоилась на колоннах, и ряды столов продолжались под открытым небом, выходили на участок, граничивший с мыловаренным заводом. В столовой, как всегда, было полно народу: тут подавали дешевую еду для обитателей бедного квартала. Всего за тридцать сентимо дочери Бертрана предлагали клиентам щедрую порцию бобов с небольшим количеством мяса или трески, хлеб и вино. Доплатив еще несколько сентимо, можно было выбрать эскуделью, то есть суп на бульоне и выбранные из него мясо и овощи. Далмау окинул взглядом переполненный зал. Эммы он не обнаружил, зато Бертран спокойно стоял в углу, присматривая за работой заведения. Опровергая расхожее мнение о том, что хозяева столовых наедают себе пузо, Бертран был тощий. Увидев Далмау, он улыбнулся и мотнул головой в сторону кухонь. Далмау тоже кивнул хозяину и направился туда; юноша пользовался в заведении некоторыми привилегиями не только как жених Эммы, но и благодаря нарисованному углем портрету жены Бертрана и его двух дочерей: тот уверял, что портрет занимает почетное место в столовой у него дома.
Далмау зашел в кухни, расположенные с краю. Через какое-то время после первого портрета Бертран попросил сделать другой, свой собственный, и тот висел прямо за дверью, над стойкой, где держали напитки и пересчитывали деньги. Четыре или пять человек метались по кухне, но Эммы среди них не было. Было непонятно, как на таком малом пространстве удается приготовить столько еды, сколько подается в зале: четыре экономичных плиты из чугуна, с четырьмя круглыми конфорками каждая; все они топились углем. Все конфорки горели, на них – железные сковородки, миски и кастрюли. В углу был очаг, над ним, на цепи с крюком, висел огромный котел, в данный момент бурлящий.
– Она на улице, чистит посуду, – мимоходом сообщила одна из дочерей Бертрана. В столовой работала вся семья.
– Не стой тут столбом! – накинулась на него вторая.
– Забирай свою невесту и не путайся под ногами, – заключила мать повелительным тоном.
Далмау подчинился и вышел на задний двор, где складывали уголь и копилась всякая ненужная утварь, которую Бертран упорно хранил. Надвигалась ночь. От солнца оставалась красноватая полоса, и это оживило в юноше чувства, с какими он подходил к столовой. Он вроде бы узнал Эмму в девушке, стоявшей против света, спиной к нему, склонившись над кучей песка, которым она драила грязные тарелки. Двое мальчишек, явно за объедки от ужина, помогали ей. Далмау тихо подошел, обнял девушку за талию и крепко прижался к ее ягодицам.
– Эй! – крикнула Эмма, резко выпрямляясь.
Далмау не выпустил ее.
– Если бы ты не удивилась, я бы забеспокоился, – шепнул он ей на ухо, прижимаясь еще крепче.
– Я всегда так реагирую, когда меня атакуют сзади, – рассмеялась Эмма. – А вы продолжайте драить! – прикрикнула она на мальчишек, которые уставились на парочку, забыв обо всем.
Далмау потерся о нее набухшим членом.
– Почему бы нам не пойти куда-нибудь?.. – предложил, целуя ее в шею.
– Потому, что нужно закончить с посудой, – перебила она.
Эмма снова наклонилась, и Далмау прилип к ее бедрам, настойчивый, сильный; она высыпала горсть песка на грязную тарелку и стала оттирать остатки еды. «Да уймись ты!» – крикнула Далмау, который теперь пытался нашарить ее груди. Бросила грязный песок с объедками в другую кучу. Песок был мягкий, липкий, какого полно на горе Монжуик. «Хватит!» – повторила, чувствуя, как Далмау сжимает ей грудь. Убедившись, что на тарелке не осталось объедков, прополоскала ее в тазу.
– Может, эти двое продолжат? – предложил Далмау.
– Ну да: стоит мне отвернуться, как они сопрут тарелки, таз и даже песок. Потерпи, осталось немного… только не мешай работать. Понял?
Далмау не отошел, но ослабил объятие, чтобы Эмма могла мыть посуду.
– Взял бы да помог, – с укором сказала та.
– Я? Художник? – рассмеялся он. – Мне пачкать руки…
– Сказать тебе, в чем выпачкаются эти руки сегодня ночью? – спросила она лукаво.
С помощью Далмау они управились быстро и распрощались с Бертраном, его женой и дочерьми, поспешно, чтобы не слушать их шуточки. Направились к дому Эмминого дяди, где она жила с тех пор, как осталась сиротой.
– Он сегодня на бойне в ночную смену, – успокоила она Далмау.
– А твои кузены?
Эмма пожала плечами:
– Если они появятся, то поймут. А если не поймут, потерпят.
То была квартира в доходном доме, одном из тысяч, богатеи строили их в барселонском Эшампле, чтобы сдавать жилье рабочим, которые все прибывали из разных мест в большой город в поисках лучшей жизни. Кирпичные строения, «дома из лестниц», как их называли вначале, а затем – «конструкции по-каталонски»; их воздвигали с максимальной экономией, хлипкие кирпичные стены несли на себе до восьми этажей. Прорабы, работавшие на строительстве этих домов, уверяли, что их несущие стены – самые тонкие в мире, по отношению к весу, который они должны удерживать.
Квартиры были неравноценные, их качество понижалось по мере того, как повышался этаж. На парадном, или главном этаже, сразу над магазинами, выходящими на улицу, жил владелец. Высокие потолки, просторный балкон, широкие окна… По мере того как этажность росла, квартиры становились более тесными, окон меньше, потолки ниже, балконы у´же; на самых верхних балконов вообще не было, и, разумеется, качество стройматериалов тоже постепенно ухудшалось.
Квартира Эмминого дяди располагалась наверху, и все равно она была просторнее, в ней было больше воздуха, чем в жилищах старого центра. Эмма приперла дверь одной из спален, той, которую она делила с кузиной, зажгла пару свечей, повернулась, с силой пихнула Далмау, и тот, продолжая тискать ее груди, споткнулся, зашатался и сел на кровать. Эмма встала перед ним и притянула его голову к низу своего живота.
– Ну и где твой пыл? – спросила, продолжая тереться об него животом.
Далмау встал на колени, сунул голову под передник и юбку и, стиснув ее ягодицы, принялся лизать, сначала бугорок, потом вульву. Пока Далмау шуровал под ее одежками, Эмма, как будто ей недостаточно было наслаждения, какое юноша ей доставлял, ласкала себя, все свое тело: живот, груди, шею… Наконец достигла оргазма, издав сдавленный крик.
– Разденься, – поторопила она Далмау.
Сама сняла всю одежду, обнажив полные, крепкие груди с поднятыми кверху сосками, плоский живот, тонкую талию, округлые бедра. Чувственная, сложенная на диво. «У тебя хорошая кость», – говорил Далмау, сопровождая комплимент шлепком по заду. Дядя работал на бойне, а сама Эмма – в столовой, потому она и питалась лучше, чем большинство жителей Барселоны. Как всякий раз, когда видел ее обнаженной, Далмау замотал головой, глазам своим не веря, в экстазе от почти нереального совершенства.
– Такая красота, – восхитился он. – Волшебная красота.
При слабом свете двух свечей улыбка блеснула на влажном от пота лице Эммы. Строгий овал, большие карие глаза, пухлые губы, немного выступающие скулы и словно выточенный из камня прямой нос, по форме которого можно было догадаться о ее решительном, независимом нраве. Вряд ли кто-то мог ошибиться на ее счет.
– Ты тоже ничего, – отозвалась она, поглаживая его напряженный член. – Резинка есть?
– Нет, – посетовал Далмау.
– У тебя было полно времени, чтобы ее достать, – ворчала она, опрокидывая Далмау на спину. Потом уселась на него верхом, приладилась, помогая рукой. – Предупреди, как станешь кончать, – попросила, начиная ритмично двигаться, одновременно пощипывая ему соски обеими руками. – Не предупредишь – убью.
Далмау схватил ее за талию, привлек к себе, чтобы не сбиться с ритма.
– Люблю тебя, – шепнула Эмма с закрытыми глазами, прервав на миг вздохи и стоны. Она задрала голову, выгнулась, чтобы полней ощутить его внутри себя, усилить наслаждение.
– И я тебя тоже, – ответил Далмау.
– Как сильно любишь? – спросила она за миг до того, как судорога охватила все ее тело.
– Сполна, сполна…
Эмма застонала.
– Врунишка, – бросила ему потом.
– Ах, так?
Далмау налег с силой, будто желая пронзить ее. Эмма вскрикнула. Толчок, еще толчок… Предупреждать было не обязательно. По судорожным его движениям Эмма догадалась, что он вот-вот кончит. Сошла с него, встала на четвереньки, помогла губами.
Оба, потные, запыхавшиеся, рухнули на постель. Далмау обнял Эмму за шею, привлек к себе, и она, утомленная, положила голову ему на грудь. Он слушал, вне себя от счастья, как выравнивается ее дыхание. Эмма… Он улыбнулся, подумав, что они с детства знакомы. Да, ведь уже тогда время от времени его сестра в шутку дразнила их женихом и невестой, особенно Эмму, которая краснела и отводила взгляд. Чего еще могла желать Монсеррат, как не того, чтобы ее любимый братец женился на ее лучшей подруге? В какой-то день, какой-то определенный миг Эмма перестала быть девчонкой, подружкой его сестры, дочерью товарища их отца и превратилась в женщину чувственную и привлекательную, независимую, работящую, сильную и умную. Далмау не мог точно сказать, когда и как это произошло. Он часто об этом думал: не только великолепие тела побудило его по-другому взглянуть на Эмму. Может, какая-то реплика в разговоре, четкая, сухая, резкая; или какая-то шутка, или искренний, беззаботный смех, далекий от всякого притворства. Может, это случилось, когда он увидел, как Эмма работает в столовой, или тем вечером, когда она неожиданно нагрянула в квартиру его матери с кастрюлей тушеного кролика, приправленного чесноком и петрушкой. «Ужинать!» – позвала она Хосефу, Монсеррат и Далмау. Может, причиной была отвага, с какой она на улицах боролась за права бедноты. Или запах с едва заметной ноткой корицы, который он однажды вечером ощутил и который поразил его с обескураживающей силой: та ли эта Эмма, какая была вчера? Нет, Далмау не мог точно определить момент, когда влюбился в свою… богиню.
Он прижал к себе Эмму, которая забавлялась, накручивая на палец волосы, росшие у него на груди, а потом резко дергая их и вырывая. «Дурочка!» – ругал ее Далмау. А что она?
– Я всегда была влюблена в тебя, – призналась Эмма однажды, когда они затронули эту тему.
– Всегда? Но почему? – пытался докопаться Далмау.
– Я была еще совсем маленькая. Но думаю, меня уже тогда привлекала твоя способность тонко чувствовать. Помнишь картинки, которые ты рисовал для меня? – спросила Эмма, и Далмау кивнул. – Они тогда были очень плохие… – Эмма засмеялась. – Но я их все сохранила.
Она так и не показала Далмау те рисунки. «Вдруг ты надумаешь у меня их отобрать, – сказала она. – Вы, художники, на все способны». Далмау долго лежал и слушал дыхание Эммы, а та теребила ему волосы на груди и время от времени за них дергала.
– Знаешь что-нибудь о моей сестре? – спросил он наконец.
1
Замок трех драконов (Castell dels Tres Dragons) – сегодня в нем расположен Зоологический музей Каталонии. – Здесь и далее примеч. перев.
2
Дом Амалье (Casa Amatller) называется по имени владельца, кондитера Антонио Амалье, который и заказал реконструкцию дома архитектору Пуч-и-Кадафалку.
3
Школа живописи, архитектуры и прикладных искусств в Барселоне.
4
Беспризорники (каталан.).
5
Запеченная треска, каталонское блюдо.
6
Пиаристы – католический монашеский орден, занимающийся обучением и воспитанием детей и молодежи; другое название – пиары. Название произошло от Scholaе piaе («Благочестивые школы»).
7
Ильдефонс Серда-и-Суньер (1815–1876) – испанский градостроитель, автор проекта расширения Барселоны.