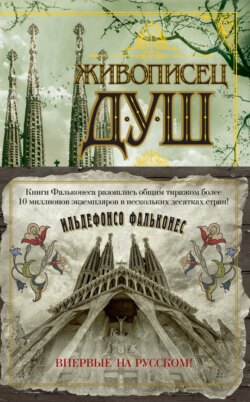Читать книгу Живописец душ - Ильдефонсо Фальконес - Страница 7
Часть первая
5
ОглавлениеЭмма обходила зал, неся поднос, нагруженный грязной посудой, которую она собирала со столов. Шла медленно, осторожно, стараясь, чтобы стаканы и тарелки не стукались друг о друга. Но вдруг, когда она проходила мимо стола, за которым сидели четверо рабочих, один из них с силой шлепнул ее по заду. Девушка споткнулась и выпустила поднос. Стаканы, тарелки и плошки разлетелись по полу, многие разбились вдребезги. Эмме было не до катаклизма: она прижала руку к ягодице и, вся красная от стыда, повернулась к обедающим.
– Кто это был? – закричала она. – Как ты смеешь?
Мужчины, сидевшие за столом, хохотали во все горло. Бертран быстро подбежал к ним.
– Леон, – обратился он к одному завсегдатаю, рабочему с мебельной фабрики, нахалу и забияке, – мне здесь не нужны скандалы! У меня приличное заведение.
– Приличное? – возопил мастеровой, развернул большой лист бумаги и показал Бертрану.
Эмма увидела, как побледнел хозяин. А рабочий встал, прижал лист к груди, развернув его до колен, и стал поворачиваться в разные стороны, чтобы люди с других столиков тоже посмотрели. Свистки, аплодисменты, непристойности и грубые словечки, какими приветствовали картинку неотесанные работяги, пришедшие сюда пообедать за несколько сентимо, загудели у Эммы в ушах, когда она узнала на рисунке себя, нагую, в вызывающей, совершенно похабной позе. У нее подкосились ноги, закружилась голова. Все вокруг вращалось с бешеной скоростью, и она уже не слышала гвалта. Она начала падать, но мужчина, сидевший за столиком Леона, ее подхватил.
– Раздевайся! – крикнул кто-то.
– Юбки, задери ей юбки!
Мужчина, не давший Эмме упасть, одной рукой поддерживал ее за талию, а другой похотливо ощупывал грудь.
– Молодчина!
– Покажи нам сиськи! Настоящие! – подстегивал кто-то еще.
Бертран остолбенел. Его жена Эстер и одна из дочерей, привлеченные скандалом, вызволили Эмму из рук работяги.
– Уведи ее, – велела мать, обращаясь к дочери. – На кухню. Живее!
– Ну нет! – хором взвыли клиенты.
– Пусть оголится, как на картинке.
– Шлюха!
– Дай сюда, – подступила к Леону повариха.
– И не подумаю, – воспротивился тот, пряча рисунок за спину. – Мне это стоило моих кровных денежек.
– Где ты это взял? – наконец-то пришел в себя Бертран.
– Где купил, ты хочешь сказать. В борделе Хуаны! – громко расхохотался он. – Там и другие картинки продавались, но мне приглянулась эта.
И пока он снова вертелся, распаляя собравшихся, Эмма сникла окончательно, услышав слова Леона буквально на пороге кухни: были и другие картинки, и к тому же их продавали в борделе.
– Ну хватит! Довольно, – потребовал Бертран. – У меня…
– Приличное заведение? – прервал его Леон под новый взрыв хохота. – У тебя работает девка, которая выставляется голой в… Выставляется голой, как последняя мочалка! – выкрикнул он наконец.
– Должно быть какое-то объяснение, – вклинилась Эстер; прежде чем идти следом за Эммой, она велела другой дочери подобрать все с пола.
Объяснения не было. Во всяком случае, такого, которое удовлетворило бы Эстер: она и ее муж, скромные владельцы столовой, гордились тем, что достигли определенной ступени, заняли место, пусть невысокое, среди городской буржуазии, и очень дорожили этим. Каталонцы к тому же и, разумеется, католики. «Ты позволила нарисовать себя в таком виде? – изумилась женщина, когда Эмма, сидя на корточках, закрыв руками лицо, на все ее расспросы только кивала. – Но… но… что за отношения были у тебя с женихом, девочка? Вы… предавались разврату?» Обе дочери Бертрана, разинув рты, ловили каждое слово; отец тоже вслушивался, стоя в дверях кухни и одновременно присматривая за залом.
– Мне так жаль, так жаль, так жаль… – рыдала Эмма.
Одна из дочерей, желая утешить плачущую, склонилась, чтобы обнять ее за плечи. Мать яростно вцепилась в нее, заставила подняться и оттащила на несколько шагов.
– И нам жаль, Эмма, – изрекла она, – но тебе придется покинуть этот дом.
Бертран напрягся. Но взгляда, который бросила на него жена, было достаточно, чтобы он прикусил язык. Дочери удивленно переглянулись. Эмма отвела ладони от лица и взглянула на Эстер.
– Вы меня увольняете? – медленно, в изумлении спросила она.
– Разумеется, – жестко отвечала хозяйка. – Мы не можем здесь допустить такого неприличия. Рассчитай ее, Бертран, – добавила она, направляясь к мужу. – Вы займитесь готовкой. А ты собери свои вещи и приходи за деньгами. Молчи, – проговорила она сквозь зубы, когда они с мужем вместе выходили из кухни. Народ уже успокоился, слышался только обычный гул голосов, кое-где крики и взрывы хохота. – Знаю, нелегко ее прогонять, – продолжала женщина, – но дело не только в этом рисунке… или в тех, какие могут еще появиться. Ты не замечаешь, что Эмма заменяет твоих дочерей на кухне? Им вольготнее вдали от плиты, они болтают с людьми, дурачатся, флиртуют. Подавальщиц мы всегда найдем, таких или сяких, а вот хороших кухарок мало, и надо воспользоваться случаем. Мы должны научить дочек всему, что умеем: кто меня заменит, если со мной что-нибудь случится? Кто продолжит это дело, когда мы состаримся?
– Но ее дядя… Мясо со скотобойни… – засомневался Бертран.
– Себастьян все прекрасно поймет. Думаешь, ему понравится, если народ побежит сюда с картинками, честя его племянницу шлюхой и хватая ее за задницу? Того гляди, он сам ее из дома выгонит.
– Он анархист, почти такой же, каким был его брат, а ты знаешь, что они думают относительно секса и всяческих свобод.
– Да-да-да, милый мой, – язвительно отвечала Эстер. – Пока это их самих не коснется, их собственной плоти и крови. Анархист или нет, он почувствует унижение.
Бертран со вздохом кивнул.
Эмма выскользнула на задний двор, потом через калитку в стене выбралась на улицу. Бертран при расчете не вычел стоимость разбитой посуды. Худой, суетливый, он избегал смотреть ей в глаза. Поджал губы и пожелал удачи. От Эммы будто оторвали часть ее существа, жизни, рутины, она вдруг попала в водоворот сновавшей по улицам толпы, и никому не было дела до ее несчастья. Увернувшись от повозки, которую тащил хромой мул, она влилась в людской поток и понемногу удалилась от столовой. Все ей казалось чужим, враждебным. Она возвращалась домой в неурочный час. Что ей делать там взаперти? Дядя Себастьян, наверное, спит после ночной смены на скотобойне. Она задрожала при одной мысли о том, что придется объяснить дяде и кузенам, откуда взялись эти рисунки. Роса знала, ей она рассказала, ведь если делишь с кем-то небольшую кровать, это располагает к доверию и интимным излияниям. Представив, как дядя и кузены разглядывают ее наготу, она покрылась холодным потом. Зачем?! Зачем?! Зачем Далмау их продал? Неужели настолько возненавидел ее? Она остановилась посреди улицы, сжала кулаки, крепко, так что ногти вонзились в ладони. «Негодяй!» – проговорила она сквозь зубы. Шедшим позади приходилось огибать ее. На этой самой улице, может быть, на другой, поблизости, Далмау преследовал ее, просил прощения. Может быть, думал, что так легко простить удар кулаком, который она от него схлопотала? Нет, ни за что, даже если учесть, что он в тот вечер был в стельку пьян. И потом, Монсеррат. Она не могла отделаться от чувства вины, и по ночам ее преследовало видение: баррикада, голова подруги, развороченная пулями. Но Далмау не желал брать на себя ни малейшей ответственности, хотя именно он запустил конфликт, попросив ее заменить подругу на уроках катехизиса. «Предательница!» – именно поэтому выкрикнула Монсеррат перед смертью. Далмау должен был передумать, исправиться, умолять тысячу и один раз, чтобы получить прощение, а он вместо этого пропал, сделав несколько попыток; не упорствовал. И теперь рисунки. Эмма не понимала, как они очутились в борделе. Люди видели ее нагой, вожделеющей, сладострастной. Она помнила каждый из сеансов рисования: любовь, страсть, наслаждение… Она шла, погруженная в эти мысли, со слезами на глазах, и вдруг обнаружила себя в нескольких шагах от решетки, окружающей фабрику изразцов. Пыталась вспомнить, не задумала ли она в какой-то момент нарочно прийти сюда, и решила, что нет.
Далмау нет на месте, объявил беззубый старик. Спросил, зачем она хочет его видеть. Зачем, повторила она про себя. Чтобы плюнуть ему под ноги. Расцарапать морду, дать с ноги по яйцам. Да не раз!
– Просто так, – сказала она вслух. – Не беспокойтесь.
– Они с учителем готовят выставку. Говорят, получилось очень хорошо, и… – (Но Эмма уже отошла от решетки.) – Хочешь, скажу, что ты приходила? Как тебя звать?
Эмма несколько мгновений поколебалась, стоя спиной к старику, и наконец ответила, не повернув головы:
– Не надо, не утруждайтесь. Он меня не знает. Я приду потом.
И она направилась к Сан-Антони через те же пустыри, по тем же немощеным улицам без тротуаров, вдоль которых выстроились убогие домишки в два-три этажа, мастерские и фермы, где держали молочных коров, коз или ослиц; по тем же переулкам, где всегда ходила, не очень-то глядя по сторонам.
– Козел, – вдруг пробормотала она вне себя, остановившись перед какой-то молочной фермой. – Козел, – повторила громче. – Козел! – возопила в самые небеса, стоя посреди улицы. – Козел!
Скотница обернулась на эти крики, неодобрительно фыркнула, когда корова, которую она доила, заволновалась и стала брыкаться. Две женщины в черном зашептались, указывая на Эмму, а позади них, спрятавшись между домами, за бельем, развешенным сушиться, всякой утварью и грудами мусора, Маравильяс и ее брат Дельфин обменялись заговорщическими взглядами. Делов-то – выкрасть из мастерской Далмау рисунки, изображавшие девушку, которую Маравильяс узнала, как только увидела в столовой. У Далмау в мастерской был полный кавардак, а рисуя trinxeraires, он доходил до такой степени сосредоточения, что, если не считать бумаги, уголька и пастелей, которые он держал в руках, Маравильяс могла стащить у него что угодно: башмак с ноги или рубашку с тела.
Продать их в бордель Хуаны оказалось еще проще. Бандерша, как и следовало ожидать при ее ремесле, не отличалась культурой и утонченным вкусом, однако же она рассматривала рисунки с почтением, будто открывала в них что-то, помимо сладострастия, какое призваны были возбуждать снимки голых женщин, вошедшие в моду после распространения фотографии. Но от почтения цена не стала выше, как их в том уверил Бенито, trinxeraire, который и рассказал о том, как странно глядела шлюха на эти картинки; ему Маравильяс поручила миссию продажи рисунков.
– Почему он, а не ты или я? – заныл братец.
– Не надо Далмау знать, что это сделали мы.
– Почему?
– Далмау нам доверяет. Может, даже привязался к нам. Разве ты сам не видишь? Покупает нам еду с тележки, время от времени дает несколько сентимо. Он злится на девчонку, это в глаза бросается, и все-таки в нее влюблен. Иначе не стал бы за ней шпионить. А если они помирятся, мы станем лишними, так и знай.
– А. – Дельфин задумался на несколько мгновений. – А что, если Далмау встретит Бенито и тот расскажет, что его подрядили мы?
Девочка резко взмахнула рукой, отметая все сомнения.
– Что Бенито встретит, так это смерть свою, кашляет сильно и на каждом шагу кровью харкает.
Маравильяс двинулась было за Эммой, которая, громко обругав Далмау и плюнув под ноги скотнице, продолжила путь, удаляясь вниз по улице.
– Пусть себе идет, – предложил Дельфин.
Но Маравильяс не собиралась пускать дело на самотек. Она хотела знать, что будет с девушкой дальше. Когда-нибудь это ей пригодится… на пользу или во вред Далмау.
Дядя Себастьян уже знал: он ходил обедать в «Ка Бертран» после того, как Эмму выгнали, и гнев его распалялся по мере того, как он дома дожидался ее прихода. Эмма застала его в бешенстве, в буйстве, возможно, в подпитии, на что указывала наполовину опорожненная бутылка анисовки на столе и запах перегара, который девушка почувствовала при первых дядиных словах.
– Что ты натворила, несчастная? – зарычал Себастьян. Эмма отступила к входной двери. Дядя двинулся следом, кричал, брызгая слюной и алкоголем. – Все кому не лень тебя видели голой! Мокрощелка! Шлюха! Так я тебя воспитал? Что бы сказал твой отец, будь он жив?
Эмма стукнулась спиной о закрытую дверь. Дядя Себастьян чуть не столкнулся с ней нос к носу, от запаха перегара и пота ей стало дурно. Она слышала и ощущала на лице его горячее дыхание. Они были дома одни, кузены еще не пришли с работы. Сейчас он ударит ее. Эмма задрожала, закрыла глаза, боясь, что дядя, во власти гнева и алкоголя, ее изнасилует, но крики стихли. Секунды шли, а она все не решалась взглянуть на дядю. Не могла сдержать коварную дрожь в коленях. Еще немного, и она упала бы, но внезапно по всему дому прогремел удар: это дядя Себастьян грохнул кулаком по двери. Эмма соскользнула на пол. Дядя двинул по двери ногой, совсем рядом с нею: еще и еще раз. Девушка слышала, как трещит пробитая филенка, и все сильнее съеживалась. Дядя вернулся к столу и налил себе рюмку анисовки.
Эмма так и сидела под дверью, скорчившись, прижав колени к груди. Оттуда увидела, как дядя опрокидывает рюмку одним глотком и наливает следующую.
– Завтра подыщу тебе хорошего мужика, готового забыть об этих рисунках и не поминать твое бесстыдство, и ты выйдешь за него замуж. Нелегко найти такого, кто примет с легким сердцем, что его жену видела и желала половина мужчин Барселоны, но, кажется, есть у меня один на примете…
– Нет, – услышала себя Эмма как бы со стороны. – Я ни за кого не выйду замуж.
Себастьян взял рюмку, но отпил всего один глоток, что необъяснимым образом успокоило Эмму.
– Мне следовало бы задать тебе трепку, – пригрозил дядя, – но я обещал брату, что, коли это будет в моих силах, тебя никто и пальцем не тронет, включая меня, конечно. Раз ты не желаешь мне подчиниться, тебе придется покинуть этот дом. Ты достаточно взрослая, и я могу считать себя свободным от обещания, данного твоему отцу.
После такой речи, весьма пространной для забойщика скота, дядя рухнул на один из стульев, стоявших вокруг стола.
– Не беспокойтесь, я прямо завтра… – начала Эмма.
– Не завтра. Сегодня. Сейчас.
– Но Роса… и кузены… – бормотала Эмма. – Мне хотелось бы попрощаться.
– Дождись их на улице и прощайся там.
Эмма принесла с собой узелок со скудными пожитками, какие забрала из столовой: миска, столовый прибор, пара передников, салфетка. Теперь нужно было собирать вещи в доме, который она считала родным со времени гибели отца. Одежда. Цветастое платье, выкройку для которого ей принесла Монсеррат. Пара башмаков и ее детские портреты, которые нарисовал Далмау. Эмма все их разорвала. От родителей ей остались только исцарапанные очки и самопишущая ручка с золотым колпачком, которая принадлежала отцу и которую Эмма хранила, как величайшее сокровище. Лучше ее с собой не брать.
– Будьте добры, сохраните ее для меня, дядя, – уже с узелком на плече попросила она, кладя ручку на стол. – Надеюсь, когда-нибудь я вернусь за ней, а если нет, пусть достанется старшему из братьев, – добавила она. Дядя хранил молчание. – Спасибо за все, – заключила она. – Я понимаю ваше решение и хочу, чтобы вы это знали.
Эмма нагнулась, чтобы поцеловать его в макушку, как делала не раз. Себастьян отстранился.
– Мне жаль, – повторила Эмма, направляясь к двери.
– Если я не выдам тебя замуж и не выгоню тебя и если ты не появишься на людях с физиономией, разбитой в лепешку, – услышала она, уже стоя на пороге, – люди подумают, что моя Роса такая же потаскуха, как и ты. А этого я ни за что не допущу.
Эмма, уже стоя на площадке, кивнула и исчезла.
Роса расплакалась, когда они встретились в парадном, и Эмма объяснила ей, что произошло. «Они не поймут», – предупредила относительно братьев. И не ошиблась. Они явились, когда Эмма еще прощалась с Росой.
– Ты-то хоть не позировала для этого поганца? – было первой реакцией одного из них; при этом он буравил сестру взглядом и сжимал кулаки.
– Я предупреждал, – вклинился другой брат, – то, что ты позволяла Эмме в нашем доме кувыркаться с этим сукиным сыном, ни к чему хорошему не приведет.
– Мне очень жаль, – извинилась Эмма перед кузенами.
В конце концов она расцеловала обоих в щеки, чего не позволил их отец, отдернув от нее макушку. Правда, братья тоже себя чувствовали неловко, да и соседи, которые поднимались или спускались по лестнице, уже с подозрением косились на сборище. «Что-то случилось?» – спросил один.
Случилось много чего. У Эммы почти не было денег: несколько песет, полученных при расчете, и скудные сбережения. С этим она могла снять комнату в каком-нибудь доме, но во всех знакомых домах, которые они перебрали вместе с Росой, с ней могли обойтись так же, как дядя Себастьян: узнав о рисунках, ее бы выгнали или… Роса не осмелилась выразиться яснее, а Эмма и без того понимала. Ею могли попользоваться, приняв по меньшей мере за доступную женщину. Пару часов назад она боялась, что родной дядя ее изнасилует. В этом она не стала признаваться кузине, да и сама поняла, что была несправедлива к человеку, который воспитал ее как родную. Но если так получилось с родичем, которого она уважала, которому доверяла, что говорить о посторонних.
Вдруг она отдала себе отчет, что, если не считать борьбы за дело рабочих, стычек с жандармерией и оскорбительных выкриков в адрес буржуев, жизнь ее протекала практически безмятежно. Когда Роса и кузены поднялись к себе, окружающая среда снова ей показалась враждебной, так же как утром, когда она покинула «Ка Бертран». Она совсем одинока. Ей нужна работа. Нужны деньги. Нужен приличный дом, где ее не знают, где она может есть и спать. Нужно заново устроить жизнь, которая вышла из-под контроля с того момента, как арестовали Монсеррат, и теперь выплеснула ее туда, где она сейчас находится, одна-одинешенька посреди Ронда-де-Сан-Антони, в толчее людей, мулов и повозок, вечером злополучной среды в середине июля 1902 года.
Колокол приходской церкви Сан-Пау дель Камп отбил две четверти часа: половина седьмого. Роса сказала, что в муниципальный приют у Парка[13] нужно поспеть до восьми. Туда принимали с восьми до десяти вечера, но они решили, что лучше прийти пораньше, чтобы не остаться без постели или без ужина. Тогда она села на кольцевой трамвай, круживший по старому городу: он довезет до приюта, до улицы Сицилия. Эмме удалось устроиться на скамейке между двумя солдатами, которые подвинулись с преувеличенной, несколько наигранной вежливостью. Девушка скоро поняла, что к чему: парни мало-помалу начали сдавливать ее с обеих сторон. Вот какой теперь будет ее жизнь. Она громко вздохнула, потом заерзала, с силой повела плечами. «Неужели скамейка съежилась?» – спросила она с насмешкой, повернувшись в одну и в другую сторону; другие пассажиры заулыбались, а солдаты покраснели и отодвинулись.
На Параллели трамвай звонил не переставая, чтобы разогнать толпу прохожих, устремляющихся в кафе и столовые, к тележкам разносчиков, в театры, кабаре, кино и к аттракционам. Люди разбегались не так быстро, как того хотел бы водитель, что часто приводило к несчастным случаям, особенно на узких улочках. Трамвай не зря прозвали «гильотиной», так легко он перерезал человеческую плоть, отнимая жизнь у жителей Барселоны. Этот кольцевой маршрут часто называли «каретой бедняков», поскольку многие семьи скромного достатка по воскресеньям разъезжали на нем, точно богачи в своих экипажах.
Эмма сошла с трамвая у Парка, разбитого на обширной территории, где два века назад, после поражения Барселоны в Войне за испанское наследство между сторонниками Филиппа V Бурбона и эрцгерцога Карла Австрийского, были выстроены укрепления. В середине XIX века правительство отдало их городу, а городские власти незамедлительно постановили разрушить фортификации, напоминавшие о разгроме. Там состоялась Всемирная выставка 1888 года, а теперь, в свете июльского заката, под свежим морским бризом Эмма смешалась с барселонцами, рассеянно бродившими по различным аллеям: тополиной, липовой, вязовой; они любовались садами, разбитыми в английском стиле, с гигантскими кедрами и множеством магнолий, или шли освежиться к искусственному водопаду немалой высоты, к которому вела аллея, обсаженная эвкалиптами.
Эмма напряглась, ощутив укол зависти: она не раз наслаждалась здесь природой вместе с Далмау. Здесь они бегали и хохотали, обнимались и страстно целовались; потом она отдыхала на лужайке в каком-то из множества садов, а Далмау погружался в свои рисунки: наброски прохожих, иногда бурлескные или сатирические, чтобы позабавить Эмму; иногда деревья или простой цветок. Было это не так давно, а казалось таким далеким.
Она ускорила шаг, чтобы не поддаваться воспоминаниям, пересекла Парк и оказалась на улице Сицилия. Там располагался приют, муниципальное учреждение, при котором имелась бесплатная амбулатория, а также отдельные спальные корпуса для мужчин, женщин, детей и умалишенных. Не считая медицинского и управленческого персонала, учителя и подсобных работников для уборки и приготовления еды, в приюте заправляли четырнадцать монахинь ордена Святого семейства и помощник-капеллан.
В те дни в приюте содержалось около сотни детей, восемьдесят мужчин и сорок женщин, а еще семьдесят идиотов или сумасшедших. Особенность приюта заключалась в том, что мужчины и женщины могли провести здесь три ночи, получая постель, суп на ужин и какой-то завтрак, – днем они должны были уходить – и после этих трех ночей могли снова просить ночлега лишь по истечении двух месяцев.
Эмма остановилась, увидев толпу, скопившуюся на улице. Она заколебалась, ее так и подмывало повернуться и уйти, но никакого другого места для нее нигде не было. Эмма глубоко вздохнула. Они об этом говорили с Росой: ей было нужно время, хотя бы три дня с ночевкой в приюте, чтобы сделать правильный выбор. Эмма пристроилась к очереди, которая змеилась перед цокольным этажом. Вскоре поняла, однако, что все эти люди, раненые, в кровавых повязках, женщины, баюкающие детей, дрожащих в ознобе, немощные старики и пьяные, не держащиеся на ногах, пришли сюда не за ночлегом, а за бесплатной медицинской помощью, то есть в амбулаторию, расположенную в полуподвале.
Эмма отыскала вход в приют и назвала свое имя администратору, сидевшему за высокой стойкой. Больше ничего не потребовалось. Ей показали дорогу в женское отделение; ночлежка тоже располагалась в полуподвале. Там, среди женщин, пришедших раньше и раскладывавших свои вещи по кроватям, которые рядами стояли в большом зале, Эмма увидела двух монахинь: они-то и приступили к расспросам. Что привело ее сюда? Есть у нее родные? Работа? Что она умеет делать? Какого вероисповедания? На конкретные вопросы Эмма отвечала уклончиво, зато, когда речь зашла о вероисповедании, поразила монахинь, бегло процитировав отрывки из катехизиса, который сестра Инес из приюта Доброго Пастыря накрепко вбила ей в память. Вечером монахини позаботились, чтобы ей налили побольше супу. Положили в отдельную кровать с простынями старыми и колючими, но чистыми, и с этого ложа Эмма слушала храп, кашель и плач сорока с лишним женщин. Были там нищенки, их распознать легко, но также девушки и женщины такие, как она, по воле злой судьбы оказавшиеся здесь; Эмма хотя и не заговаривала с ними, но отвечала на улыбки, которыми они обменивались, узнавая товарок по несчастью. Несмотря на это, несмотря на множество спящих, которые ее окружали, с наступлением темноты Эмме, свернувшейся в позе зародыша, показалось, что она стала совсем крохотной, до полного исчезновения. Она всем телом ощущала свое одиночество, могла потрогать эту вдруг выросшую вокруг нее стену, и слезы сами собой заструились по щекам. Эмма пыталась бороться. Она всегда была сильной, ей об этом говорили, и она этим гордилась. Минута за минутой она сдерживала плач: зажмурилась, сжала губы, напряглась всем телом. Но глухие рыдания прорывались.
– Дай себе волю, девочка, – послышался голос с соседней кровати. – Тебе станет легче. Никому нет дела до твоих слез, никто не попрекнет тебя. Со всеми нами случилось и еще не раз случится одно и то же.
Эмма попыталась припомнить лицо этой женщины. Не получилось. Нетрудно было последовать ее совету, и она плакала так, как на своей памяти не плакала никогда, даже когда умер отец.
На следующий день монахини порекомендовали ей приличный дом на улице Жироны, за улицей Кортес. Сказали, что можно сослаться на них. Предложили и работу прислуги в другом доме, ведь Эмма накануне заявила, что умеет готовить. А еще они могли посодействовать тому, чтобы ее приняли в школу Непорочного Зачатия, где обучали всем видам услужения в богатых домах. Более восьми сотен девушек постигали премудрости этого дела, а потом получали место.
Кровать в доме на улице Жироны была весьма кстати. Но быть прислугой у буржуев ей, анархистке, боровшейся за рабочее дело, совсем не улыбалось, как бы ни давила нужда. Ее отец перевернулся бы в гробу, да и Монсеррат, без сомнения, тоже. Кроме того, чтобы поступить в школу, где учили готовить и прислуживать, а главное, почитать хозяйку дома и Господа превыше всего, требовалось свидетельство о благонравном поведении, выданное священником прихода, к которому принадлежала будущая служанка. Монашек Эмма смогла обмануть отрывками из катехизиса, но со священником такой номер не пройдет.
– Благодарю, почтенная мать настоятельница, – начала Эмма, – но это мое тело… – Раскинув руки, она обвела контуры своей фигуры. – Это тело навлекало на меня массу неприятностей. Хозяева… их сыновья… Вы понимаете? – (Они понимали.) – Мужчины в богатых домах думают, что имеют на нас какие-то права, что мы обязаны делать для них гораздо больше, чем просто прислуживать за столом. Я осознаю это и не хочу никого вводить в грех. Может быть, через сколько-то лет, когда юность минует, я и смогу работать в каком-нибудь благопристойном доме.
– Прекрасные слова, дочь моя, – похвалила старшая среди этой дюжины монахинь, в свою очередь оглядев Эмму с головы до ног.
Дом на улице Жироны был скромным, но благопристойным. Как и следовало ожидать от дома, который порекомендовали монахини, благочестивая вдова, носящая траур, владела им и увеличивала свои доходы, сдавая лишние комнаты. За три песеты в месяц Эмма могла делить кровать с другой девушкой, Дорой, симпатичной, приветливой хохотушкой, которая желала одного: выйти замуж и выбраться из комнатенки, где им двоим было не поместиться стоя. У девушки был один недостаток: она вся пропахла кроликами. Этот запашок Эмма помнила еще по столовой, но от Доры несло в сто раз сильнее: она работала в скорняжной мастерской и подстригала кроличьи шкурки, а значит, весь день их теребила в руках. Как она ни старалась избавиться от состриженных волосков, к утру кровать была усеяна ими, и Дора, проснувшись, долго пыталась вычесать их из своей шевелюры, одновременно рассыпаясь в извинениях. А еще было невозможно проветрить комнату, ибо единственное окно выходило в крошечный внутренний дворик, откуда не свежестью тянуло, но просачивались тысячи запахов из других туда выходящих квартир: такое впечатление, будто запахи теснились там, ожидая, когда какой-нибудь наивный жилец откроет окно и впустит смрад в свое жилище. И вдова не одобряла, когда они держали дверь в спальню открытой. Это, заявляла старуха голосом более твердым, чем обычно, прямо приглашает мужчин зайти, разжигает их плотские желания; правоту своих слов она подчеркивала, стуча клюкой по мозаичному полу.
Пусть Эмма не могла открыть окно комнатенки, а порой выходила на улицу вся в кроличьих волосках, ей не составило труда подружиться с Дорой, приникая к ней по ночам, чтобы утишить тревогу и обмануть тоску. Общаясь с ней, Эмма воспрянула духом. Положение ее было настолько отчаянным, что она стала понемногу забывать Далмау, дядю Себастьяна, кузину Росу, Хосефу, даже Бертрана и всех, кто прежде ее окружал. Она заплатила вдове за месяц вперед, и денег оставалось только на скудное пропитание в течение того же месяца. Пересчитывать монеты она не осмелилась, но знала, что дело обстоит так. Нужно было найти работу, этим она и занялась с самого первого утра, не ограничиваясь кухней, хотя сначала обошла столовые и рестораны, пивнушки, винные погребки и таверны, и все без толку: ей либо отказывали, либо старались воспользоваться ее положением и предлагали нищенскую плату. Экономический кризис не ведает жалости и пробуждает худшие качества в тех, кто может дать работу.
Эмма переключилась на лавки, где торговали вышивками и кружевами, шляпами, продуктами и даже экипажами. По нулям. Столь же бесплодными оказались походы по магазинам вееров и зонтиков; ножей; кондитерским и обувным. Наконец, ее нанял тюфячник, который держал магазин на улице Байлен, неподалеку от площади Тетуан, и несколько ночей кроличьи волоски, приносимые Дорой, смешивались с прилипавшими к Эмме клочьями шерсти. Обе по утрам хохотали. Одна подстригала кроличьи шкурки, другая днями напролет ворошила шерсть. Работа у Эммы была такая: она брала тонкий ясеневый прут длиной полтора метра, согнутый под острым углом на конце, подцепляла и подбрасывала шерсть, пока та не ложилась слоями и не становилась пышной; потом сам тюфячник или его супруга укладывали эту шерсть на матрасную ткань и зашивали. Несколько дней Эмма задыхалась среди кип необработанной шерсти, в которую тыкала и тыкала палкой, поднимая пыль, забивавшую горло, пока однажды вечером перед концом работы, когда она, покрытая пылью, вертела в воздухе прутом, разделяя слежавшуюся шерсть, тюфячник толкнул ее в спину и повалил на тюк.
Дора спрашивала, что это за человек. Вроде порядочный, отвечала Эмма. «Не расслабляйся», – предупредила подруга, а Эмма, вместо того чтобы прислушаться, пошутила, что, дескать, у нее все время палка в руках, пусть только сунется, увидит, где раки зимуют. Но теперь… куда же этот прут подевался? К ужасу Эммы, тюфячник взгромоздился на нее, и оба погрузились в шерсть; потеряв рассудок, он одной рукой тискал ей грудь, а другой задирал юбки, одновременно целуя взасос шею, уши, щеки, губы.
Эмме было с ним не справиться. Мужик могучий, сильный: недаром всю жизнь ворошил шерсть и перетаскивал тюфяки с места на место. Эмма, задыхаясь среди волокон шерсти, искала выход. Пыталась нащупать прут, уже чувствуя его руку в промежности, но не вышло. Прута не было. Под руки попадалась шерсть и только шерсть. Хотела крикнуть. Закашлялась. Куда супруга смотрит, подумала про себя. Хотела вывернуться из-под тела, ее прижавшего к тюку, но это было невозможно. Закричала, на этот раз без помех, и он больно отхлестал ее по щекам, продолжал бить, даже когда она замолчала.
– Нет. Умоляю, – всхлипнула девушка, выбиваясь из сил. – Пожалуйста. Нет. Нет…
Она заметила, что тюфячник, не приподнимаясь, елозя по ней, стаскивает с себя штаны.
– Нет. Нет.
Эмма увидела перед собой воздетый член, уже обнаженный, и снова стала защищаться. Мужчина крепко схватил ее запястья и развел ей руки крестом.
– Пожалуйста, – молила она, глядя ему прямо в глаза.
– Тебе понравится, девочка, – ухмыльнулся тюфячник. – Так понравится, что еще захочешь.
Эмма погрузила ладони в шерсть, сжала кулаки, будто это могло как-то ее успокоить, а мужчина, сев на нее верхом, дергал блузку, пытаясь добраться до груди.
– Будешь меня просить! – твердил с остекленевшим взглядом и побагровевшим лицом. – Повторить захочешь!
Ее осенило. Когда тюфячник открыл рот, собираясь бахвалиться дальше, Эмма приподнялась, как могла, и сунула туда комок шерсти, который сжимала в кулаке. Мужчина, застигнутый врасплох, схватил ее за руку, вывернул кисть. А она сунула ему в рот другой комок, из другого кулака.
– Вот и повторю! – заорала Эмма, пальцами пропихивая шерсть прямо в горло.
Он сопротивлялся. Но злость придавала ей сил, направляла волю, и, выдерживая натиск, она то одной, то другой рукой закрывала ему рот, не давая выплюнуть шерсть. Тюфячник пытался колотить ее, но недолго, через несколько секунд бешеной схватки он начал задыхаться и наконец лишился чувств. Эмма скинула его с себя, поднялась, отскочила на несколько шагов, надсадно кашляя: ей в горло тоже попали волокна шерсти и пыль, которую они подняли во время возни. Тюфячник после нескольких потуг исторг из горла комки шерсти, потом его вырвало. Продолжая отступать, Эмма наткнулась на ясеневый прут. Подобрала его. Тюфячник стоял согнувшись, спиной к ней, все еще содрогаясь. Козел! Она сунула прут ему между ног, живо представляя себе уже обвисший член, и, подцепив его загнутым кончиком палки, с силой дернула. Вопль тюфячника возвестил, что она не промахнулась. Бросив прут, Эмма направилась к выходу. По пути забрала из кассы то, что ей причиталось за работу плюс компенсацию за порванную блузку.
– Боюсь, где бы ты ни работала, везде будет одно и то же, – рассудила Дора, когда обе девушки уже лежали в постели и она в очередной раз внимала рассказу Эммы. – Ты, девочка, слишком хороша. – Она прищелкнула языком. – Иногда по ночам и у меня нет-нет да и возникнет искушение…
– Перестань! – вскричала Эмма, шутливо отталкивая ее.
Они лежали лицом к лицу, деля подушку, дыхание, запахи, кроличьи волоски. От души смеялись.
– Нет, – продолжала Дора, когда смех затих, – я серьезно…
– Насчет искушения? – спросила Эмма.
– Нет, подруга, нет. Насчет твоих проблем. Если у тебя есть парень, который встречает тебя после работы, болтается около, куря сигарету, а когда ты выходишь, целует тебя и берет под руку, заявляя свои права, и это видят все, кто с тобой работает, и кто сидит в таверне на углу, и даже болван из магазина, где продают иголки, который день-деньской пялится через витрину, – тогда тебя уважают, зная, что, если переступят черту, будут иметь дело с ним. А ты… – Дора пристально вгляделась в нее. – Ты – красотка, и тебя никто не защищает. Рано или поздно всем становится известно, что у тебя нет семьи, что ты снимаешь комнату пополам с другой девицей и у тебя нету парня. И никому дела нет до тебя и до того, что с тобой приключится.
Насчет последнего Дора ошибалась, хотя Эмме это было невдомек. Маравильяс и Дельфин следили за ней время от времени. Прошли за ней до приюта у Парка. «Почем тебе знать, что она едет туда?» – спросил trinxeraire. «Женщина уходит из дома с узелком, садится на Карету Бедняков, идти ей некуда: едет она в приют у Парка, спорим на что хочешь». – «А если есть куда?» – «Тогда нам будет труднее ее найти», – оборвала брата Маравильяс. Дети пересекли старый город пешком. Убедившись, что ее догадка верна, Маравильяс улыбнулась брату. Они наблюдали также, как Эмма заселялась в дом вдовы. Как напрасно обивала пороги в поисках работы. Видели, как она выбегает из магазина тюфяков в разодранной блузке. «Этот тюфячник всегда был сволочью», – прокомментировала Маравильяс.
– И что, по-твоему, мне делать? – спросила Эмма подругу. – Одеться почуднее? Закрыть лицо?
– Как монашка? Нет, это не пойдет. Практичнее, да и веселее, подыскать жениха.
Тут же, словно при вспышке молнии, Эмме на ум пришел Далмау. Она не переставала думать о нем, хотя и с противоречивыми чувствами. Иногда накатывала ностальгия по счастливым дням, и любовь, которая, казалось, осталась позади, скреблась где-то в глубине и изливалась тихими слезами. Однако большей частью она вспоминала Далмау с презрением и гневом: рисунки, выставившие напоказ ее наготу, а главное, что бесило ее до дрожи, – как он с ними поступил; да и коллизия с Монсеррат… Верно и то, что он не настаивал на примирении, как должно, да и делал это лишь на первых порах, когда от обиды и ярости Эмма даже не могла на него смотреть. А потом пропал. Больше не просил прощения за то, что ударил ее, не желал ничего слышать о своей ответственности за смерть Монсеррат. И ей не удалось потребовать у него объяснений по поводу рисунков. Далмау устранился, и это ее удручало больше всего. Раз он не нашел ее вовремя, теперь, когда она затеряна в таком большом городе, как Барселона, это почти невозможно.
Теперь он, наверно, и не ищет ее, отрешенно думала Эмма. Далмау ушел в работу. «Из моих троих детей, – призналась однажды Хосефа, – старший и младшая характером пошли в отца, оба неустрашимые бойцы; Далмау не такой, он артист, добрая душа и большое сердце, но не от мира сего».
Эмма больше не навещала Хосефу и страдала от этого. Когда-нибудь заглянет повидаться с ней; но о Далмау его бывшая невеста и так кое-что знала. Об успехе выставки его рисунков trinxeraires услышала в таверне, куда временами ходила завтракать вместе с Дорой перед тем, как обе отправлялись на работу. В кафе и в тавернах кто-нибудь нередко читал газету вслух, чтобы неграмотные, коих было большинство, тоже находились в курсе событий. Тот добровольный чтец однажды наткнулся на заметку о том, что в Обществе художников Святого Луки открыта выставка рисунков молодого многообещающего художника из Барселоны по имени Далмау Сала, который «живописует душу своих моделей», с пафосом прочел грамотей.
«Грустные получаются души», – посетовала Эмма и подняла чашку с кофе, будто чокаясь с солнцем.
Жениха она не нашла, даже не искала, да и не собиралась, хотя речи Доры не давали ей покоя. Зато обрела старого Матиаса, время от времени поставлявшего цыплят и кур в «Ка Бертран»; он появился, как всегда, нагруженный корзинкой с птицами. Было это на слиянии улицы Арагон с Пасео-де-Грасия, где недавно на мадридской ветке построили железнодорожную станцию. Здание в стиле модерн, казалось, поглощали стоящие рядом дома, куда более высокие, так что народ, ничтоже сумняшеся, сравнивал его с общественным писсуаром. Матиас болтал с возницей одного из экипажей, которые выстроились рядом в ожидании пассажиров, сходящих с поезда; Эмма же пыталась именно здесь пересечь улицу Арагон: по железнодорожным путям пройти было труднее, чем по улице, тянущейся поперек откоса наподобие моста.
Девушка пыталась избежать встречи со стариком. Матиасу ни разу не удалось продать ни курицы, ни цыпленка в столовую Бертрана. Как только он появлялся со своей корзиной, Бертран звал Эмму, та рассматривала птиц, обнюхивала их и отвергала. В конце концов старик обратил все в шутку и, когда появлялся в столовой, направлялся прямо к Эмме, бегал за ней по кухне и заднему двору, пытаясь убедить, что его товар первосортный. «Эти хорошие, клянусь». Бертран не вмешивался, только посмеивался над стараниями Матиаса и непреклонностью Эммы. «Только что из Галисии, да ты хоть взгляни на них». Порой Эмма поддавалась на обман, подходила понюхать, морщила нос, строила кислую мину и клялась себе страшной клятвой никогда больше не верить старику. «Какая нежная сеньорита Эмма!» – с укором произносил Матиас, прекратив беготню и распивая вино с Бертраном.
Завидев вокзал, Эмма ускорила шаг; может быть, именно это, легкая походка статной женщины, заставило возниц обратить к ней взоры, будто бы жаркий, застоявшийся, тяжелый воздух конца лета вдруг пришел в движение.
– Сеньорита Эмма! – раздался голос старика. Эмма не знала, что делать: Матиас был знаком с Бертраном, наверняка заходил в столовую, слышал о том, что случилось, даже, возможно, видел рисунок. – Сеньорита Эмма! – окликнул он еще громче.
Люди стали оглядываться. «Кажется, вас зовут», – какая-то женщина пальцем показала назад, за спину Эммы, которая в итоге остановилась и обернулась к Матиасу.
– Чего тебе? – нехотя пробурчала она.
Старик не ответил, пока не оказался рядом.
– Хотел поздравить тебя, девочка, с тем, что ты ушла от хиляка Бертрана. – Взглянув на лицо Эммы, старик расплылся в улыбке, показав редкие черные зубы, и пустился в объяснения. – Ты никогда не сдавалась. В других местах я обычно уговаривал людей. Сунешь в руку тому, этому – и они, поди, не станут приглядываться. Ты никогда ничего у меня не просила.
– Куры у тебя неважные, – признала Эмма.
– Но и не такие плохие. – Матиас замахал на Эмму руками, будто защищаясь. – Никто не умер, даже не заболел от моих кур и цыплят. Если хорошо приготовить, никто не жалуется. Думаешь, если бы что-то такое случилось, я бы все еще торговал ими на улицах? Люди знают, что куры не первой свежести, потому и дешевые. Кто бы стал продавать хорошую курицу за полцены?
Эмма не могла не согласиться. Покинув столовую и дом дяди Себастьяна, она поневоле стала питаться продуктами, которыми раньше побрезговала бы. «Хочешь вкусненького – иди в „Континенталь“, в „Мезон Доре“ или в другой какой шикарный ресторан. Чего ты от меня требуешь за шесть сентимо?» – распекал ее хозяин постоялого двора, когда она пожаловалась на то, что зелень вялая. Ее так и подмывало сказать, что есть столовые, где за качеством продуктов следят, но ведь она не могла с уверенностью утверждать это относительно «Ка Бертран». Да, она ходила с хозяином за покупками, но скорее затем, чтобы ему не продали скверный товар по высокой цене. В большинстве случаев Эмма не знала, откуда взялись продукты, которые варились или жарились на кухне Эстер.
– И когда ты не смотрела, – вывел ее из задумчивости старый Матиас, – Бертран покупал у меня курочку-другую. – Эмма так широко раскрыла глаза, что веки слились с бровями. Матиас вновь улыбнулся, выставив напоказ с полдюжины кривых, почерневших зубов. – Честное слово!
– Нет! – не верила Эмма.
– Да! – утверждал старик.
– Вот ведь сукин сын этот Бертран. Значит… все было для отвода глаз? Ты бегал за мной по кухне и по двору, я отмахивалась… а после этот козел покупал у тебя кур?
– Нет, – возразил Матиас. – Я бы даром отдал моих кур твоему хозяину, только чтобы побегать за тобой, как в прежние времена. – (Эмма снова впала в изумление.) – Девочка, много ли красоток, таких, как ты, позволят противному, беззубому старику подойти к себе ближе чем на три шага?
Эмма покачала головой.
– Хочешь за мной приударить?
– Нет, нет, нет, – возмутился Матиас. – Как можно приударять за богиней? Дышать одним воздухом с тобой для меня достаточно.
Эмма слегка склонила голову набок и улыбнулась.
– Пошловато, но красиво, – признала она.
– Богиням по нраву кофе? – осведомился Матиас. Эмма сделала гримаску. – Оршад? – На этот раз Эмма громко фыркнула. – Может, мороженое?
Ладно, подумала Эмма. Мороженое подойдет.
Идея была безумная, но Матиас ее убедил. Так ей ни к чему жених, который встречал бы ее с работы, и не нужно постоянно быть начеку, опасаясь, что какой-нибудь негодяй ее изнасилует. С другой стороны, с тех пор как Эмма сбежала из магазина тюфяков, она так и не смогла найти работу.
– Но ты не будешь хватать меня за задницу? – спросила она Матиаса, взвесив его предложение. Иссохшее лицо старикана заметно помрачнело. – Даже не вздумай! – воскликнула Эмма. Матиас развел руками с таким простодушием, будто Эмма проникла в его тайные помыслы. – Пошел ты к черту!
– Клянусь, я тебя и пальцем не трону! – обещал старик, даже не дав Эмме повернуться.
Она оглядела торговца с ног до головы: настоящий мешок костей.
– Я тоже клянусь: не сдержишь слова – яйца тебе оторву, и…
– Думаю, – прервал ее Матиас с наигранным страхом, сгорбившись и выставив руки перед собой, – этого достаточно, чтобы выбросить из головы всякие дурные помыслы.
– Помыслы! Да, уж их, пожалуйста, изгони тоже! Потому что, если я увижу, как ты пускаешь слюни, глядя на меня, я оторву тебе…
– Знаю, знаю, – заторопился он. – Даже глядеть не буду!
Так они пришли к соглашению. Матиас обязался платить ей третью часть дохода, какой они получат с каждой проданной курицы или цыпленка.
– Мы будем ходить по отдельности? – поинтересовалась она.
– Думаешь, я тебя нанял за красивые глаза? – насмешливо осведомился старик. – Эта корзина уже давно для меня тяжеловата. – Он взвесил корзину на руке и протянул Эмме. – Ходить будем вместе, ты с корзиной, с улыбочкой и вот с этим… – Он изобразил округлости Эмминого тела, но, когда та вздернула подбородок и смерила его взглядом, тотчас осекся. – Ну а я привнесу свой опыт.
Они без труда толкнули четырех кур, которые были в корзине. Две галисийские, из тех, что именовались «постными», хотя в Барселону они прибыли жирными, сетовал Матиас; одна русская, тоже тощая, и последняя – из Картахены. Трех они продали кухаркам из богатых домов, перехватив их по дороге на рынок; они тоже получали свою выгоду, разницу между реальной ценой за птицу и той, которую назначал Матиас в зависимости от покупателя, как правило, примерно половину стоимости. К тому же Матиас, ничуть не стесняясь, выписывал квитанцию, исходя из рыночной цены. «За русскую куру из постных, – писал он дрожащей рукой на клочке оберточной бумаги, – три песеты. М. Польеро». Ставил закорючку и получал две песеты, какие просил за курицу в этот раз.
Последнюю курицу, вторую из постных галисийских, которые некогда были жирными, они всучили непосредственно хозяйке, хорошо одетой даме, выступающей в сопровождении служанки, которая улыбалась Матиасу, пока Эмма нахваливала птицу. Наконец убедила покупательницу, продемонстрировав живые глаза и чистые перья куры. «Две песеты», – хотела назначить она, но Матиас, стоявший позади, ее поправил:
– Две с половиной! И вы выгадываете полторы, сеньора.
После этой продажи утро подошло к концу. Матиас пригласил Эмму пообедать, но она отказалась, сославшись на то, что это не входит в ее обязанности. Матиас согласился, но пытался ее вразумить, напомнив, что ей нужно еще многому научиться. Тут пришлось согласиться Эмме. У нее возникло много вопросов. Хорошо, она с ним пообедает, но только в столовой, ни в коем случае не у него дома. Ему это и в голову не приходило, заверил старик. Они пешком направились к Парку, рядом с которым располагался приют, где Эмма провела свою первую ночь вне дома дяди Себастьяна.
На юге, за кольцом, образованным железнодорожными и трамвайными путями, Парк граничил с зоной чудовищно хаотической застройки, которая выходила к морю. Там располагались, без какого-либо видимого порядка или разумного плана, вокзал, именуемый Французским, поскольку поезда оттуда отправлялись в эту страну; арена для боя быков Барселонеты; бедный квартал, поделенный на квадраты улицами, стремящимися к морю; порт и постройки, с ним связанные: пакгауз, таможня, Пла-де-Палау, торговая биржа, молы и склады для товаров, два газоперерабатывающих завода, кладбище…
Они обедали в большой столовой, из тех, что назывались «круглыми столами»; столы там были огромные, не обязательно круглые; люди приходили и садились за них, если было свободное место. Меню одно для всех, дешевое блюдо дня за шесть сентимо; заплатив их, каждый мог разделить с другими липкую грязь, покрывающую столы и пол, жир, который, казалось, висел в воздухе, и запахи, которые Эмма была не в состоянии распознать.
Старик и его новая работница нашли себе место, сопровождаемые наглыми взглядами, шепотками, даже свистками и бесстыдными предложениями: их окружали матросы, докеры, железнодорожники и всякий подсобный персонал, народ в большинстве своем грубый. Матиас поднял руку и с победоносным видом поприветствовал всех. Возмущенный ропот Эммы заглушили аплодисменты и здравицы, а потом каждый занялся своим делом, то есть продолжил поглощать пищу.
13
Имеется в виду парк Сьютадела, «Цитадель», разбитый на месте снесенной крепости в 1869 году и несколько десятилетий остававшийся единственной зеленой зоной в городе.