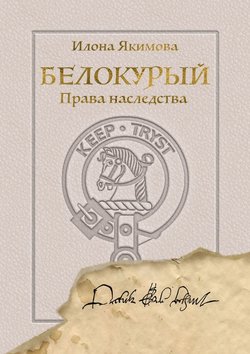Читать книгу Белокурый. Права наследства - Илона Якимова - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Права наследства
Оглавление…дороги провидения суть пути мудрости.
Ричард Борланд, «Набеги и налетчики Приграничья»
«Border Raids and Reivers»
Шотландия, Ист-Лотиан, Хейлс, август 1512
– А мастью-то он в тебя! – произнес мужчина, наклоняясь над колыбелью.
Молодая женщина, сидящая на постели, опершись о гору подушек, издала досадливое восклицание, ее золотисто-рыжие волосы выбились из-под изящно вышитого чепца:
– Какую там масть ты разглядел у полуторанедельного младенца, Адам? Он потемнеет… и он – Хепберн, чего же тебе еще? У тебя теперь есть наследник, не так ли?
Она говорила с легким раздражением, которое в большей части прикрывало ее беспокойство.
– Да, у меня есть наследник, – согласился мужчина без особого воодушевления.
Молодой граф Босуэлл, Адам Хепберн, лорд Хейлс, задумчиво разглядывал младенца в колыбели. Совсем не такие чувства должен бы испытывать гордый отец, совсем не такие… и он перевел глаза на жену. Агнесс была ослепительно красива, даже теперь, еще не в полной мере оправившаяся от родов. Рыжая Агнесс принесла ему золотого младенца, и уверяет, что так оно и должно быть. Рыжая зеленоглазая Агнесс, доставшаяся ему девицей, младшая дочь покойного Джеймса Стюарта, графа Бакэна. Незаконная, но признанная отцом и короной. Даже слишком признанная, пожалуй…
– Твой наследник, – подтвердила Агнесс, как бы невзначай напирая на «твой».
– Никогда и не сомневался, поскольку сам его сделал, – буркнул граф.
Агнесс вздохнула, но смолчала. Хепберны столько поколений подряд спали с женщинами Стюартов, утешая королев Шотландии, что совершенно непонятно, чем им не нравится обратная ситуация – когда их собственные жены накоротке с королем.
Предмет их беседы переводил светло-голубые младенческие глаза с огромного рокочущего над ним пятна на занавеси колыбели на солнечное пятно и обратно, не различая черт отца, не понимая слов матери. Когда в конце долгой дороги хитрый итальянский яд станет выжирать его внутренности в мучительной агонии четверо суток подряд – зрение также откажет ему первым, и мир снова наклонится над его ложем огромной бесформенной тенью…
Адам Хепберн, второй граф Босуэлл, протянул первенцу палец, и маленький Патрик осмотрел его с большим интересом.
Адам Хепберн и Агнесс Стюарт уже год как были женаты. Прошлым летом замок Хейлс заполонила многочисленная родня – Хепберны, Гордоны, Стюарты, Дугласы, Ситоны, Синклеры – чтобы отпраздновать, как полагается, брак графа Босуэлла и кузины короля. Поскольку отец невесты к тому времени скончался, замуж Агнесс выдавал старший брат, Джейми Стюарт, лорд Треквайр, как и она, светловолосый, лучезарный, жизнерадостный красавец. Вообще, побочные дети, как перешептывались гости, удались графу Бакэну куда лучше законных… Джейми и Агнесс, похожие, как близнецы, хотя было между ними пять лет разницы в годах, рука об руку сошли с коней во дворе замка.
Посаженым отцом на свадьбе был сам король Джеймс IV, с лукавой улыбкой благословивший невесту поцелуем в лоб несколько дней назад в Эдинбурге, на церемонии в Сент-Джайлсе. С Агнесс они и впрямь были родственники – поскольку благодаря известному темпераменту королевские Стюарты породнились со всей Шотландией – но король также приходился родней по матери и жениху. Однако, как поговаривали в кругах, приближенных к монарху, к невесте Его величество испытывал интерес отнюдь не отеческий. Особу короля на празднестве в Хейлсе представлял Александр Гордон, третий граф Хантли, дядя жениха, исключительно для этого случая покинувший родовое гнездо на севере. Сейчас он вполголоса переговаривался с сестрицей – Маргарет Гордон, вдовой графиней Босуэлл, матерью Адама.
– Видная пара…
– О да, – отвечала новоиспеченная свекровь безо всякого энтузиазма.
Хантли поглядел внимательней в сестрино лицо, усмехнулся, сказал:
– Она не нравится тебе, Мардж.
– Не нравится, Алекс, – желчно подтвердила та.
– Она красива.
– О да, даже слишком…
– От нее пойдут красивые дети.
– В этом, разве что, будет вся прибыль моего сына… – сама наполовину королевской крови, Маргарет Хепберн, урожденная Гордон, не терпела принуждения от коронованных родственников. – Но будут ли это его дети! Сама приблудная, не дай-то Бог таких и нам наплодит! Джеймс обхаживал ее еще до свадьбы, это всем известно, даром, что она годится ему в дочери! А теперь, наскучив, подсунул Адаму, как приманку, перед тем, как вернуть права наследства! Как тебе это понравится?! Был бы жив мой муж, Его драгоценное величество побоялся бы так унизить Хепбернов! Не ему ли помнить, что значит – рассердить баронов Приграничья?!
Хантли догадывался, о чем она – сестрица всегда была ядовита на язык. В свое время поговаривали, что отец нынешнего государя отправился в мир иной не без посредничества покойного первого графа Босуэлла, Патрика Хепберна, великого Лорда-адмирала Шотландии. Уже год, как душа первого Босуэлла пребывала там, где уготовили ему место ангелы или бесы, а сын его, граф Адам, сегодня женился на кузине и вероятной любовнице Джеймса IV Стюарта, чтобы подтвердить права наследования на замки Хейлс, Хермитейдж, Крайтон, на лэрдство Лиддесдейла, на земли почти половины Приграничья… Хантли поморщился:
– Тише, Маргарет, тише! Все равно дело сделано – они женаты, так надо с честью принять эту сомнительную королевскую милость… вдобавок, я привез новое пожалование для Адама – король подтверждает его Крайтонское баронство.
– Что ж, подарок на утро брачной ночи? – съязвила графиня-мать, но удержалась от того, чтобы развить тему. Она-то лучше всех понимала, что от любого неблагосклонного взгляда в сторону невестки в первую очередь пострадает ее обожаемый старший сын.
А Джеймс Треквайр неумолимо приближался к хозяйке Хейлса, ведя с собой сестру, сияющую, как майская фея. Волосы невесты были украшены цветами и распущены по плечам в знак непорочности. И, даже зная все дарования сестры к притворству, граф Хантли про себя изумился, как изменилось лицо леди Маргарет, с какой приязнью она протянула девушке руки…
Несмотря на свекровь, чью нелюбовь она чуяла с первой минуты, несмотря на шепот за спиной, который сопровождал ее появление в семье Хепберн и их последующую с Адамом жизнь еще некоторое время, Агнесс Стюарт была счастлива в Хейлсе, замужем за Босуэллом. Потому что, вопреки любым предсказаниям, их брак по расчету обернулся браком по любви. Она привязалась к своему господину – да и трудно было не любить Адама, с его добрым нравом, постоянным сердцем и открытой душой. Она изо всех сил старалась заслужить его расположение, и, видя это, понемногу смягчилась даже старая графиня. На Двенадцатую ночь, в начале зимы, Агнесс уже точно знала, что понесла. И это переполнило чашу ее счастья. Она легко носила дитя и также легко в начале августа, когда вилланы в полях собирали в снопы жаркие, тяжелые колосья ячменя, родила первенца, золотое синеглазое дитя. И прошел почти год, а глаза ее маленького сына стали еще синей прежнего, и волосы – по-прежнему цвета спелого ячменя. Патрику, названному в честь деда, оставалась разве что неделя до первого дня рождения. Он делал первые шаги к протянутым рукам отца, заваливался и шлепался на изразцовый пол, шуршал ладошками в тростнике и сухих цветах настила.
Яркое лето стояло над южной Шотландией, такое сладкое, словно последнее.
Шотландия, Мидлотиан, сентябрь 1513
– Я должен выступить, о чем ты тут говоришь? – Адам посмотрел на жену так, словно видел ее впервые. – Я – Хранитель Марок, лорд-адмирал, на мне авангард… чего ты хочешь от меня, Агнесс? Ты слышишь? Там, до дворе, уже ждут меня, я не могу более медлить…
– Я хочу, чтобы ты пообещал мне вернуться, – сказала молодая графиня, снизу вверх заглядывая мужу в глаза, – пообещай мне вернуться, Адам!
– Я вернусь.
– Вернись ко мне живым… о, я знаю, ты не станешь беречься, все вы, Хепберны, такие… но помни, кроме того, что у тебя есть род… у тебя есть сын – и я, и ты нужен нам…
Адам вздохнул:
– Женские страхи, дорогая. Я вернусь, и покончим с этим, – он оторвал от себя руки жены, вцепившиеся в борт дублета, поцеловал каждую, обнял Агнесс на прощанье и вышел.
До верхних окон Западной башни Хейлса со двора доносился лязг доспехов, звон конской сбруи, призывное ржание застоявшихся лошадей. Адама Хепберна встретили воплем ликования, и ввысь из сотен глоток полетел старинный клич сынов Белой лошади: «Иду навстречу!» – соединенные войска королевского авангарда поджидали своего командующего. Но чему навстречу сейчас шел двадцатидвухлетний граф Босуэлл, не мог бы точно сказать никто.
Агнесс посмотрела на свои пустые ладони и зарыдала.
Огромнейшая армия, редчайшая по размеру за последние сто лет, покинула границы страны, выдвинулась за Чевиоты, в Нортумберленд – шотландцев было пятьдесят тысяч. А Суррей, командующий Генриха Тюдора, подходил с двадцатью… Вон, знамя святого Катберта плескалось на линии горизонта. Какого дьявола, тоскливо думал Адам Хепберн, наш дорогой король Джеймс вступился за Старинный союз? Ведь легко бы мог не заметить подскока горячего по молодости английского короля, благо, женат на его сестре, только-только опять обзавелся законным наследником… на что он рассчитывает, Джеймс Стюарт? Устрашить числом? Но крови-то прольется немало и при устрашении. Бессмысленная кровь претила Адаму Хепберну, а эту битву он и почитал таковой. С юга, по еще зеленой траве, которую затопчут сапоги и башмаки не далее, как через час, наползало – быстрей, чем можно было рассчитывать. Развевались на пиках вымпелы Святого Георгия, алый крест на белом поле, уэльский дракон. Командир авангарда шотландской армии Босуэлл – в самом первом ряду, под штандартами короля и под собственным гербом, два льва и роза на стропилах – похлопал по шее фыркающего белого жеребца, успокаивая животное. Но кто сейчас успокоит и воодушевит людей? Не было ни привычного зубоскальства, ни поношений противнику – шотландцы стояли молча. Только рев артиллерии и вой боевых труб разрывали тишину поля, на котором предстояло умирать. Адам Хепберн огляделся – рядами за ним теснились приграничники, им первым лезть под стрелы сассенахов, на убой знаменитым лучникам короля Генриха, а чуть дальше уже перестраивались горцы Островов под знаменами старого графа Аргайла, вон эмблемы его сыновей, Колина и Джона Ковдорского. А вокруг Босуэлла стояли свои: дядя Адам Хепберн Крейгс, королевский конюший, шурин Джейми Треквайр, муж тетки Генри Синклер, а также соседи, Хеи – Джон Хей из Таллы и золотоглазый, словно хищный сокол, Ланцелот Хей, лэрд Совиной лощины. Хоумы на левом крыле были вдвоем – и бешеный Алекс, и Уильям. Керры на правом выжидали, казалось, не только боя, но падали, и уже переговаривались, как станут обирать мертвецов. Черные звезды на белом, невысокий парнишка в седле во главе сотни рейдеров – и у него на губах горит клич, который не терпится выкрикнуть небесам. Это молодой хозяин Бранксхольма, Уолтер Скотт, нынче, на рассвете посвященный королем в рыцари здесь же, на поле боя… жаждет доказать королю и Богу, что достоин высокой чести.
Лорды держались достойно, однако пехота стала сдавать, когда войска Суррея приблизились – в полном молчании, под продолжающийся гром пушек. Пошел дождь, лица, обращенные к врагу, к горизонту, повлажнели, тем самым скрывая слезы страха – у некоторых. Тишина была хуже всего остального. У молодых ребят, кому мясническая работа в новинку, подгибались колени от ужаса неотвратимой гибели, ибо в бою, всем известно, выживут опытные. Через пять человек позади от графа Босуэлла кто-то тяжело блевал, потом стало слышно еще одного счастливчика, потом над строем поплыл острый запах мочи, рвоты, кала… то была эпидемия страха, передающаяся среди парней по воздуху – чем ближе подходил Суррей. Земля вспаханного поля скользила под ногами, и падали на колени, в грязь, и поднимались снова, опираясь на древки пик. Зловонный пот ужаса пропитывал исподнее. Всхлипывая, слева начал молиться какой-то мальчишка… стой, просто стой и жди, когда раскаленное пушечное ядро придет по твою душу, вырвет из строя сразу нескольких товарищей, оставив вместо них кровавое месиво.
– Заткните их, – велел сквозь зубы командир авангарда.
– Как? Они боятся…
– Как?! Волынщиков – в третью линию, да пусть жарят так, чтоб ссались уже англичане, не наши! А наши пусть поют. Когда поешь – блевать несподручно. И бояться здесь совершенно нечего… Дядя Джордж?
– Объявите по войскам: каждый, кто падет сегодня в сече с англичанами, отправится прямиком в рай, – отвечал Джордж Хепберн, епископ Островов, любовно поглаживая рукоять палицы. – В том мое слово.
И наклонился с седла к островитянину, повторяя ему то же на гэльском, посылая донести до остальных. Перекрестил племянника:
– Встретимся в бою, Адам, благослови тебя Бог…
И направился к своим чадам, туда, где Джон Ковдорский, поминая святых и дьяволов не божьим словом, разворачивал строй к битве. Горцы Аргайла клином разомкнули приграничников, вырываясь вперед – пешие, с боевыми молотами, с клейморами наготове. Они стояли ровно за людьми графа Босуэлла, они так же молча пошли в бой на пехоту Суррея – но в последние полмили до сшибки вдруг кто-то из них в первом же ряду завопил:
– Я – Дональд Дубх, сын Колина Мора, сына Шона, сына Ангуса…
И эту родословную подхватили, и пели, и орали – каждый свое, перечисляя предков, словно любой из названных мог воплотиться, и вот сейчас вслед за потомком метнуться на сассенахов… И так поле Флоддена затопил, кроме стона волынок, воя труб и пушечных разрядов, соединенный рев островитян на хайленд-гэльском, в котором раздавалось, если прислушаться:
– Я – Рори, сын Дональда, сына Йана, сына Аластера…
– Я – Алпин, сын Гиллеспи…
– Бреннан, сын Кормака…
Они, прежде, чем врезались в мясо противника, доходили в памяти своей до двадцати колен в прошлое, и там обретали силу и ярость, которая не снилась англичанам, и пехотинцы Суррея замешкались, ошеломленные, только лишь на мгновение, но и того достаточно было, чтоб горцы нашли брешь в их строю, вломились туда всем числом, расширили пробоину, хлынули несметно…
– Данмангласс! Лох-Мой! Лох-Файн! – витало надо полем.
Они вспоминали, кто они, откуда родом, где живет племя, почему вожди привели их сюда, на далекий юг, сражаться и умирать. За ними наконец вступили и остальные:
– Уордлоу! – это рейдеры Максвелла. – Остановись и сражайся! – горцы Гордона Хантли. – Никогда позади! – короли долин Дугласы.
А за ними пошли в бой двадцать линий батальона самого короля Джеймса IV Стюарта. Англичане дрогнули – и побежали. Господь в те часы был на стороне Шотландии.
Адам Хепберн, второй граф Босуэлл, на белом жеребце, уже в помятом доспехе, в гуще боя был виден издалека, «Босуэлл!» парило над полем, «Иду навстречу!». Рука его разила без промаха, копыта коня увязали в раскисшей глине, дождь все продолжался…
А в замке Хейлс Агнесс, молодая графиня Босуэлл, в тоске ждала новостей.
Адам вернулся через десять дней. И с ним – Джейми Стюарт, лэрд Треквайр, ее старший брат. И если Адам казался просто спящим до тех пор, пока она не сняла плаща, прикрывавшего изрубленное тело, то левая половина лица любимого брата была чудовищно изуродована ударом английского палаша, и только одна рана цвела на груди, огромная, как ее одиночество, глубокая, как ее отчаяние… Флодден – это холодное слово обезглавило страну. На том ледяном поле по колено в собственной крови умирали шотландцы за верность Старинному союзу, и первым, высшим из них погиб сам король, Джеймс IV Стюарт. Его тело отбили сассенахи, его окровавленная рубаха, как изящный презент, была отправлена толстой испанкой своему молодому мужу – и Генрих Тюдор был весьма доволен таким подарком. В плен живыми попали немногие, около двадцати тысяч осталось на поле боя, в грязи, зарубленными, затоптанными конскими копытами и башмаками пехоты. Мародеры обирали тела, слуги выносили мертвых господ, стремясь обеспечить достойное погребение. В каждом доме, в каждой фамилии тогда царило горе несметное, неоднократное… было безопасное, теплое логово в Хейлсе, гнездо, была огромная семья, и вот время кровоточащими кусками выжрало из нее мужчин, опустошило. Время – и англичане. Молодая вдова покачнулась на ногах, побелела лицом и укусила себя за запястье, чтобы не заорать в голос. Годовалый малыш, ворковавший сейчас на руках у няньки в верхних покоях замка, стал сейчас – на счастье или на беду – третьим графом Босуэлл.
Она велела расположить тела в зале и обмыть раны, и сама, вместе со свекровью, с голосящими старухами, мыла и переодевала застывшую мертвую плоть, некогда бывшую ее мужем. Невероятно, думала Агнесс, касаясь его волос, все в Адаме теперь пропитано смертью, даже его темная волнистая грива, в которую ей так нравилось зарываться пальцами… лучше не вспоминать. Она не могла поверить, что все это происходит всерьез – что его больше нет. В Адаме всегда было столько жизни, тепла и веселья, что это она, оставшаяся в живых, разом почувствовала себя мертвой, лишившись его. Нет, повторяла Агнесс про себя, это не может быть правдой. Нет, только не со мной – пусть по всей Шотландии сейчас воют вдовы, но я, я проснусь завтра от этого жуткого сна, и Адам вернется ко мне живой. Такая же холодная, как тела, к которым она прикасалась, молодая графиня Босуэлл бережно зашивала раны, обряжала, распоряжалась, раздавала деньги для семей погибших кинсменов и полотно им на саваны…
Зарыдала она только спустя несколько часов, в спальне, где они прощались с Адамом, пока солнечным сентябрьским утром во дворе замка Хейлс кричали, бряцали железом, смеялись мужчины, уходившие на королевскую войну – и среди них были дядья ее мужа, Адам Хепберн из Крейгса, королевский конюший, и Джордж Хепберн, епископ Островов, хранитель королевской сокровищницы, и муж сестры Адама, лорд Джордж Ситон, и муж тетки, лорд Генри Синклер, и сосед Хепбернов весельчак Джонни Хей, сын старого Хея из Таллы – все они со своими отрядами стойбищем расположились вокруг замка, собрались под штандарт ее мужа, лорда-адмирала Шотландии, Верховного лорда-хранителя Марок… никого из них, никого, больше никого не было в живых. Они – прах и тлен, они – пустота. Их тела сейчас везут по ослизлым от дождя дорогам в родовые гнезда, где матери, жены и сестры станут готовить их к погребению. Задыхаясь от рыданий, Агнесс выла в голос и тянула себя за растрепанные волосы, чтобы хоть малой внешней болью умерить огромную внутреннюю пустоту. Она не могла верить в то, во что приходилось верить. Ей казалось, что она сойдет с ума.
Для одинокой женщины девятнадцати лет что значит горе всей страны? Шотландия была до нее, будет и после нее. Она не могла думать об общем горе, когда убили ее любимого. Все, что достается женщине в этой жизни – один миг, который она может урвать у смерти, краткий миг зачатия – если тебе повезет, если твой муж вернется с войны. Кто теперь защитит ее и сына? Погибли дядья мужа, погиб ее брат, ее племяннику, молодому графу Бакэну, едва исполнилось двенадцать лет, а ее девери моложе ее самой… Погиб и кузен, король Шотландии, называвший ее лучезарной Агнесс, а от королевы-вдовы Маргариты Тюдор, этой двуличной англичанки, милостей ждать не приходилось. Почва стремительно уходила из-под ног, пол покачнулся, Агнесс упала и лежала ничком на изразцовом полу, содрогаясь от рыданий, которые шли уже конвульсиями, всухую, без слез, и больше походили на кашель.
На эти-то сдавленные стоны и хрипы и вошла в спальню старая графиня Босуэлл. Агнесс очнулась от того, что чья-то рука тянет ее с пола, помогает встать. Потом она ткнулась лицом в шею свекрови – леди Маргарет обнимала ее, гладила по голове, хотя голос по привычке звучал суховато:
– Ну, будет, будет. Адама не вернешь. Не убивайся так, детка…
– Что нам делать, леди Маргарет?
– Там видно будет…
Новые вопли внизу, в холле, новые мертвые тела на столе для обмывания, опять окровавленные тряпки, штопальные иглы, тазы с грязной водой… нужно готовить к погребению Хепберна из Крейгса и епископа Островов. Сутана священнослужителя – и та истерзана английским железом… но и праведный дядюшка Джордж взял с собой на тот свет немало сассеннахов. Об этом судачили старые знахарки и плакальщицы, пришедшие из деревни, для них покойники – только работа, а жизнь – она продолжается, хотя трудно верить в это теперь, ох, как трудно…
Вокруг стола, на котором было распростерто мертвое тело ее мужа, стояли его братья – юные девери Агнесс, Патрик, Уильям и Джон, они казались сейчас еще моложе, чем были, вовсе мальчишками. Самому старшему – девятнадцать. Ничего, в Приграничье взрослеют быстро.
– Братья мои, – сказала молодая графиня, и голос ее прервался, но Агнесс быстро справилась с собой. – Братья мои, сын мой и я – мы осиротели, нет больше мужчин в нашей семье, кроме тех, кого вижу я перед собой.
В холл неслышно вышла леди Маргарет, встала за плечом Агнесс, молча переводя взгляд с тела мертвого сына на лица живых сыновей.
– Себя и сына моего, – продолжала Агнесс тем же надломленным, тусклым голосом, – отдаю я вам под защиту. Верю, братья мои, что при вас Патрик вырастет в безопасности до той поры, когда сможет принять на себя отцовское наследство и бремя власти. Покуда же я прошу вас взять под присмотр его земли и замки… наследник мал, а соседи неспокойны. Пока семья не выделит мне вдовью часть, сама я останусь в Хейлсе.
Ну вот, она и сказала все, что нужно. Скорей бы покончить с формальностями.
Юноши выслушали ее в молчании. Уильям кивнул и спросил:
– А Патрик… то есть, наш граф? Где будет он, сестра?
– Сын, конечно, останется со мной. Где еще ему расти, как не в отцовском доме?
Говоря все это, Агнесс смотрела прямо перед собой, словно думала о другом. Потом поблагодарила деверей за заботу и опустилась на колени у изголовья мертвого мужа:
– Оставьте меня сейчас, братья мои, и вы, матушка… это будет долгая ночь.
Молодая вдова сказала это с такой силой горя, что никто не посмел ни перечить, ни даже просто ответить ей. Старая графиня немного помедлила, обернувшись у дверей зала: Агнесс гладила мертвого Адама по лицу и тихо говорила о чем-то.
Агнесс не помнила, как снова очутилась в спальне – в той самой, где простилась с мужем, где был зачат Патрик, где ей теперь предстоит засыпать навсегда в одиночестве. Она потеряла сознание – самым целительным образом – там, внизу, возле тела Адама, и кинсмены отнесли наверх свою измученную хозяйку, передали на руки старой графине Босуэлл. Леди Маргарет неторопливо смешивала и разводила вином одной ей известные травы, в неверном свечном свете тени бежали вокруг и дрожали на потолке и шпалерах стен.
– Выпей вот это…
– Что это, леди Маргарет?
Как удачно, что красотка Агнесс пренебрегала искусством травницы.
– Мелисса, мята… тебе нужно выспаться, детка. Ты нужна малышу, и нужна здоровой.
Уложив невестку в постель, Маргарет Хепберн отправилась в часовню – помолиться о душе покойного сына, и попросить у него прощения за то, что уже сделала, и благословения на то, что еще собиралась сделать.
Йан МакГиллан неторопливо поднимался наверх, в господские покои. Ему было невдомек, зачем он вдруг понадобился старой графине, однако приказ есть приказ. Йану недавно сравнялось двадцать пять, невысокий, состоящий словно из одних мышц, с руками длинными, жилистыми и жесткими, с покатыми плечами, в которых таилась недюжинная силища, он остался охранять замок, оттого чаша Флоддена его миновала. А не то бы лежать ему там, на поле, подле господина, но никто б не поволок домой его тело, чтоб бедняжка Мэри оплакала, как подобает… Йан нахмурился и отворил дверь, вошел, поклонился.
Леди Маргарет Хепберн, урожденная Гордон, повернулась к нему от жаровни – прямая и спокойная, с сухим лицом, но с воспаленными глазами. За стенами Хейлса стояла тьма, мертвая, как мужчины рода там, в нижнем зале.
– Ты горец, Йан, – сказала графиня Босуэлл без всякого предисловия, – и у тебя долгая память. Мне нет нужды напоминать, что сделал мой муж для тебя и твоего отца.
МакГиллан заложил руки за спину, кивнул, промолчал.
– Сейчас ты выплатишь долг, – продолжила леди Маргарет. Каждое слово ее холодно падало в слух МакГиллана, как камешек, как ледяная капля. – Моя невестка снова выйдет замуж, скорей раньше, чем позже, а отчим, как бы он ни был хорош – это только отчим. Хепберна должен вырастить Хепберн. Я написала в приорат Сент-Эндрюса, старый Джон примет тебя, не сможет не принять… Ты возьмешь моего внука, Йан, и свою жену, его кормилицу. Ты уедешь в Сент-Эндрюс и передашь Патрика его прадеду, и тот вырастит нашего графа, как полагается. Я с сыновьями позабочусь о том, чтобы его владения содержались и защищались должным образом, но младенец-наследник – постоянное искушение в Приграничье, он не должен здесь оставаться.
– Когда ехать, госпожа? – МакГиллан первый раз подал голос, и голос этот походил на резкий крик ворона.
– Сегодня за час до рассвета. Ты получишь деньги на дорогу и столько провожатых, сколько потребуется…
– Не потребуется, госпожа, – возразил МакГиллан. – Большой отряд привлечет внимание, а так я всем буду говорить, что это мои близнецы. Я возьму мать, она поможет с детьми, и своего первенца…
– Мать возьми, если хочешь, – кивнула старая графиня, – а сына оставишь здесь.
Они с МакГилланом обменялись долгими взглядами, и не было приязни в их взорах.
– Нет нужды проверять мою преданность, госпожа, – угрюмо сказал МакГиллан. – Что бы вы ни думали обо мне, малыш – внук своего деда, а МакГилланы всегда платили долги.
– Я отправлю к тебе сына после того, как ты доберешься до Джона Хепберна, обещаю. И ты возьмешь с собой полсотни по собственному выбору, дороги неспокойны…
Когда сладко спящий в надежных руках МакГиллана маленький граф покидал свой дом, где-то в вышине, на воротной башне Хейлса, выше, чем назревающая в холмах заря, отзвучал и умолк старинный пиброх «Мы больше не вернемся», и вслед за ним волынки начали новый плач – «Пробито сердце твое, Адам»…
Могильная плита в аббатстве Холируд,
Эдинбург, Шотландия
Агнесс очнулась намного позже полудня, с отчаянной головной болью и пересохшим до горечи ртом. Проснулась и, как это делала всегда, потянулась прикоснуться к Адаму спросонья, утешиться и согреться его теплом. И, как все эти десять дней, руки ее нашарили только пустоту на постели рядом.
Потом ее пронзило воспоминание, жгучее и больное, потом она вспомнила то, что желала забыть, растерять во сне, и проснуться в другой день, до Флоддена… Адама нет. Он больше не вернется. Она сама обмывала и переодевала его в дорогу. И нестерпимая боль снова сдавила горло, Агнесс зарыдала, зарываясь ничком в подушки. Она была храбрая девочка, эта Агнесс Стюарт, она понимала, что слезы не вернут мужа и утраченную любовь, но сил устоять перед горем у нее сейчас не было.
Энн вошла в спальню на звук рыданий и мгновенье смотрела издалека, как дрожит в подушках рыжий детский затылок. Энн состояла при графине все ее девятнадцать лет, с тех пор, как покойный граф Бакэн положил ей на руки свою новорожденную дочь, которую она выкормила, выпестовала и стала, наконец, ее камеристкой. Она приехала с Агнесс в Хейлс из Треквайра и была для графини, собственно, единственным родным и близким человеком в замке, за исключением мужа.
– Энни, где Патрик? Принеси мне его, я хочу видеть сына!
Так тоже начинался каждый день молодой графини, кормилица приносила ребенка, и Патрик с матерью возились и смеялись вдвоем в огромной постели. Энн помедлила с ответом. Лицо графини распухло от слез, она шмыгала носом, но уже готова была – Энн знала это выражение зеленых глаз – справиться со своей бедой. Слишком много свалилось потерь на нее в последние дни – убили мужа и любимого брата, а теперь вот еще и это…
– Госпожа Агнесс, леди Маргарет вчера оставила Патрика у себя, вы же помните…
– Нет, – Агнесс нахмурилась, пытаясь соотнести время. – Не помню ничего подобного… я долго спала? Который сейчас час?
– Да уж давненько пробило полдень.
– И Патрик до сих пор у нее?
Вообще, в этом не было ничего необычного. Кроме того, что наутро мальчика обычно возвращали в детскую, рядом с комнатой матери.
– Не знаю, мадам… но Мэри МакГиллан давешнюю ночь ночевала тоже у леди Маргарет, и сюда она до сих пор не вернулась. Я стучалась в покои старой графини, спросить, не нужно ли чего Мэри или мальчикам, но Джейн захлопнула передо мной дверь, говоря, что госпожу нельзя беспокоить… я и ушла ни с чем.
Она помедлила и добавила:
– Похоже, старой графине зачем-то понадобился ваш сын…
Агнесс очень хорошо знала эту интонацию камеристки. Она мигом выскользнула из-под одеяла, босые ступни обжег холодный пол спальни.
– Платье, – велела она. – Живее, Энн, сколько я еще буду ждать!
Платье… оно должно быть черным, но приготовить траур еще не успели. Багровое, в цвет сгустившейся в ранах крови, облекло ее с головы до ног. Графиня отказалась от еды, наспех промочила горло глотком эля, еле дождалась, пока Энн уложит волосы в подобие прически, и выбежала из комнаты. Ею овладело лихорадочное возбуждение, природу которого она сама не до конца сознавала. Она ни в малой степени не подозревала свекровь в намерении повредить Патрику, но также у нее не было причин доверять Маргарет Хепберн. И вот она спешила через двор в Восточную башню, в покои леди-бабушки, по пути посматривая, не видно ли где сына или его кормилицы, уговаривая себя, что просто заберет заигравшегося малыша, и на том ее страхи и улягутся. Агнесс не могла сказать, чего именно боится, но теперь, когда Адама не стало, не стало и повода у леди Маргарет быть с невесткой хоть сколько-нибудь дружелюбной. В конце концов, зачем этой семье теперь еще нужна Агнесс? Ведь наследника она уже родила…
Наследника! Агнесс остановилась, как вкопанная, посреди двора, не слыша приветствий и слезных вздохов. Ну, конечно же! Леди Маргарет не нужен ее ребенок, леди Маргарет нужна власть, которая сосредоточена в ее руках до совершеннолетия внука! Хейлс, Хермитейдж, баронство Крайтон, долина Тайна и Лиддесдейл, шерифство Бервикшира… и деньги, все деньги огромного и могущественного рода Хепберн принадлежали теперь ее годовалому сыну. Кто же откажется от такого щедрого куска!
И Агнесс жестом остановила пробегавшую мимо служанку, задала свой дежурный за последние четверть часа вопрос о сыне…
Нет, не видела, да, говорят, господин граф сейчас у леди-бабушки…
И все они говорили уже о Патрике: «господин граф», как будто ее мужа вовсе не существовало на свете, и это было больней всего. Адам ушел – и его не стало, о нем позабыли тотчас. Еще и в землю не опустили, а сын занял его место в людской молве, и даже этим был уже отделен от матери – своим титулом, словно он больше ей не принадлежал.
Поднявшись к покоям леди Маргарет в Восточной башне, молодая графиня постучала. Дверь была заперта, и изнутри не доносилось ни звука. Ее насторожила тишина. Ведь если Патрик там, то никакой тишины и в помине не было бы, слишком то не похоже на ее сына… прежнее сосущее беспокойство толкнуло ее под ложечкой, Агнесс спешно спустилась вниз, снова до двор, скорым шагом направилась к часовне, ибо где еще искать благочестивую свекровь, особенно в дни утрат, но ей не пришлось долго ждать – леди Маргарет сама плыла ей навстречу. Женщины остановились в паре шагов друг от друга и обменялись очень странным взглядом. Время объятий в первичной боли миновало, наступало время противоборства.
– Леди, – произнесла Агнесс, минуя любые вводные слова. – Благоволите вернуть мне сына, я хочу его видеть.
Старшая графиня также не стала смущаться:
– Мне жаль, дочь моя, я не могу этого сделать. Патрика нет в Хейлсе.
От этих слов сердце Агнесс упало куда-то, словно в пропасть, а затем заныло, задыхаясь, словно ему перекрыли кровоток. Патрика здесь нет. Так вот в чем дело! Это правда – свекровь не стала бы лгать. Но после шока осознания ее залила волна гнева, и дрожь пронизала тело до кончиков пальцев, потому что волна ярости, вой волчицы, у которой отняли детеныша, изо всех сил рвались на волю.
Пока был жив мужчина, которого они обе любили, Адам, ненависть посверкивала в жемчуге вежливых фраз, но сейчас уже ничто не мешало ей развернуться вволю и попастись в отравленных горем душах. Две вдовы стояли друг напротив друга, и младшая спросила с усмешкой:
– В которой части ответ ваш лжив, леди Маргарет? В той, что вам жаль? Или в том, что касается моего сына? – Агнесс почти злорадно подчеркивала это «мой сын». – Ведь вам нисколько не жаль ни меня, ни его. Вы всегда меня ненавидели.
– Это верно, – отвечала свекровь. – Ты не нравишься мне, Агнесс Стюарт. Ты ложью проникла в сердце и в постель Адама. Откуда ты такая взялась? Кто твоя мать?
Осанке Агнесс сейчас позавидовала бы любая королева. Маленькая девочка Стюарт вздернула подбородок:
– Адам брал меня девицей, леди Маргарет. Если уж это устроило вашего сына, вам точно ни к чему ворошить наши простыни. Никто никогда не сможет усомниться в том, что Патрик – истинный сын и наследник Адама Хепберна.
– Разумеется, – согласилась старшая вдова. – Если бы я хоть на мгновение засомневалась, твой сын умер бы в один день с моим, а новым графом стал бы мой следующий…
Расширившимися от ужаса глазами смотрела Агнесс на свекровь и не могла поверить услышанному. Первый раз ей закралась в голову мысль, что, будучи увлечена своим положением молодой графини Босуэлл, она вовсе не удосужилась хоть немного изучить новых родственников. Вот эту в особенности женщину, которая так любила внука, что частенько оставляла мальчика засыпать на своей кровати. «Мама, мама, постели мне постель сейчас», – как поется в старинной страшной народной песне про отравленное дитя.
– Удивительно, – молвила Агнесс, глядя на нее во все глаза. – Ведь вы сама мать, леди Маргарет. Восемь раз вы рожали, а выжило пятеро. Вы знаете, что такое терять ребенка… детей… и вы, вы самолично отняли у меня моего единственного! Как только поднялась у вас рука?
– У тебя будут другие дети, – холодно отвечала леди Маргарет. – Но этого ребенка оставь нам, это наше дитя, и другого у нас не будет.
– Я вас ненавижу! – выплюнула Агнесс ей в лицо. – Где мой сын, вы, старая ведьма?!
– Можешь не браниться, дочь прачки, я не скажу тебе. Может быть, после, когда ты образумишься и поймешь, что я была права, и так лучше для Патрика…
Агнесс поняла, что сегодня больше ничего не добьется. Слезы кипели в горле, но она не могла позволить свекрови увидеть свое горе, надо было держаться в седле. Она ведь тоже Хепберн. Пока что.
– Господу открыто сердце матери, мадам, он призрит меня в моей печали, и воздаст виновным за обиду… и за полное сиротство сына моего, случившееся от вас!
– Положимся на волю Его, – сухо согласилась леди Маргарет.
Она ушла от свекрови с гордо поднятой головой, хотя подбородок ее дрожал, и шла, все убыстряя шаг, а потом вдруг побежала – со всех ног, как девчонка на первое свиданье, Агнесс летела в часовню, еще раз увидеть Адама прежде, чем он уйдет навсегда. Но буквально на самом пороге столкнулась с невысоким юношей – то был младший деверь Агнесс, будущий священник. Год назад семья, с помощью зятя, графа Ангуса, де юре сделала Джона епископом, хотя и сейчас было видно, что наклонности к монашеской жизни он не имеет никакой, а умение говорить мягким голосом и опускать глаза долу далеко еще не делает из мужчины монаха. Джон был мальчишка, но она не раз замечала его доброжелательность к ней – ни ненависти свекрови, ни равнодушия остальных двух деверей в этом парне не было и в помине. Вот и сейчас, когда Агнес, вне себя и не желая беседы с сыном Маргарет Гордон, хотела проскользнуть мимо, он сам удержал невестку возле дверей.
– Я не знал, – ответил он на ее невысказанный горький вопрос. – А если бы и знал… мою мать не может остановить никто, если она что-то задумала. Скорей всего, мальчика увезли нынче ночью.
– Она опоила меня, старая ведьма! – прорычала Агнесс, пылая яростью.
Джон впервые задумался о натуре племянника, маленького графа: три четверти крови – Гордоны, Хепберны, Стюарты – каждая обладает своим особым бешенством, вот разве о Мюрреях он не слышал ничего подобного. Да, остается ради блага самого Патрика надеяться на Мюрреев, кто бы они там ни были.
– Вы недобро говорите о моей матери, – сказал Джон, однако ей показалось, что в глубине глаз его мелькнула усмешка. – Но я вам прощаю ради нашего общего горя.
– Ради общего?! Деверь, да будет вам! Что вы знаете о моем горе? И что еще было в моей жизни, кроме Адама? – взорвалась Агнесс. Остатки возведенной Энни прически рухнули ей на плечи огненной волной. – Верно, мой сын! Вы лишились брата и дядей, но я утратила не только мертвых, но и живого!
– Ему не причинят зла, – тихо сказал юноша.
– Откуда вы знаете? – повторила Агнесс, но уже без прежней ярости. – Ваша мать терпеть меня не может, Адама больше нет, вы отняли плоть от плоти моей, лишь бы вся власть осталась в семье… откуда я знаю, что станет с моим ребенком? – и слезы хлынули бы ручьем, не будь она Стюарт. А так только несколько капель блеснуло в ресницах, делая ее еще краше даже в глубоком горе.
Джон был невысок и вовсе не темен мастью, как братья, и глаза у него серо-голубые, бледней, чем у Адама. Но он был – Хепберн, он имел в себе все признаки их породы, как змееныши, только вылупившись, уже несут на себе черты прародителя-дракона. Молодая вдова притихла под этим долгим, спокойным взглядом, ее охватила глубокая печаль. Джон взял в свои ладони холодную руку невестки, поцеловал тонкие пальцы, погрел дыханием, поцеловал снова.
– Я постараюсь помочь вам, сестрица, – серьезно пообещал юный епископ.
В часовне Хейлса пахло временем, пылью, воском, ладаном и смертью. Мимо тел обоих дядюшек Агнесс прошла к тому, кого так любила при жизни.
– Она отняла его у меня, – сообщила Агнес, глядя в мертвое лицо мужа. – Ты доверил мне дитя, но она его украла. И я ничего не могу сделать, потому что не знаю, где он, наш мальчик. Ты смеялся над женской враждой, а вот чем оно обернулось. И мне все равно, что она хотела, как лучше – я ее ненавижу! Обещаю, Адам, я найду его и буду с ним всегда, пока он будет нуждаться во мне, пока смерть не разлучит нас. Аминь!
А еще через неделю от Дугласов, из Танталлона, примчался черный гонец. Младшая дочь старой графини, сестра Адама и золовка Агнесс, красавица и хохотушка Мэри-Мардж, умерла в родах, и говорили, что роды начались преждевременно, едва лишь молодая графиня Ангус узнала о судьбе брата и дядей… Маргарет Хепберн выслушала известие, перекрестилась и навсегда облачилась в траур.
Только через полгода молодая вдова выведала, где находится ее сын, и вихрем помчалась в Сент-Эндрюс, где ее уже ждал высокий беловолосый старик. Джону Хепберну тогда было около семидесяти, и он был младший из сыновей Адама Хепберна, лорда Хейлса, и двоюродный дед ее покойного мужа. Старый Джон прожил большую жизнь, и в сердце его, помимо прочих бурных страстей – ненависти, ярости, черной долгой памяти, какая свойственная всем мужчинам семьи Белой лошади – находила себе место порой и любовь. Настоятель кафедрального собора Святого Андрея и основатель колледжа Сент-Леонардс, приор города имел небольшой собственный двор в замке Сент-Эндрюс. Странно звучали в покоях священника детские голоса… Патрик, за полгода успевший почти вовсе забыть мать, дичился ее и ревел, уткнувшись в юбки кормилицы. Старуха МакГиллан всячески пыталась развлечь малыша, но он не поддавался на заигрывания…
Расстроенная, Агнесс оставила мальчика на руках у Мэри МакГиллан, вышла в сад вместе с приором, осыпая его упреками, моля, требуя, заклиная вернуть ей сына.
Старый Джон смотрел на нее с грустью, но непреклонно. Вот эта верная сталь во взгляде отмечала всю хепбернскую породу, с горечью думала Агнесс, вот и у Адама было то же самое…
– Дочь моя, я дал слово, и Патрик вырастет у меня.
– Слово, данное племяннице, значит для вас больше, чем горе матери? – спросила Агнесс. – Вы милосердны, святой отец, как я погляжу… Она – всего лишь мать моего мужа, а я его родила, и хочу, чтоб рос рядом со мной, учился говорить, обнимал меня и… – голос ее прервался в слезы. – Он уже не узнает меня, мой первенец, и это вы во всем виноваты, вы!
Приор переждал, пока она немного успокоится:
– Ты ложно понимаешь милосердие, дочь моя, оно не заключается в глупости и в материнском эгоизме. Я не слишком люблю вдову моего племянника, Маргарет Гордон, но она права. Дитя при молодой вдове, наследник огромных земель и стольких титулов… лорд Крайтона, Хейлса и Хермитейджа, он не будет в безопасности даже в отчем доме… Кроме того, ты можешь выйти замуж.
– Я не хочу замуж.
– Но выйдешь. Ребенок может прийтись не по вкусу твоему новому мужу, словом… посмотри на эти стены, – приор указал на угрюмые башни Сент-Эндрюса. – Он вырастет здесь и вернется в свои земли мужчиной.
Агнесс тихо заплакала.
– Но ты можешь приезжать к нему, дочь моя… так часто, как только захочешь, – сказал старый приор, и глаза его прятали усмешку. – Паломничества в церковь от века служили женщинам прикрытием для чувств, куда менее святых, чем материнская любовь…
О скалы под замком Сент-Эндрюс мерно билось седое северное море.
Через полгода Агнесс Хепберн, урожденная Стюарт, вышла замуж за лорда Александра Хоума, Хранителя Восточной Марки и казначея Шотландии, и в новом году родила дочь.
Герб Джона Хепберна, приора, Сент-Эндрюс, Шотландия
Шотландия, Файф, Сент-Эндрюс, 1522 – 1527
Парень был похож на птенца – взлохмаченного, шустрого, голодного – он сидел на яблоне, дожевывал яблоко и болтал в воздухе голенастыми тонкими ножками.
– Эй! – крикнул Патрик. – Эй, ты! Кто ты такой и что тебе надо в саду моего деда?
– Хорошенькое дело, – отозвался незнакомец, – у священников уже внуки завелись…
– Ну, допустим, он мне не настоящий дед, а двоюродный, но тебе-то какое дело? Живо слезай с яблони!
– А чего это ты раскомандовался?
– Я – Босуэлл! – объяснил Патрик, но это не произвело на незнакомца ожидаемого впечатления.
– Ну, и что? – спросил он, по-прежнему болтая ногами над головой графа. – А я, положим, Хей. Хаулетт Хей.
Это утверждение прозвучало не легче, чем «я – король».
– Что еще за Хей?
– Йестерский Хей из Твиддейла, – уточнил мальчишка. – Хаулетт из Хаулетт-холлоу. Ну, и что ты за Босуэлл, если не знаешь?
Что-то такое, услышанное от Йана МакГиллана среди старых сказок, мелькнуло в памяти Патрика. Хаулетт-холлоу, Совиная лощина, была чудным местом среди топей Мидлотиана, а Йестерский замок так и вообще помогали строить гоблины, это известно всем. Парень и впрямь выглядел странно, теперь, когда перестал жевать – и глаза холодные, и взгляд не тот, что должен быть у доброго католика.
– Так ты – дикая тварь с болот?
– Сам ты дикая тварь с болот, – вежливо отвечал пришелец, – и говно свинячье.
Патрик прищурился:
– А вот спускайся и поговорим…
– Драться станешь? – спросил тот, покачиваясь на ветке.
– Ага, – согласился удивленный граф.
И удивился еще больше, услыхав в ответ:
– Ну и дурак…
В итоге они с Рональдом Хаулеттом Хеем дрались лет до четырнадцати – на кулаках, палками и на палашах – уже потом больше в шутку и чтобы повозиться, так как к тому возрасту Патрик вымахал в свои фамильные шесть с лишним футов и состязаться с малорослым Хеем было бессмысленно даже из-за разницы в длине рук, хотя Рон обставлял и его на увертливость. А в тот раз положение дел скрасило появление самого приора. Старый Джон задрал голову вверх и привычно разглядел птенца на ветке.
– Ты бы мог спросить меня, Рональд, – укорил священник мальчишку.
– Ворованное вкусней, – возразил голенастый пришелец.
– Истинный Хей! – пробормотал почти про себя Джон Хепберн. – Плоть от плоти шотландского рейдерства… спускайся, дитя, пообедаем.
Экономка приора пустила Хея за стол после того только, как, кажется, всего оттерла горячей водой с песком. Рон сопротивлялся и громко орал, но не удрал восвояси, откуда бы он там ни явился, потому что обеды приора славились своей щедростью. Сейчас, в городском доме старого Джона, они обедали всего лишь втроем, кинсменов кормили отдельно, и за столом Патрик имел возможность рассмотреть нового знакомого.
Лорд Рональд Хаулетт Хей, внук старого лэрда Йестера, десяти лет от роду, сложение имел щуплое, но жилистое. На его круглой темной растрепанной голове и глаза были круглые тоже, карие, но какого-то странного золотистого, кошачьего оттенка. Когда он отвечал приору на какой-нибудь особенно сложный вопрос, они еще более округлялись, и Рон делался похож на встрепенувшуюся сову. И эта привычка сохранилась у него на долгие годы вперед.
Одет Хей был бедно, почти как простолюдин, и провожал жадным взором каждое блюдо, подаваемое приору на стол. Дядя Рональда, первый лорд Йестер, отправил его в Сент-Эндрюс, потому как в Йестерском замке оставалось еще видимо-невидимо потомства старого лэрда, и лишний рот, претендующий к тому же на лишний кусок земли, был явной обузой. И Рон знал, что после окончания Сент-Леонардса его отправят в какой-нибудь отдаленный маленький приход, если, конечно, удастся купить для него и такой, если же нет, то единственной дорогой в жизни для Рональда был постриг. Уже из того, как ловко он обчищал яблони в садах горожан, можно сделать вывод, насколько сильно привлекала его карьера клирика. Он жил при колледже, питался впроголодь и имел при себе всего одного слугу, дурковатого парня, который толком не мог последить ни за столом, ни за платьем своего господина. Лорд Рональд лупил его, конечно, в меру своих слабых сил, но это мало помогало вразумлению.
За столом Рон, уписывая за обе щеки, еще успевал давать ответы старому Джону. Они в основном говорили на латыни, и Патрик был оскорблен в лучших чувствах – этот нищеброд свободно переходил с латыни на греческий, цитировал Святое писание и сбился, запутавшись, только в одном из заковыристых псалмов.
– Молодец, – похвалил его приор. – Из тебя выйдет отличный священник, Рональд.
– Вероятно… да, – сразу помрачнев, согласился мальчишка.
Патрик завидовал. Языки давались ему легко, но этой легкости до глубоких знаний пришлеца было, как до небес. Граф недурно говорил и читал на латыни, а почерк у него был, как у лучшего каллиграфа, но греческим в той степени свободы не владел. Зато и светским языкам, приличным благородному человеку, таким, как английский, французский и итальянский, Хей очевидно не обучался.
Когда же старый Джон окончил его экзаменовать, Рональд вежливо поблагодарил за обед, а после перемахнул через ограду в саду и был таков. Но через пару дней пришел снова. Потом пришел опять, и Патрик уже сам выучился выслеживать этого нахального воробья в яблонной зелени. Конечно, они все-таки подрались, а потом помирились. С Рональдом вообще невозможно было долго ссориться – или убить, или уж подружиться. Патрик выбрал второе. В его постоянном окружении было мало сверстников, годных в друзья. Дети кинсменов, с которыми он рядом рос и вполне охотно играл, естественным образом смотрели на маленького графа снизу вверх, а, кроме того, детскую возню весьма лишает непринужденности тот факт, что за случайный синяк, наставленный графу, шкуру с тебя самого могут спустить вполне натурально. Отпрыски же тех вельмож, что наезжали в замок отдать дань уважения злоехидному приору, не слишком привлекали Патрика – он сам любил быть первой величиной, чтобы еще делиться с кем-либо вниманием – да и уезжали восвояси вместе с родителями довольно быстро. А без регулярных мальчишеских драк нормальной дружбы не заведешь. Что до лорда Рональда Хея, так у него была масса преимуществ, и главное из них – он никогда и ни в чем не пытался оспаривать первенство Патрика Хепберна. Но при этом не лебезил и не заискивал, а уж засветить графу в глаз у него было делом самым обычным – только успевай уворачиваться. И – да, это пару раз подвело Рональда под розги, когда о том прослышал приор. Рона высекли, несмотря на мольбы Патрика, тщетно объяснявшего, что это они не нарочно. После порки Рон слез со скамьи, шмыгнул носом и сказал Патрику:
– Ерунда это… вот дядя мой Джордж – он сечет так сечет. Оглянуться не успеешь, а задница, что твое поле весной, вся в бороздах…
– Есть хочешь? – спросил его граф, полный сочувствия.
– Ага, – сознался Рон.
Они вдвоем пробрались на кухню, произведя сущее разорение в запасах хлеба, эля, сыра, ветчины. Парни росли наперегонки, и есть хотелось практически постоянно. Патрик никак не мог понять, отчего Рон с таким стоическим спокойствием переносит порку, пока тот не пояснил, что дома дядья били его смертным боем, просто ради забавы, и выжил он только потому, что даже вот именно умереть уже не боялся. С этой точки зрения жизнь в колледже нравилась Рону куда больше домашней. Самому Патрику была непонятна такая истовость, за шалости он лишался карманных денег, еды, свободы – ибо приор мог и запереть в своих покоях со стражей, но не поднимал на него руку. Юный граф с малолетства отличался фамильным норовом: дед перепробовал на мальчике все виды убеждения, подкупа и соблазна, но отказался от розог. Патрика было проще убить, чем удержать от чего-либо битьем; исполосованный ореховым прутом, рыдая от боли, в слезах, он сползал со скамьи и тащился заново делать то, за что сей момент получал колотушки. Его еще порой можно было уговорить, но принудить – никогда. Его затопляла природная ярость, и мальчишка превращался в зверенка – орущего, царапающегося, кусающегося, раздающего тумаки направо и налево, и никто не мог с ним справиться, пока не приходила кормилица МакГиллан, которая клала его голову к себе на колени, сильно сжимала виски, целовала в лоб… и принималась петь долгие гэльские песни на старом языке, больше похожие на заклинания, и некоторое время спустя конвульсивные подергивания тела прекращались, синие глаза закрывались, и мальчик засыпал. Мэри МакГиллан умерла рано, оставив Йана вдовцом с тремя детьми, и смерть ее стала одной из самых глубоких душевных ран Патрика.
После таких припадков в детстве он пару дней отлеживался, был слаб и страдал от головной боли. Но потом перерос их, как и многое в своей натуре, имеющее отношение к чувствам.
Для чувств вокруг него была, право, не самая безопасная среда. Наследник семьи Хепберн рос среди междоусобной вражды, дрязг, ссор, хитроумных интриг – пока не принимая участия в этой паучьей возне, но наблюдая со всем вниманием, присущим любознательному ребенку. Дело было еще и в том, что Патрику достался совершенно необыкновенный родственник и воспитатель. Соединяя в себе все лучшие признаки породы, его двоюродный прадед имел и полный набор худших. Джон Хепберн был всесторонне образован, повидал мир, обладал незаурядными талантами в политике и литературе. При первом графе Босуэлле в руках приора Сент-Эндрюса находилась малая печать короля Джеймса IV, и этого Джон Хепберн не забывал никогда. Огромная власть иссушила его чувства, но сделала крепким, словно древесный корень. Глубоко верующий человек, он исполнял свои религиозные обязанности не только со рвением, но и с полной убежденностью. Он мог быть – и был – когда видел такую возможность – и сострадательным, и милосердным, в особенности, к малым сим. Никто, ни в городе, ни за его пределами, не мог упрекнуть настоятеля Сент-Эндрюсского собора ни в неподобающей прелату роскоши, ни в распутстве, таком обычном для большинства клириков, ни в стяжательстве. Подкупить его было невозможно – отчасти и потому, что материальные блага его интересовали исключительно как средство, а не как цель. И в суде, и в миру приор был строг, но справедлив, и пользовался всеобщим уважением. Но была и особенность – укрощал свой темперамент он исключительно перед Господом. Леди Маргарет Хепберн, право, преувеличила свои способности к душевидению, когда решила, что к старости приора Хепберна одолеют думы о вечности и смирение…
Через год после того, как Патрика привезли к деду – он сам не помнил, понятное дело, но город судачил об этом следующие лет десять с наслаждением – приор повздорил с папским легатом епископом Эндрю Форманом по причине того, что господин епископ не только самолично сочинял папские буллы, но и желал распространять их, и стричь прихожан непосредственно на подведомственной старому Джону территории. Приор посчитал это, с учетом общих баснословных богатств Формана, выдающейся наглостью и своею волей перекрыл тому доступ на такие жирные пастбища, как Сент-Эндрюс и Эдинбург. Форман очень боялся Хепберна лично и семьи Хепберн вообще, но денег хотелось больше, и посему кинулся на шею лорду Александру Хоуму, тому самому, что стоял за герцога Олбани. Хоум решился защитить папского легата от злобных сынов Белой лошади, и отправил с ним в Эдинбург для провозглашения булл своего брата и десять тысяч человек. А заодно и три тысячи – в Сент-Эндрюс, чтобы поставить во главе города Формана и выбить оттуда старого Джона к чертям собачьим.
Джон Хепберн, осердясь на такую наглость, собрал родственников, кинсменов, арендаторов и слуг, и нафаршировал людьми, оружием и артиллерией собор Святого Андрея, и, когда подошел Форман вместе с Хоумами, сообщил что-то вроде того, что всегда рад гостям, тем особенно, которые знают правила поведения в приличном обществе. Картина, представшая Хоумам, была нештурмуемой, собор Святого Андрея – это вам не фермерский амбар, внутри в самом деле помещалось очень много Хепбернов. С тяжелыми пушками, разумеется. А далее старый Джон самолично поднес фитиль к запалу ближайшей, выставленной прямо на паперть и обращенной к нападающим, и заодно пообещал взорвать собор, как он выразился, к такой-то Божьей матери, если Хоумы немедленно не исчезнут за горизонтом.
Путем длительных парламентерских переговоров разошлись красиво: Хоум уходит, Хепберн остается по-прежнему приором и настоятелем, а Форман делится доходами, да еще и приплачивает кинсменам и друзьям приора триста фунтов на выпивку за беспокойство. Старый Джон Хепберн выстроил заново за свой счет половину городских стен и основал в университете колледж Сент-Леонардс, и он мог позволить себе какой угодно религиозный диспут. Хуже всего в этой истории пришлось лучезарной Агнесс, второй муж которой осаждал Сент-Эндрюс, а сын ее от первого брака при этом находился внутри осажденного замка… она прокляла все на свете, и, в первую очередь, дорогую бывшую свекровь за то, что та вверила Патрика такому подходящему воспитателю.
Бабушка-графиня, узнав об инциденте с Форманом, впала в типично хантлейское неистовство, убежденная, что приор устроил все это исключительно для того, чтоб позлить ее лично, и выслала старому Джону пачку гневных писем. Джон Хепберн отправил их в камин, не читая. А Патрик таким образом побывал в первой в своей жизни настоящей осаде.
Но, по некоторому размышлению, компенсации Формана и унижения Хоума приору показалось мало, ибо фамильное злопамятство требовало утоления. Это ж подумать только, всякая мелкая дрянь станет голову поднимать против Хепбернов! И вот, когда в тот же год в Шотландию вернулся герцог Олбани, когда прошла и присяга, и представление герцога Парламенту, когда Олбани уже сосредоточил в своих руках полноту власти, из Сент-Эндрюса в Эдинбург прилетело письмо, с оттиском на восковой печати все тем же – Белая лошадь… старый Хепберн жил долго, память имел отличную, а потому перечислил все: и грехи папского легата, и все черные тайны Хоумов, начиная от поля Баннокберна вплоть до Флодденских полей. Самым любопытным для герцога было, разумеется, открытие, какую именно роль сыграли отец и сын Хоумы в истории изгнания его отца и брата… в итоге, одно небольшое письмецо благочестивейшего настоятеля Сент-Эндрюсского собора имело для его врагов самые печальные последствия. Папского легата герцог Олбани обобрал, как липку, сняв с него все накопленные к тому дню бенефиции, заодно лишив его и самих теплых мест: епископата, Сконского аббатства и аббатства Мелроуз. А лорд Александр Хоум, отчим Патрика, и его брат, лорд Уильям Хоум, чуть позже были обезглавлены герцогом Олбани по обвинению в государственной измене…
– Видишь ли, – любил повторять Патрику прадед много лет спустя этой истории, – тут правило одно, мой мальчик. Если не можешь сразу убить – говори. Разговаривай, отравленный язык Змея и в раю нашел себе жертву, а уж на нашей-то грешной земле и подавно отыщет…
И при этом ухмылялся в бороду, словно пират после удачного промысла.
Вот к такому-то человеку однажды вечером ввалился исхудалый, уставший насмерть, забрызганный грязью Йан МакГиллан, чтобы вручить приору шумный сверток, состоящий из годовалого графа и его тоски по матери.
Приор сперва рассердился. Он понимал все резоны своей родственницы, но не имел ни малейшего желания нянчиться с ребенком. Он поместил Патрика с его кормилицей и слугами в восточной башне замка и забыл о нем минимум на год, напоминал о правнуке приору только Йан МакГиллан, который регулярно приходил просить денег в той нудной манере, как умеют только горцы. А потом маленький граф уже и сам начал ходить, всюду лазать, сваливаться с лавок и вообще, постоянно попадаться прадеду на глаза. В промежутке между этими двумя вехами в Сент-Эндрюс явилась Агнесс Хепберн, и приору стоило немалого труда и всех запасов своей кротости умиротворить взбешенную красавицу. Правду сказать, она не была укрощена, но смирилась. Когда же он приложил руку к падению лорда Хоума, отношения их с матерью наследника фамилии испортились еще больше. Но зато приор всерьез заинтересовался ребенком – где-то около трех лет мальчика, когда того было уже пора посадить в седло, а заодно обучить чтению, письму и арифметике.
Патрик рос красивым ребенком и обещал стать красивым юношей. И было в нем что-то такое, что во взрослых людях зовут обаянием – мальчик умел привлекать сердца, сперва безотчетно, как это свойственно всем малышам, а потом уже – и по своему выбору. Кроме того, он ничем во всю свою жизнь не хворал – и потница, и даже оспа обошли его стороной, разве что схватил пару раз насморк, повалявшись в луже в дождливый день. Самой большой горестью его стала смерть кормилицы и няньки, Мэри МакГиллан, случившаяся, когда графу было чуть меньше восьми – он и сам был болен с неделю, и все удивлялись, какую привязанность выказывал к семье покойного после, оправившись от горячки. В остальном, он не доставлял приору хлопот, а именно это, как всякий настоящий мужчина, приор больше всего ценил в детях. Будь он хилым, жалким, вечно болеющим заморышем, Джону Хепберну было бы куда сложней ощутить в себе родственные чувства, а так он скоро поймал себя на том, что гордится ладным, смелым, красивым потомком. Постепенно приор привязался к мальчику настолько, что открыл ему доступ в свои покои в любое время, и сам стал обучать его латыни, греческому и закону Божию. К пяти годам Патрик мог и говорить, и читать на языке Книги – не без ошибок, но удовлетворительно. Чистописание давалось ему с трудом из-за природной непоседливости. По прочим предметам, таким, как светские языки, история, арифметика, геометрия, преподаватели сами приходили из Сент-Леонардса в замок. Иногда, в виде особой чести, маленький граф вместе с приором посещал колледж, но то бывали не дни учения, а дни торжественных приемов. Бывал граф и в большом зале замка, когда по пятницам приор вершил свой суд, и за разбором дела мог прийти к нему любой желающий – примерно с десяти лет наследника Джон Хепберн желал его видеть рядом с собой, пока докапывался до истины, хотя мальчик, сидящий на скамеечке у его ног, откровенно скучал, выслушивая нудные жалобы. Куда с большим интересом он следил за тем, как виновного волокут либо в тюрьму, в Кувшин Кающихся, расположенный здесь же, в Морской башне замка, либо на экзекуцию во двор, где палач, тоже Хепберн, а потому прозывавшийся в городе просто Хромой черт, выдавал жертве плетей. Это было самым частым наказанием у приора, помимо позорного столба и колодок, но Патрику ни разу не случалось видеть, чтобы Хромой запорол человека насмерть. На порку он смотрел, не отводя глаз, и вздрагивая сам при особенно жестоком ударе, но после нескольких случаев, когда юный граф пожелал вмешаться и явить снисхождение, не посоветовавшись с дедом, ему настрого было запрещено лезть под руку палачу – под угрозой, что оставшиеся плети он немедленно получит сам. Наказание, объяснял старый Джон, налагается не от жестокости, а по справедливости и с учетом сил виновного, дабы он, виновный, прочувствовал свое прегрешение, и в таком исполнении является частью божественного промысла, нарушение коего есть, в свою очередь, грех. В дни наказаний Патрик бывал тише и задумчивей обычного, но ровно до тех пор, пока кто-нибудь из его свиты не находил ему новую игру или развлечение, кинжал или охотничьего сокола.
У приора был двор, и у Патрика был свой маленький двор. Те полсотни, которые графиня-бабушка выслала из Хейлса вместе с внуком – они ведь никуда не делись. Осмотрелись, попригрелись в замке и решили, что сытая и спокойная жизнь в Сент-Эндрюсе куда привлекательней непредсказуемого и голодного Приграничья. То есть, осталось около двух десятков, которые и составляли слуг и свиту юного Босуэлла, а человек тридцать нахлебников приор приказами и угрозами все-таки выжил из замка. Кроме того, он же периодически грубо лишал оставшихся кинсменов маленького графа иллюзий о спокойной жизни, но, видимо, Маргарет Хепберн нравилась им в качестве леди куда меньше, чем даже такой неугомонный приор – в качестве лорда. Так, у Патрика были свои пажи, прислуга, конюхи, псари, сокольничий, грумы, все мужчины, которые, правда, незамедлительно постарались обзавестись женами-горожанками… Приор кусал седой ус, подсчитывая количество голодных ртов, которое вскорости наводнит замок, но стоически венчал новые пары, запретив приграничникам, чертям, хотя бы совершать handfast, жениться по обряду. Не то, чтобы ему нечем было кормить народ – старый Джон был весьма и весьма состоятелен, но, как настоящий шотландец, несколько скуповат. Впоследствии приор получал мстительное удовлетворение, меняя Хепбернов из Хейлса женатых – на холостых, возвращая родственнице по два, три, четыре рта вместо одного; леди Маргарет писала старому Джону чаще, чем, по его мнению, требовалось, писем он почти никогда не читал, отвечал ей его секретарь, Джордж Хепберн Крейгс, заготовленными посланиями о здоровье и успехах Патрика, а вот гонцы ее порой оседали в замке насовсем. Вместо них возвращались с женами и детьми те, кого вдруг потянуло в родимый край, или от кого приор пожелал избавиться за бесполезностью. Так, к примеру, приехал и остался однорукий Том-конюх, калека Флоддена, который, однако, держался в седле лучше любого здорового, а лошадей любил больше, чем спасение души своей – его-то приор и сам не отпустил обратно, ибо маленького графа как раз пора было сажать на коня, тут и пригодится знающий человек. Кинсмены нарожали детей, и вокруг графа заклубилась ватага маленьких Хепбернов, но все они были, во-первых, вилланы, а во-вторых, моложе графа на два, на три года, и по двум этим причинам, а также благодаря врожденной задиристости, граф был у них вожаком и заводилой. Но ровни-друга-соперника с ним в замке не было. И оттого появление в его жизни лорда Хея стало для него настоящим благословением, потому что Рон как-то незаметно вселился в замок, все меньше и меньше принимая во внимание, что ему положено жить в колледже Сент-Леонардс. Кроме того, рассудил приор, Патрику на пользу пойдет учиться в компании Рона – зависть заставит его побороть природную лень и догонять нищего всезнайку. Ради воспитательного момента и с уважением относясь к очевидным дарованиям юного Хея, Джон Хепберн без сожалений принял его за стол и в дом. Патрик ликовал – у него было, с кем, наконец, драться по-настоящему, ловить лягушек во рву возле замка и надувать их через соломинку, носиться сломя голову на лоулендских пони, биться на палках, отрабатывая сшибки на палашах, болтать, рвать с ветвей зеленые сливы и яблоки, болеть животом от пережора, презирать английский и греческую грамматику – и все это абсолютно на равных, ибо йестерский Хей спуску графу не давал. А вечерами они пробирались в большой зал, слушать музыкантов и певцов приора Хепберна или требовать волшебных историй от личного сказителя графа, правда, отнюдь не всегда Патрик мог слушать его байки так спокойно, как теперь.
Как всякий горец, Йан МакГиллан был прирожденный рассказчик. Истории, долгие и певучие, как сам гэльский язык, текли из его уст непрерывно, словно дыхание. И гэльский язык Патрик Хепберн тоже впервые услышал именно от своего слуги. Йан рассказывал о русалках и селки – людях-тюленях так, как это умеют только на севере. «Но более всего они горевали по Олавиттину, сыну Гиоги» – от этих слов у Патрика проходил мороз по коже, когда он представлял окровавленную, освежеванную тюленью тушу, которая, он-то знал, на самом деле была человеком. Он рассказывал про леди Нокдалиона, разбившую русалкин камень, и про то, как русалка в отместку убила ее ребенка. Он рассказывал о рыцарях, посланных королевой на Тайн ловить речных дев, дабы предсказали будущее нерожденных младенцев, и про то, что королеве это знание не принесло счастья, ибо она умерла родами. Он рассказывал про погибшее от четвероногой рыбы дитя и про белую голубку, про мальчика, убитого собственной матерью. От этих историй маленький граф просыпался с криком среди ночи, и требовал, чтобы кормилица МакГиллан сидела рядом с ним, держа за руку, покуда он снова не заснет. Мэри МакГиллан выбранила мужа, но прошло всего два или три дня, как Патрик потребовал от Йана новых историй. И начались новые истории – про девицу, служившую королю дуун-ши и воспитывавшую его детей, потерявшую в итоге рассудок от любви к государю холмов, про шабаши ведьм в заброшенных церквях Севера, на которых можно либо погибнуть, либо быть перенесенным в Париж и обратно, про Эльфина Ирвинга, виночерпия фей и его помешанную сестру, про несказанное чудовище Нэккилейви, про церковь Даларосси, куда бегут все души, обреченные после смерти дьяволу, дабы разорвать эти цепи – но не все достигают цели, ибо сатана преследует их в виде черного охотника на черном коне и травит своими адскими собаками. От новых историй Патрику снилось такое, что он вовсе запретил гасить свечи в покоях даже и на ночь, Мэри МакГиллан стала опасаться сгореть во сне, а муж ее Йан, когда дело дошло до Джона Хепберна, едва не заработал порку. Старый Джон забрал мальчика к себе, и граф спал на приставной кровати у ложа приора – храп деда приносил успокоение его мятущемуся воображению. Храп настолько не вязался ни с ведьмами, ни с русалками, ни с королем фей, храп был до такой степени прозаичен и материален, что можно было спокойно спать – никакое волшебное существо однозначно в покои не проберется. Граф все равно требовал историй от Йана, но тот, умудренный беседой с приором на тему возможных способов приложения плети к человеческому телу, выбирал теперь из своего арсенала совсем детские сказки: про селки – жену рыбака, про троих зеленых человечков из Глен-Невиса, про Ловкача, сына вдовы, и про Джила Макдональда по прозвищу Бронзовые башмаки. И бурчал себе под нос, что люди Лоуленда не понимают истинной красоты жизни.
Но длительное присутствие мальчика в поле фантазий Йана не прошло бесследно, и Патрик сам решил поговорить с дедом. Как-то вечером приор стоял у стола за чтением старинного свитка десятого века. Его сухие длинные пальцы бережно, словно касаясь кожи ребенка, разворачивали пергамент – любование маргиналиями доставляло старому Джону наслаждение почти чувственное, когда за спиной у него вдруг раздалось:
– Но почему они не спасутся, Ваше преподобие?
Больше часа Патрик провел в кресле, свернувшись калачиком, следя за его работой, и вот теперь внезапно подал голос.
– Кто именно, мальчик мой? – рассеянно спросил приор, вглядываясь в текст.
– Ну, болотные твари, милорд, те, что живут камышах и танцуют на лунных бликах в воде. И русалки, и селки… почему они горюют, что не спасутся?
При этих словах приор разогнулся и внимательно посмотрел на мальчика. Дурная кровь мечтателей Стюартов, не иначе. Он не помнил себя в десятилетнем возрасте, но и до седых волос ему не пришло в голову задаться вопросом, поместят ли в раю волшебных тюленей, и если нет, то почему. Однако Патрик глядел на него, ожидая, и надо было отвечать. Приор немного подумал, но не вспомнил в священных текстах ни одного прямого указания.
– Потому что у них нет души… вероятно. Вместо сердца у них – холодный камень, и душа – блуждающий огонь над трясиной, нечто несказуемое. А чтобы спастись, чтобы попасть в рай, надобно иметь живую душу, данную от Всевышнего, чтобы было чем понимать Господа, каяться и молиться.
Но это не спасло его от дальнейшего обсуждения, и свиток так и остался лежать на столе, развернутым лишь наполовину.
– А почему у них нет души?
– Потому что они сотворены Господом до людей… первыми, как проба мастерства. Души им не полагалось, но сердце порой есть, и они могут испытывать простые чувства.
Согласно сказкам Йана, чувства их были не так уж просты, но возражать Патрик не стал.
– Йан говорил, из селки получаются отличные жены, ну, пока они не найдут свою шкуру, конечно, – сказал он. – Я думаю, было бы здорово жениться на селки, они красивые…
– Вряд ли разумно будет делать тюлениху графиней, – не согласился приор. – Они все равно чахнут на суше, а я не припомню большой воды нигде в твоих владениях. Не собираешься же ты прожить всю жизнь в Сент-Эндрюсе…
– Нет, мне не хотелось бы, – согласился мальчик. – Я надеюсь когда-нибудь вернуться домой. А в наших холмах вы когда-нибудь видели эльфов, ваше преподобие?
Приор не был в родных краях лет пятьдесят, и все, что он видел в холмах даже в ту романтическую пору своей юности – это вереск.
– Нет, но я всегда велю миссис Кроу оставлять молоко для брауни, – улыбнулся он. – Никогда не знаешь, понадобится ли тебе помощник для срочной работы. Хотя ты уж, будь добр, не рассказывай об этом никому – мой сан не позволяет признаваться в общении с волшебными тварями.
– Скажите, милорд, а все, что говорит Йан – правда? Про брауни, богглов, селки и церковь Даларосси?
– Я не знаю церкви с таким названием, сынок, но любой Божий дом хранит душу от дьявола. А что касается россказней твоего слуги… он – горец, там видят мир по-иному, нежели в Лоуленде. Не говорю, что неверно, но по-другому. Побываешь у своей родни на севере – поймешь.
– Он говорит, что и в Лоуленде есть такие места, что… расскажите мне про камни Найнстен Риг, ваше преподобие, пожалуйста!
Тут уж приор всерьез задумался и решил, что мало объяснил МакГиллану о просветляющих свойствах порки. И переспросил правнука:
– А что ты об этом знаешь?
– Что их поставил колдун де Сулис, тот же, что построил чертов черный замок Хермитейдж, а потом его, в свинцовой обертке, чтоб не сбежал, сварили живьем ведьмы в котле, в том каменном кольце, и душа его до сей поры бродит в камнях, пугая воплями путников, и…
Камни поставил вовсе не де Сулис, там и до Сулиса было очень странное место, но Патрику знать об этом пока не полагалось. Да и вообще, как добрый христианин, Джон Хепберн полагал, что есть вещи, в кои совать нос не следует никому, кроме экзорцистов, а тем паче, юному графу Босуэллу. Пожалуй, Йану все-таки перепадет добрая трепка…
– Уильям де Сулис умер в Дамбартоне, – разочаровал он мальчика, – и вовсе не от ведьм, а от голода в тюрьме, так как злоумышлял на короля Роберта.
– А русалки водятся там, в Хермитейдж-уотер?
– Нет. Я не видел. Разве только что только в Тайне, но это узнаешь, когда приедешь в Хейлс к леди-бабушке.
– А банши?
– Насколько мне известно, мой мальчик, банши у Хепбернов тоже нет, – отвечал приор, пряча улыбку в бороду, – это привилегия горцев.
– Стало быть, когда я буду умирать, – на всякий случай уточнил Патрик, – никто не придет выть над моим телом?
– Разве что только леди-супруга, – также серьезно предположил прадед.
– Мне бы не хотелось, чтобы она очень уж сильно вопила, – задумчиво сказал мальчик. – По правде сказать, мне кажется, умирать вообще не слишком приятно, а если уж еще и воют вокруг все время…
И он, и приор вряд ли могли предположить тогда, что личной банши Патрика Хепберна, третьего Босуэлла, в итоге окажется яблочный вор родом из Хаулетт-холлоу. И не будет никакой леди-супруги поблизости, как он тогда и хотел.
Когда одинокий ребенок в роскошных покоях замка Сент-Эндюс засыпал и просыпался, под его окнами, там, далеко внизу, об утес билось море. И он мечтал, как любой мальчишка, когда-нибудь отправиться в плаванье на большом корабле, увидеть чужие страны, встретить настоящих норвежских селки и пляшущие огни в небесах над холодным морем… Шансов на это, правда, было у него очень мало – приор неустанно твердил о том, что обязанностью главы семьи является поддерживать мир и порядок среди своих людей и верно служить государю. Но хорошо было говорить приору, который в молодости и попутешествовал по Европе, и жил в Париже, и даже написал отнюдь не религиозную книгу об искусстве охоты. А Патрику априори предлагалось удовольствоваться сушей и своим изрядным куском границы. Он бродил по стенам, усаживаясь, как маленькая нахохленная птица, между зубцов, свесив ноги в шумящую бездну – МакГиллан при этом стоял в полушаге от графа, готовый всякую минуту схватить своевольное дитя за шкирку и втащить обратно на стену – и долгие дни смотрел, как приходят суда в залив Сент-Эндрюс: большие и малые, торговые, военные и легкие лодчонки рыбаков. Кажется, и устный счет он освоил в совершенстве, пересчитывая мачты и корабли. А, став постарше, он по-прежнему проводил летние дни на стене, теперь уже прикидывая на глаз водоизмещение.
Дед не пускал его в город. Впрочем, нет, не так – в город Патрик выезжал только с дедом. Сначала – на лохматом лоулендском пони, как полагалось сыну и внуку приграничника, подлинному Хепберну, а в пять лет ко дню рождения он получил от деда настоящего коня – разумеется, ему требовалось плечо МакГиллана, чтоб забраться в седло, но уж на коне он держался цепко, как мартышка. Каурый обладал мягким характером, вдобавок Патрик постоянно таскал ему на конюшню яблоки и морковку, и Каурка начинал танцевать в стойле, издалека завидев маленького хозяина. Сам приор выезжал на огромном белом боевом жеребце, более приличествующем рыцарю, а не священнику, но ведь приор был Хепберн. Они составляли заметную пару, объезжая город, старик и мальчик, в сопровождении слуг, глашатаев, родичей, кинсменов и джентльменов Файфа.
Он бывал с дедом на службе в соборе – всегда на самом почетном месте, на именной скамье Хепбернов, бывал в ратуше, когда приор посещал городской совет, иногда – в Сент-Леонардсе, но большей частью посещать колледж было незачем, все педагоги приезжали в замок. Иногда они вдвоем по нескольку дней жили в городском доме старого Джона неподалеку от собора и колледжа, и это нравилось Патрику куда больше, чем замок: конечно, отсюда не видно моря, и нет никакого величия в простом фахверковом строении, зато есть яблоневый сад, и скрипучая лестница на чердак, и лаз на черепичную крышу, откуда можно без помех созерцать окрестности, упиваясь прелестями городской жизни. Ведь, по сути, Сент-Эндрюс был его тюрьмой, очень дорогой и уютной, но все-таки клеткой. Будучи окружен все теми же Хепбернами, что и дома, он не ощущал отделения от семьи – но он и не знал семьи. Он не покидал Сент-Эндрюс ни на Рождество, ни на день Святого Николая, ни в праздник майского древа, ни на Михайлов день. Бабушка ни в коем случае не разрешала, словно он был зачарованный и сокрытый принц из старинных легенд. Его семья была – старый Джон и МакГилланы. И мать, конечно, и сестренка Хоум.
Эксцентричная и прекрасная леди Максвелл наезжала в Сент-Эндрюс почти каждый месяц, иногда прихватывая с собою и дочь. Агнесс находилась в ту пору в расцвете своей красоты, и третий муж души в ней не чаял, несмотря на то, что, после неудачной беременности, закончившейся выкидышем, рожать она больше не могла. Теперь уже было ясно, что Бог выделил Агнесс только двоих: Патрика Хепберна и Дженет Хоум. И вот, верхом, во главе кавалькады Максвеллов, порой и в сопровождении своего лорда, она вихрем проносилась через весь город и врывалась в замок. Патрик начинал ждать эти дни задолго до того, как приезжала мать, и сутками пропадал на стене. Старый Джон давно смирился с тем, что упрямую женщину из приората не выкуришь, более того, ее упорство в исполнении материнского долга даже стало вызывать в нем некоторое уважение. Агнесс, правда, с ним едва разговаривала, не простив ни первого отказа отдать ей сына обратно, ни того, что приор своими стараниями во второй раз сделал ее вдовой. Но выбора у нее не было – ради того, чтобы видеться с Патриком, приходилось терпеть и приора.
Едва мать спешивалась, Патрик уже бросался к ней в объятия, сминая юбки, плащ, кружевные жесткие воротники, и вис на ней, и целовал, и затихал, прижавшись лбом к теплой шее. Время вдвоем летело для них стремительно, и когда она уезжала, он тотчас начинал считать дни до будущего месяца. Про леди Максвелл поговаривали, что она несомненно завела в Сент-Эндрюсе любовника – далеко не все знали, что у лучезарной Агнесс тут воспитывается сын, но ей были нипочем любые сплетни. Все время ее пребывания в замке Патрик собачкой ходил за матерью, ни на шаг не отступая от пышных юбок, чем заслуживал всегдашние насмешки сводных братьев Максвеллов, рослых лоботрясов. С рыжим Робертом, старше его двумя годами, они даже подрались, и граф Босуэлл был нещадно избит, но не отступил и привычки своей не оставил.
Первое время, когда мать уезжала, он, маленький, долго и горько плакал, переживая разлуку, потом устал плакать, потом приор уговорил его «быть мужчиной». Все равно же от его горя ровно ничего не менялось, и мать продолжала уезжать. Но она продолжала и возвращаться.
Леди Максвелл не белила лицо, не боялась смеяться, бегала наперегонки с сыном, путаясь в юбках, объясняла ему тонкости соколиной охоты, ревниво расспрашивала его учителей об успехах в учебе и проводила теплые весенние дни, сидя с ним во дворе замка в тени набирающих силу яблонь.
– Ты меня любишь, мама?
– Больше жизни, дитя мое.
И она говорила правду, Патрик чувствовал это всем сердцем.
– Расскажи мне про отца…
Адама Патрик не помнил вовсе, никаких теней не сохранило его младенчество. Агнесс обнимала сына, клала его голову себе на плечо, так, чтобы эта вечная сказка, которая никогда не надоедала мальчику, вливалась прямо от ее губ ему в ухо – и начинала плести песнь, полную чувств и воспоминаний. Из памяти стерлось все – и даже смерть Адама – кроме любви и юности, и он по-прежнему пребывал с Агнесс, неизменный и отчасти воплощенный в сыне. Как они встретились в доме ее брата, лэрда Треквайра, что он говорил, как выглядел, во что был одет; как их венчали и дважды играли свадьбу – в Эдинбурге при короле и для своих в Хейлсе; как он рад был рождению сына… Патрик слушал снова и снова, словно то была легенда о древних героях-полубогах, а вовсе не о его собственных родителях. Только о Флоддене он никогда не спрашивал, боги не должны умирать. Он утащил у Агнесс дорожное зеркало из полированной меди и долго разглядывал себя, пытаясь найти соответствие ее словам об отце: синие глаза – это от него, и норманнский нос де Хиббурнов, и намечающаяся ямочка на подбородке. И он неистово жалел, что мастью вовсе не Хепберн, не вороной. Цветом волос он оказался Стюарт, более того, с пугающей неизбежностью обнаруживала Агнесс порой в нем черты покойного брата Джейми Треквайра.
А вот Дженет Хоум, которую почти всякий раз брала с собою Агнесс, напротив, к его огромной зависти уродилась темненькой. Родственники бедового Алекса Хоума легко отдали девчонку матери – чай, не сын-наследник. Патрик злился, ревновал ужасно, но потом смирился с этим неизбежным приложением к визитам леди Максвелл, когда же подрос, младшая сестренка начала его забавлять своими ухватками. Джен Хоум была леди с пеленок и с малолетства командовала всяким мужчиной, попадавшим в ее поле зрения, независимо от возраста жертвы. И только старший брат вызывал в ней глубокое и всеобъемлющее восхищение. В те дни две детские головы утыкались в подол леди Максвелл, и белокурая, и темная в кудряшках, и под яблонями слышался все тот же вечный припев:
– Мама, расскажи мне…
Джен тоже почти не помнила отца, но ей повезло больше – Джон Максвелл воспитывал ее, как свою, и она росла вблизи матери. Вот по этому женскому теплу, доступному, только руку протяни, в любое время дня, во всякое время года, а не только несколько дней за месяц, он и голодал страстно, алчно, нестерпимо, этим теплом он и жаждал напитаться хотя бы от короткой жизни кормилицы Мэри МакГиллан, но ему никогда, никогда их не хватало – ни тепла, ни женщины рядом. Патрик Хепберн был, несмотря на то, что уготовила ему дальнейшая жизнь, в большей степени именно мужчина для женщин, и семена этой вечной, неутоленной тяги легли в его раненую душу именно там, в Сент-Эндрюсе.
Но и плевелы люциферовой гордыни посеяла в нем тоже, конечно же, мать.
– Помни, – твердила ему Агнесс, – ты не только Хепберн, ты также и Стюарт… и даже, на самую малость – Плантагенет.
Отравленные слова. Они кому хочешь свернут набекрень мозги, что уж говорить про десятилетнего мальчика, которому, вдобавок, рассказывает об этом мать, прекрасная и недосягаемая, как солнце. Она же вещала ему про изощренную в хитроумии, отваге и фортуне незаконную ветвь Плантагенетов – про везучих Бофоров, взысканных удачей настолько, что ныне их отпрыск по женской линии занимает английский престол. И огромное впечатление на Патрика производила мысль, что он также – дважды через Джоан Бофор – кровно причастен к старому дьяволу Джону Гонту, Плантагенету природному, а через него – и к английским, и к шотландским королям, к Стюартам и к Тюдорам. Несколько ночей подряд он даже думал об этом, не в силах спать… воображал свой фамильный герб – роза, стропила, пара львов combatant – на штандартах королевской армии, вел войска, завоевывал города и страны, население коих принимало его с восторгом, а он был к побежденным необычайно милостив… но эта фантазия вскоре прошла, да и сколько их было, тех фантазий, в мальчишеском детстве… по-настоящему его хватало только на то, чтобы организовывать батальные сцены во дворе замка, набирая воинов из детей кинсменов, великодушно отдавая Рону место главнокомандующего противной стороны. Все происходило очень шумно, со многими воплями, тумаками и ссадинами, кое-кому разбили нос, особо неудачливые отделались сломанной рукой. Патрик имел длинную беседу приором на тему, что слуг надо беречь, но слова прадеда все меньше и меньше проникали в эту крепколобую голову. И все чаще воплощению планов его споспешествовал лорд Рональд Хей из Хаулетт-холлоу.
Он ведь и в действительности был лордом, этот нищий мальчишка, круглоголовый, с неровно обстриженными вихрами, с широко расставленными глазами неясыти – зрячими и цепкими сверхъестественно. Было смешно смотреть, как склоняется перед ним единственный слуга с этим подобострастным «милорд Хаулетт Хей», пока граф Босуэлл не уяснил для себя кое-какие подробности. Про Хаулетт-холлоу, Совиную лощину, слухи ходили различные, но Йан МакГиллан смог сообщить только, что Хаулетты – один из старейших и знаменитейших рейдерских родов Бервикшира, хотя теперь практически вымерший. Сыновей всегда рождалось мало, до тех пор, пока мальчики не перестали рождаться совсем…
– Понимаешь, я – последний из Хаулеттов, – пояснил как-то Рональд Патрику Хепберну. – Правда, по женской линии. Хеи давно хотели захапать Совиную лощину, вот и женили младшего на единственной. Младшего сына от третьего брака лэрда Йестера на единственной дочери и наследнице старого Хаулетта из Хаулетт-холлоу. Она умерла, когда мне было три… больше я ничего не помню… кроме мягкости ее волос в моей руке и песни, которую она пела, бывало, когда я долго не хотел засыпать. И от нее ничего не осталось, только вот этот крест, что у меня на шее, и могила в Совиной лощине. Всё. Но зато этот акр земли, где стоит башня – это моё, только моё. Правда, и оно отойдет церкви, когда я приму постриг – так хотят дядья и сам лорд Йестера.
Двое лордов, богатейший и безденежный, бездельничали на крепостной стене, глядя на закатное солнце в заливе, пересчитывая мачты, ставя заклад на то, кто первым угадает флаг приближающегося корабля. По правую руку от замка на мысу вздымалась в небо громадина собора Святого Андрея. День выдался жарким, обоих мальчишек разморило в тепле – лучше момента для откровенности не придумаешь, чем теперь, лежа пузом на шершавых плитах известняка, овеваемых соленым воздухом с моря. Граф Босуэлл проиграл пари, лишившись десерта на ужин – и днем глаза Хея были острее, чем взор кречета из поднебесья, а еще он отлично видел в темноте, под покровом ночи, и на зависть другу искуснейше подражал крику неясыти. В часы, свободные от учебы и общих проказ, Рональд пропадал среди сокольничих приора Хепберна, весьма сведущего в такой охоте, и промежду слуг говорили – редкая птица не сядет на руку этому парню. Всякая когтистая тварь словно чуяла в нем свойский дух, родную кровь. Первый Хаулетт, как гласила легенда, как раз и был человек-сова… само имя его означало «неясыть» на языке отщепенцев, рейдеров, конченого люда Границы. Первый Хаулетт пришел в Мидлотиан еще до Хепбернов, вместе с норманнами Вильгельма Ублюдка. Это была такая толща веков, неосязаемо плотная, за которой могли таиться любые сокровища. И потому Патрик, решившись, спросил:
– А правда всё, что говорят про Хаулетт-холлоу… ну, сам понимаешь?
Первый раз они говорили о том после знакомства, когда он обозвал Хея болотной тварью. Но, против ожидания, Хей отвечал весьма прозаично:
– А я не знаю, что сказать тебе, вот те крест. Я ж оттуда увезен был после трех лет и вырос в Йестере, с той поры башня медленно рушится, меня туда не пускали, а в шесть отправили сюда, в Сент-Эндрюс. Но рассказывают, что чужаку в Совиную лощину хода нет – место заклятое, и если лэрд башни не захочет, так и не найдет ее никто.
– Выходит, ты теперь – лэрд башни, Рон?
– Я, – Рональд Хей помрачнел, – да что от того толку священнику-то? А потом…
Он помолчал. Над каменным выступом за его спиной кружилась пара ласточек, приносящих в глиняный комочек гнезда, приклеенный к водосливу, то мошку, то червяка… оттуда раздавался жадный писк птенцов.
– Ну? – поторопил Патрик.
– Ну, смотри, – отвечал тот.
И вдруг развернулся, пошел в сторону птиц, которые разлетелись при его приближении, подтянулся на руках, шустрый, словно лесной кот, достал из гнезда несчастного птенца – комочек пуха на твердой ладони, повторил, вернувшись к Босуэллу:
– Смотри…
Не понимая еще, Патрик смотрел, переводя взор с птенца на Рональда и обратно, а потом не понял, но почуял – мгновенным холодком по спине. Лорд Хаулетт Хей не делал ничего особенного, не сжимал пальцев, только глядел, не отрываясь, на свою добычу. Взрослые ласточки с диким криком кружились над ним, не смея приблизиться. А птенец в ладони перестал трепетать крылышками, шевелился уже совсем слабо, медленно, вот он начал прикрывать глаза, раз, другой, третий, словно бы засыпая, остывая уже…
– Вот… видишь?
Совершенная смерть, воплощенная в тщедушном мальчишке.
А еще в покоях лорда Хея никто никогда не видел мышей.
– Оставь его! – приказал Босуэлл с возмущением.
Рональд пожал плечами, опять поднялся к гнезду, уронил в дыру еще теплое тельце.
– Все равно они выбросят его сами, – пояснил практично, – он теперь пахнет для них неясытью… понимаешь теперь, почему мне иной дороги, кроме как в монастырь, нет? Совиная лощина разорена и больше не поднимется вновь, а спроси у деда – кто такие были Хаулетты…
Босуэлл хотел от слуги жутких историй о волшебных тварях, но одна из них уже была возле него – во плоти. Как ни странно, эта мысль скорей ободрила его, чем взволновала – как если бы он получил заступничество с иной, доселе незнакомой стороны.
На другой день, вернувшись на стену замка в одиночестве, Патрик Хепберн обнаружил трупик птенца, выброшенного парой ласточек из гнезда.
В Морской башне, в темнице, выли, от Кухонной шел теплый запах еды и жилья, в цветных витражах часовни преломлялся свет, разбрасывая на изразцовые полы внутри нее яркие капли солнца, в открытой аркаде под нею обычно прогуливались гости приора. Две круглых сторожевых башни – справа и слева от Воротной – смотрели на город дулами медных пушек, горячих сейчас не от огня сражения, но от солнца. Между Воротной и правой Сторожевой, также прозванной Епископской, находились покои архиепископа Сент-Эндрюсского, большую часть года пустовавшие. Под ними располагались комнаты старого Джона Хепберна. Скрипел ворот у колодца, яблони отцвели, слуга нес корзину съестного на милостыню нищим. Дело шло к полудню, сонные мухи летали над полупустым двором.
Патрик Хепберн, граф Босуэлл, и лорд Рональд Хей сидели на крыше конюшни и рассуждали о свойствах падения твердых тел, а именно – о скорости, силе удара о препятствие и наносимых при том разрушениях. Рядом с ними была сложена кучка учебных пособий: горшок дерьма из отхожей ямы, горсть камней, от мелких до увесистых, с куриное яйцо, кувшин тинистой воды из рва, дохлый, основательно подгнивший голубь и живой, шипящий в мешке кот. Мишенью благородных лордов предполагались, понятное дело, профессор физики и преподаватель английского, которому при любом раскладе, бедняге, доставалось больше всех. Преподаватели должны были с минуты на минуту прибыть в замок, а крыша конюшни имела очень удобный выступ, с которого открывался идеальный обзор на всех входящих и въезжающих, а также двор с этой точки простреливался целиком в любую сторону, потому благородные лорды и избрали его в качестве разбойного гнезда.
– Опаздывают что-то… – зевнул Хепберн. Он полночи жег приоровы восковые свечи над «Записками о Галльской войне», вслед за Цезарем проходя все перипетии сражений, и у него сейчас не было никакой тяге к физике, за исключением данной практической работы.
– Чур, англичанин мой! – мстительно затребовал Рон, у которого с сассенахом были свои счеты.
Патрик пожал плечами:
– Уступаю…
Они ждали нескольких человек в мантиях профессуры, жалко просачивающихся через калитку в замок, но тут запели воротные механизмы, поползли вверх толстенные цепи, и замок Сент-Эндрюс начал медленно открывать свои вековые врата целиком… Парни мгновенно забыли о жертвах на подходе.
– Ого! Кого это черти несут?
Рон подскочил на ноги, принялся высматривать гостей:
– Никак сам архиепископ пожаловал?
После незадачливого Формана архиепископом Сент-Эндрюса стал кардинал Джеймс Битон, самое большое преимущество которого, с точки зрения приора, было в том, что он крайне редко посещал епархию, будучи занят государственными заботами при дворе. Зато всякий раз его посещения сопровождались пирами и праздником в замке, а потому младшее поколение ждало приездов Битона с особым интересом. Но во двор на рысях влетела кавалькада престранно одетых людей, во главе которой на боевом коне восседал совсем юный всадник – не старше и не крупней Рона.
– Это что еще за чудики?
– Горцы, – пояснил знающий Рон. – Гляди-ка, все без штанов.
– Что, правда?
– Зуб даю, так! Видишь, в тряпки замотаны?
На приехавших в самом деле красовались сине-зеленые пледы, а мальчишка, их лэрд, был вообще разодет, словно король, с роскошью кричащей и порядком безвкусной. Патрик приценился к нему:
– Не, ты только глянь на этого петуха!
– Плакали наши катапульты, – с сожалением признал Хей.
– Это почему еще? Это-то чем тебе не мишень?
Но Рональд тем временем пристально вглядывался в приезжих. Вымпелы на древках копий, штандарт – голова оленя, корона…
– Постой-ка, – молвил он Хепберну, и новая интонация прозвучала в этих словах. – Я знаю этих парней, и эти пледы знаю. Пятьдесят лет назад тогдашний граф Хантли отжал кусок земли у моего деда Генри Хаулетта, хотя перед тем Гордоны сами отдали его в приданое.
– Так ты и Гордон тоже?
– О, на самую малую долю. На восьмую или даже на всю шестнадцатую.
– Ну, так вот тебе и случай возместить, о последний лорд Хаулетт.
– Бить будут, – сказал Рон с уверенностью.
– Так кабы оно впервой… давай-ка сюда кувшин. Заряжай! Целься! Пли!
Кувшин с гнилой водой, грохнувшись по центру людного двора, произвел внезапный переполох в стане горцев, но вслед за ним туда сразу же полетели горшок дерьма и дохлый голубь.
– Котом! Котом не промажь! – переживал Патрик. – Такую скотину вторую пойди поймай!
Они, изрядно веселясь, израсходовали весь арсенал боеприпасов, однако так и не попали в мальчишку, который дергал удила своего коня, страшно бранясь по-гэльски и вертясь на месте, пробуя разгадать, откуда сыплется на его людей кара небесная в виде перепревшего дерьма и живых котов. Снизу двоих благородных лордов, сидящих на крыше, видно не было, и засечь с земли их можно было только в момент отхода, который неумолимо приближался.
– Отступаем…
И Босуэлл был вынужден выползти из-за скрывающего их зубца фасада.
– Вон они! – заорал мальчишка в седле, вне себя от гнева. – Хватай этих ублюдков, ребята!
Так Патрик Хепберн и познакомился со своим троюродным братом – Джорджем Гордоном Хантли, который в сопровождении клансменов и слуг прибыл весной тысяча пятьсот двадцать пятого года в святой город Сент-Эндрюс ради исправления манер и получения образования. Их не поймали, ибо Патрик всегда отступал вовремя, но, ясное дело, кто же еще, кроме этих двоих чертей, был способен на такую мерзкую каверзу? Рональда по традиции высекли, Патрика на двое суток приор посадил на хлеб и воду пополам с молитвами. Но цели, которой, впрочем, не ставили, молодые люди добились – граф Хантли обратил на них самое живое внимание.
Джордж Гордон, четвертый граф Хантли, внук и наследник старого Александра, был младше них на два года, но выглядел старше своих лет, по росту и весу уже обогнав тщедушного Хея. Патрик довольно легко выиграл у горца главенство – и из-за возраста, и потому, что ведь это он явился на их территорию, в их замок. Джордж, впрочем, поначалу и не слишком возражал, увлекшись новым знакомством. Он скучал по Абердинширу и по брату, не имел ни малейшей склонности учиться и еще менее желал надевать штаны, разгуливая по замку и городу в горских тряпках. Штаны – единственное, что ему люто не нравилось в придворной жизни, о которой он с увлечением рассказывал. И много болтал о короле тоже – похоже, они успели привязаться друг к другу за краткое время пребывания Хантли при дворе. В том, что касалось личных дел – своих и окружающих – Джорджи не держал язык за зубами никогда. Патрик ему завидовал – горец за свою маленькую жизнь уже видел столько мест и столько людей, что Хепберну оставалось только помалкивать и делать вид, что в этом нет ровно ничего особенного. Он и сам уже неистово хотел в Стерлинг и Эдинбург, повидать короля, восхититься грозным Арчибальдом Дугласом Ангусом, королевским отчимом, и положил поговорить с приором, когда того отпустит приступ подагры… Джорджи, собственно, состоял как раз под опекой графа Ангуса ввиду малолетства, и нынешний ментор его был из Дугласов, и большая часть доходов с его владений попадала в цепкую лапу Ангуса, однако здесь, в Сент-Эндрюсе, был он сам себе голова. Джорджи жил и ночевал, где хотел, выезжал куда и как хотел, вскорости облазал город, от порта до самого малого переулка, и вдобавок, у него водились деньги. Аластер Гордон, лэрд Стретхэвен, заправлявший делами в Хантли, снабжал средствами своего племянника, и Джордж привычно запускал руку в кошель, где монеты плодились будто сами собой. Горский кузен был неприлично богат. До встречи с ним Патрик как-то не задумывался о деньгах в принципе. Хепберн тоже был весьма не беден, но приор на всякий случай ограничивал его в карманных деньгах, а у Джорджа никакого ограничителя не было. Они легко образовали бесшабашное трио – два графа и Хей, которому предстояло стать священником. Идейным вдохновителем был Патрик, большая часть трудной работы выпадала на долю Хея, а средства для приключений поставлял Гордон. Гордон великолепно бранился на гэльском и выучил этому Хепберна, а, главное, Хантли был покорен умением Босуэлла пускаться во все тяжкие, изобретая самые гадкие штуки, не боясь ни людского, ни божеского порицания. Босуэлл был скор на придумку, сообразителен и остер на язык. Кроме того, два года разницы – огромное число в детстве, эти два года и после, во всю оставшуюся жизнь, заставляли графа Хантли смотреть на белокурого кузена, всегда восхищаясь, чуть снизу вверх. Что же касается тартана, то тут уже Джордж добил в аргументации обоих лоулендеров, продемонстрировав удобство мочиться, какого вовек не достигнешь в штанах.
Втроем они стали абсолютно неуправляемы и быстро выбрались из замка в город. Вначале приор был озадачен вопросом, как ему теперь обеспечивать безопасность наследника семьи – не отправлять же следом за Патриком по огородам и садам всю его разросшуюся свиту? – но вскоре понял, что задачей его, как главы города, было именно обеспечить безопасность горожан от Патрика Хепберна, а вовсе не наоборот. Парни швыряли горшки с нечистотами в почтенных горожан, испытывая знаменитую катапульту, забрасывали котов в горящем мешке в открытые окна купеческой гильдии, пугали горожанок, запуская жуков им на платья, вызвали на поединок студентов Сент-Леонардса и умудрились даже побить палками двоих из старшего курса, совали нос в самые злачные трактиры – всего один раз, и, к сожалению, МакГиллан тут же донес приору, а наиболее отвратительная проделка выпала, ни много, ни мало, на Пасхальную неделю, когда оба малолетних графа, притаившись у ограды собора, вылили двум приличным дамам смолы на подол платья, а юркий Хей насыпал на смолу перьев. Джордж Гордон после утверждал, что-де доподлинно слышал, что те злополучные дамы наставляли рога мужьям. Скандал разразился ужасающий. Беда была в том, что и жена купца-мануфактурщика, и леди, супруга известного в Сент-Эндрюсе правоведа, будучи чисты, как свежий снег, оказались тем самым перед всем честным народом ославлены шлюхами и более оставаться в городе никак не могли, ибо слухи-то роились независимо от их невиновности. Разъяренные мужья явились к Джону Хепберну требовать правосудия – и мало когда Патрик видел прадеда в таком приступе фамильной ярости. Хепберн сидел под замком неделю наедине со Святым писанием, отхожей бадьей и кувшином воды, Хей неделю, напротив, не мог сидеть, Гордон был отправлен вон из замка на постоянное и поднадзорное проживание в колледж с сокращением содержания, а старый Джон вдобавок был вынужден оплатить переезд обеих семей из Сент-Эндрюса на юг, в Лейт. Однако и после этого троица сорванцов притихла ненадолго – ровно до следующего приступа подагры у старого приора.
Ощущению вольницы способствовало и то, что Джон Хепберн уже не следил за своими подопечными так зорко, как раньше. К осени приор начал дряхлеть. Как сильный мужчина, он не то, чтобы пропустил приход старости, но не сдался ей, перейдя в преклонный возраст в здравом уме и трезвой памяти, однако всему на свете положен свой предел. Слабость тела пришла незаметно и впилась болью в распухающие к дождю суставы. Пытаясь сесть в седло, приор кричал и ругался так, что, казалось, слышно было аж в самой темнице-бутылке. И вдобавок, пользовался при этом Джон Хепберн выражениями, отнюдь не приличными духовному лицу. Сперва грумы еще как-то справлялись с хозяином, соорудив подобье пандуса, по которому приор мог практически зайти на коня, но скоро эта нелепость надоела ему больше всех, и приор вынужден был признать: даже для Хепберна наступает время, когда приходится покинуть седло. Но эта первая уступка стала для приора и последней, ибо хворь тут же съела его целиком. Вскоре он уже сидел в зале суда, решая дела, и не состоянии был сам встать со своего трона. По замку его тоже начали носить слуги в кресле, а за пределы цитадели приор больше не выезжал. Особенно тягостно ему теперь было по вечерам, когда город и замок погружались в тишину и мрак, за стенами слышен был только мерный голос северного моря, и приора безжалостно обступали тени прошлого.
Зрелище это завораживало Патрика – когда прадед, сидящий в кресле у камина, с ногами, опущенными в бадью горячей воды, дабы унять боль, укутанный в шерстяные пледы, ибо приор сильно мерз, тянул к нему шею, словно линялый ястреб на приманку, и – говорил, говорил, говорил. Ходил кадык на дряхлой морщинистой шее. Джон Хепберн блуждал памятью в глубинах времени, повествуя о раннем четырнадцатом веке, когда шотландцы, на свою голову, пленили Адама де Хиббурна, сделав его Хепберном, силача, на скаку повалившего бешеную белую лошадь, и тем спасшего графа Марча; говорил об Оттербурнской бойне, когда мертвец Дуглас выиграл битву против живого Перси, а двое Хепбернов, отец и сын, стояли на правом фланге; вспоминал, как выходила замуж за Хепберна наследница де Горлэя, принося в приданое Хейлс… он говорил об этом так, словно сам сейчас находился внутри, плавая за толщей веков, словно предчувствуя, что и ему скоро придется нырнуть за эту пелену… Он выплевывал оскорбления и обиды, понесенные родом за двести лет, он поименно называл врагов-кровников, он требовал мести, он твердил о родословных деревах и о брачных союзах, о походах на Святую землю и заговорах против сюзерена, словно открылась чудовищная шкатулка памяти и из нее, как из худого мешка, просыпалось все, веками накопленное – и золото, и хлам. И он ошибался. Заплутав в прошлом, он переставал узнавать настоящее, воплощенное в образе правнука, и видел в нем кого-то еще… имя было то же – Патрик, но речь шла о другом лице. Он говорил, говорил, говорил… чаще всего приор Джон Хепберн говорил с третьим Босуэллом, как говорил бы с первым, и очень сердился, когда третий начинал отрицать, или давал понять, что – не понимает… наконец, граф протестовал перестал. Недомолвки, намеки, побуждения к разговору сыпались на него, словно речь на чужом языке, понятная лишь на четверть, никогда даже не наполовину. Жадным, ищущим, горячим взглядом впивался в него прадед, словно ожидал услышать какую-то истину, но молчание разделяло их, и тогда погружающийся в безумие старик опять начинал браниться. Потом бессильно прощал, потом затихал. Приор Джон Хепберн сам собой разрушался, выцветал, таял. Угли гасли в камине, приходил слуга поправить огонь, прадед переставал замечать Патрика, засыпая в кресле с открытыми глазами, и тот потихоньку возвращался к себе, лишь бы больше не видеть этого старческого, жутко застывшего взгляда. Дела накапливались в канцелярии приората, и мелкие еще решал секретарь приора, но как было поступить с крупными? Так они протянули две недели, а потом милосердная судьба, которую приор утомил своим упрямым долгожительством, послала ему первый удар. Джона Хепберна нашли возле камина упавшим с кресла, не могущим пошевелить ни рукой, ни ногой, лишенным речи. Кое-как причастили и соборовали. Патрик пришел проститься с ним, но толку от этого было мало – приор все равно его не узнал. А второй удар, не менее милосердно, настиг его той же ночью.
Наутро стало известно, что Джон Хепберн, сын Адама, мастера Хейлса, и дядя первого графа Босуэлла, приор Сент-Эндрюса, настоятель собора Святого Андрея, основатель колледжа Сент-Леонардс, отошел в вечность, прожив восемьдесят семь лет праведности, милосердия, просвещенности, злобы и интриг, ушел, дабы присоединиться к темной и противоречивой славе предков. Когда к Патрику пришли спросить распоряжений, он вдруг понял, что внезапно сделался главным в огромном замке, и это было странное и новое чувство. Юный Босуэлл как бы оцепенел от этого известия, хотя, бывало, раньше мечтал остаться совсем без опекунов. Бразды правления мягко подхватил секретарь покойного приора, клирик Джордж Хепберн из Крейгса, подсказывавший графу, что сделать, чтобы хоть на пару дней сохранить видимость власти…
Вечером Патрик пошел навестить своего прадеда в часовне замка. Очень странное зрелище представлял собой старый Джон – такой беспокойный и неугомонный при жизни – втиснутый в деревянный ящик не по размеру. Его обмыли, одели в превосходную шелковую сутану, хотя при жизни Джон довольствовался полотняной – расчесали клочковатую бороду, расправили скрюченные от боли пальцы, вложили в них крест… хотя не менее приличны были бы меч и перо. Выглядел он намного пристойней, чем в последние недели своей жизни, но уже издавал слабый запах тления.
Патрик присел на скамеечку, пробуя молиться. Слова сами падали с губ, но почти не имели смысла. Он думал о том, что вот – судьба, опять остался один, и даже без той опоры, какую ему давала грубоватая опека и ехидная привязанность старого Джона. Ему, Патрику Хепберну, было уже двенадцать лет, и из них одиннадцать он не знал ни семьи, ни родни. И все эти годы провел в зачарованном замке, под гнетущим, укрывающим его заклятием титула, денег, власти. Он остался на ночь в часовне и просидел там, закоченев на этой скамеечке, до заутрени, смутно понимая, что именно чего-то подобного ждет челядь приора и его собственная свита тоже – чтобы граф Босуэлл показал свое серьезное отношение к делу. Он даже немного поплакал – в конце концов, ему было только двенадцать, и умер его приемный отец, самый близкий из близких родственников, кого он знал. Конечно, еще мать была… но была – прекрасна и далека, а прадед – вот он, теперь лежит в часовне, завтра станут его отпевать в соборе Святого Андрея, в которой прослужил он столько лет, и не одно поколение горожан также крестил, венчал, отпевал. Патрику было холодно и очень одиноко. И то были последние слезы в его жизни на очень, очень долгий срок.
А еще наутро он узнал, что, согласно завещанию покойного приора, в дополнение к деньгам прадеда, он также приобрел и приорат Сент-Эндрюса.
По дорогам Мидлотиана грохотали копыта самой резвой почтовой лошади из конюшен замка – в Хейлс торопился гонец, и весть его была ожидаемой, но черной.
Замок Хейлс, руины башни Горлэя, Шотландия
Шотландия, Ист-Лотиан, Хейлс, ноябрь 1524
Вдовая графиня Босуэлл собрала на совет сыновей: старшего, Патрика Хепберна, которого, чтобы отличить от отца, первого графа Босуэлла, и племянника, графа третьего, прозвали по названию поместья – Болтон, Уильяма Хепберна, которого по той же причине называли Ролландстоном, и младшего, Джона, епископа Брихина. Надо было решить, не пора ли наследнику рода вернуться под отчий кров.
– Рано, леди-мать, очень рано, – сразу же отрубил Болтон. – У меня Армстронги и Эллиоты на вороту виснут, а вы хотите притащить ко мне мальчишку! Это все равно что сунуть палку в осиное гнездо, закусают насмерть… как вы себе представляете, я стану отлавливать всех, кто пожелает похитить нашего дорогого графа ради выкупа? Или чего похуже?
Хепберн Болтонский повадкой походил на деда, графа Хантли, но фигура у него была могучая, хепбернская, отцовская. Ему недавно перевалило за тридцать, а в Приграничье это солидный возраст, и Болтон, хранитель Хермитейдж-Касла, был уже по локоть замаран в кровной вражде и лютых дрязгах налетчиков любого разбора. Также он был, на время малолетства племянника, шерифом Бервикшира, выполняя свои обязанности, впрочем, чисто номинально. В маноре Болтона, Хепберн-тауэр, его безуспешно ожидали вторая жена и двое слабых, вечно хворающих отпрысков, которым он закономерно предпочитал азартные свары долины Лиддесдейл.
Первенца не заменит в материнском сердце никто, и Адам ушел слишком рано – это Маргарет Хепберн ощущала всякий раз, собирая вместе живых, оставшихся. Двух средних сыновей она видела насквозь, и еще – на полметра под ними сквозь плиты пола, и никогда не упускала возможности это показать.
– Сознайся, тебе это просто нравится, – усмехнулась леди-мать.
– Мне?! – возмутился Болтон, в чьих ухватках определенно было нечто медвежье. – Да я хоть сейчас сдам мальчишке и шерифство, и замок, а сам уеду в Болтон кур кормить!
Но братья заржали над ним самым неизысканным образом.
– Хотя твои слова и не лишены смысла, – закончила свою мысль графиня-мать. – Уильям?
Ролландстона она спросила большей частью для приличия, второй брат слыл в семье молчуном. И не ошиблась.
– Я согласен с Патриком, – отвечал тот. – У меня в Крайтоне тихо, но мы ведь близко к столице.
– А ты что скажешь, Джон?
Джону Хепберну было пятнадцать, когда погиб старший брат, с того же года Джон номинально был назначен главой Брихинской епархии, чему поспособствовал теперь уже бывший зять, граф Ангус. Но де факто ему только в будущем году предстояло заступить на должность, пока же он проводил время то с братом, в Хермитейдже, где превосходно совмещал карательные рейды по долине и молитвы в старинной норманнской часовне, то с матерью, в Хейлсе, где уделял значительно больше времени богословским занятиям.
Из Брихинского епископа получился бы отличный приграничный налетчик, да первый граф Босуэлл решил по-иному – в каждом поколении должен быть хоть один приличный малый, служитель церкви. Джон уродился куда больше Гордон, чем Хепберн, по сравнению с единоутробными, и куда больше Стюарт, чем Гордон – светловолосый и сероглазый. Младшему всего не хватило: роста, силы, веса, громогласности, любой из братьев мог шутя поднять его над головой одной рукою. Но оба-два остерегались злить его попусту, демонстрируя собственное физическое превосходство, поскольку Джон был и ловчее, и много хитрее их обоих, вместе взятых. В драке на палашах он брал изворотливостью, но не силой удара, на латыни говорил, как первейшие отцы церкви, и, единственный из троих, выглядел, как лорд. И не было у него даже в характере ни малейшего сходства с приором Сент-Эндрюса, в честь которого он, собственно, был и окрещен, а выражалась общая кровь только в качестве яда, пропитавшего темные извивы души.
Джон Хепберн – изящное телосложение, медоточивый голос, обаятельнейшие манеры и железная рука в латной перчатке. Впрочем, епископы-воины в семье были не внове, вспомнить хотя бы добрейшего дядюшку Джорджа, епископа Островов, павшего на Флоддене возле Адама… Младший порой пугал саму старую графиню и гибкостью ума, и глубоким цинизмом своих суждений. Вот у такого-то сына она и спросила последнего совета.
– Мальчику двенадцать, если не ошибаюсь, – заговорил тот, то были очень мелодичные и отточенные слова, но звучали они без капли эмоции. – Не знаю, чему учил его дед, но не вижу смысла сейчас забирать его из колледжа. Чему он научится в Долине в компании моих драгоценных братьев?
Гиганты заухмылялись.
– Пьянствовать да баловаться с дочерьми фермеров… – продолжил милорд Джон, но Болтон перебил его.
– А что, самое время! – но мать махнула на него рукой, желая выслушать своего епископа до конца.
– Пусть учится дальше, его место в колледже, а после, я полагаю, при дворе. Пока король юн, Патрику легче будет войти к нему в доверие. Юность – ценное время, особенно, когда она разделена с государем.
Возможность отправить Патрика к матери, леди Максвелл, в Западную марку, Маргарет Хепберн не рассматривала даже в мыслях.
– Хорошо, – продолжала графиня. – Кто поедет туда к нему? Патрик?
– Я?! – возмутился Болтон. – Ни за что! Мне и здесь есть, чем заняться.
– Почему-то не сомневалась в твоем ответе… Уилл?
Но братья переглянулись и оба указали на младшего:
– По-моему, Джонни как раз нечего делать в последнее время! – резюмировал Болтон. – Все равно ж ему ехать в Брихин рано или поздно. А Сент-Эндрюс некоторым образом… эээ…
– По дороге?! Хорошо-о-о, – обозлился двадцатисемилетний Брихинский епископ. – Черти б вас взяли совсем!
– И, кстати, леди-мать, – вдруг сообщил Болтон, которого на первый взгляд трудно было заподозрить в дальновидности. – Джону надо было ехать еще позавчера. Потому что ведь епископ Морэй тоже станет ломиться в Сент-Эндрюс к нашему графу…
Уильям при упоминании Морэя выругался, Джон криво усмехнулся, старая графиня возвела глаза горе.
Джон загнал двух коней, но успел в Сент-Эндрюс раньше кузена. Патрика Хепберна Бинстонского, епископа Морэя, следовало опередить любой ценой. Бинстоны, ветвь Хепбернов, отошедшая от семьи век назад, были в целом людьми приличными, но обладали всеми присущими фамилии особенностями характера: гневливостью, отвагой, бурлением страстей и женолюбием. Вот последними двумя качествами епископ Морэй и выделялся даже среди родни. Он перессорился, с кем только мог, в своем приходе. Он пил, как лорд, а ругался, как десять пьяных рейдеров. В нем было весу с гаком двести фунтов, которые он любовно упаковывал в фиолетовый атлас сутаны. В роскошестве нарядов ему не было равных. Он мог позволить себе прийти на службу во хмелю и, покачиваясь, честить прихожан, обещая им муки вечные. Прихожане платили ему взаимной любовью, и самое мягкое из данных ими епископу прозвищ было «жирный пьяница», а самое точное – «повелитель шлюх». О его пяти любовницах и четырнадцати бастардах ходили скандальнейшие рассказы, и, уж безусловно, он не являлся тем опекуном, который был нужен сейчас юному графу.
Ворота замка Сент-Эндрюс, Шотландия
Шотландия, Файф, Сент-Эндрюс, ноябрь 1524
– Доброе утро, граф! Я ваш дядя Джон. Обращаться ко мне можете просто, «ваше преподобие», – и чуть мягче мгновенье спустя. – И не смотри на меня так, мальчик. Я не похож на твоего отца.
Молодой мужчина напротив графа был не намного выше его ростом, превосходно сложен, облачен в простую черную сутану, серые глаза холодны, как воды залива в ноябре, а взгляд пронзителен сверх всякой меры.
Вот так в жизнь юного Босуэлла в один прекрасный день вошел Джон Хепберн Брихин. Он объявился в замке Сент-Эндрюс накануне ночью, безо всякого намека и предупреждения, не считая писем старой графини, которые он привез с собой. В иное время Патрик смог бы поклясться, что дядя материализовался из дымохода в саже и серном дыму, настолько внезапно это произошло, но уж священника никак не обвинишь в склонности к черной магии. Хотя были дни в их дальнейшем общении, когда и за это он бы не поручился…
В тот день обед в зале сервировали на двоих, на епископа и юного приора, и пока стюарды выносили блюд, расставляли их на буфетах, пока слуги подавали воду для омовения рук, пока мажоржом распоряжался кравчими, и уже потом, над каждым куском, отправленным в рот, над каждым глотком эля – Патрик в продолжение всей трапезы выдерживал испытующий дядин взгляд через стол. Молодой Джон Хепберн изучал племянника и не скрывал этого. Внешним осмотром он остался доволен, но предстояло еще выяснить личные качества наследника рода. Обед прошел почти в полном молчании обеих сторон, но прежде дальнейшего исследования воспитанника Брихин взялся за срочные дела. Запершись на полдня в канцелярии с Джорджем Хепберном Крейгсом, секретарем, он раскидал бумаги по стопкам, визировал на полях «виновен» или «оправдан», сложил кипу, на которой надо было поставить подпись Патрика, назначил очный разбор дел, как было принято при старом Джоне, на ближайшую пятницу. По первости секретарь вздохнул с облегчением – у молодого Джона, похоже, была правильная деловая хватка, хотя она и показалась Крейгсу слегка жестковатой. В тот же день, извещенный о ситуации с молодняком как секретарем, так и МакГилланом, Джон Хепберн написал епископу Сент-Эндрюса Джеймсу Битону, поставив того в известность, что исполняет обязанности опекуна при малолетнем племяннике-приоре, а также Гордону Стретхейвену в Абердиншир, запрашивая позволения обойтись с графом Хантли так, как надлежит для приведения его в чувство. И еще прежде получения ответа на оба письма принял меры: расположился в замке так, словно всегда тут жил, объявил себя всем помощником нынешнего приора и занялся организацией похорон приора предшествующего. Преподаватели Патрика из Сент-Леонардса были званы к нему для отчета и полного описания личных качеств молодого графа, после чего епископ присел к столу и набросал для племянника новый перечень занятий. Джорджу Гордону доступ в замок отныне был запрещен, исключая субботу и воскресенье после мессы. На Хея Брихин просто не обратил – и не обращал – внимания, но Рон был искренне признателен ему и за то, что не выставил вон, осмотрительный Хаулетт на время угнездился среди соколятников, питаясь по кухням и стараясь не попадаться на глаза новой власти. Патрик был приглашен к дяде для разговора после поминальной службы по старому Джону, которую Брихин изящно, хотя и не очень убежденно, отслужил в замковой часовне.
Брихин, с удобством расположившийся в кресле покойного приора и его столом, заговорил первым:
– Граф, ваш успехи удовлетворительны, но недостаточны для наследника рода и титула. Похвалить вас мне пока не за что, остается надеяться, что вы не дадите повода в вас разочароваться. К последнему случаю замечу, я не являюсь противником телесных наказаний, в отличие от покойного Джона Хепберна, да почиет он с миром.
– Попробуйте, – возразил юный Босуэлл, – и вам придется пожалеть об этом, отвечая хотя бы перед остальными моими опекунами…
Прадед как-то упоминал ему, что с точки зрения гражданского права за графа отвечает совет опекунов: трое дядей и бабка.
– Мальчик мой, – Джон Брихин улыбнулся одними губами, – неужели ты думаешь, что кто-нибудь когда-нибудь узнает о том, что я с тобой сделаю? Мой палач обучен достаточно, чтобы не оставлять на теле следов…
Лицо у Джона Хепберна было правильных черт, почти приятное, если бы оно чаще оживлялось иными эмоциями, кроме опьянения интригой и жажды власти. И что-то в выражении его глаз подсказало Патрику, что Брихин ни в малой мере не шутит. Он сжал зубы и приготовился было дать отпор, когда дядя сказал вполне разумную вещь.
– Я не буду строг с вами, граф, если вы станете вести себя пристойно. Никаких диких выходок, вроде той, с перьями и смолой, и больше внимания уделяйте учебе. Сдается, вам попросту было скучно, но теперь-то я не позволю вам скучать. Часы латыни, греческого и французского увеличиваются вдвое, теологию оставим в прежнем количестве, а вот каллиграфию вам придется подтянуть – пишете вы, мой друг, отвратительно… по истории я стану экзаменовать вас отдельно.
– Это исчадье сатаны, а не дядюшка, – сознался потом Рональду ошеломленный Патрик, – даром, что епископ… если и остальные два его брата таковы, мне конец!
– Да брось ты… это он по первости. Это пройдет! – философски заключил Хей, неумышленно цитируя царя Соломона.
Довольным в замке выглядел только Йан МакГиллан, который, наконец, скинул с себя огромную ответственность выпасать нетерпеливого юнца и теперь попросту по всякому поводу спрашивал решения Джона Брихина. Он был настолько отвратительно доволен пришествием пакостного дядюшки, что даже пару раз схлопотал от раздраженного графа по зубам. После чего, разумеется, Патрика немедленно пожелал видеть епископ, который очень мягко, под угрозой недельного заключения на хлеб и воду, объяснил племяннику, что бить слуг без провинности, а всего лишь от плохого настроения есть очень дурной тон.
Неизвестно, о чем в самом деле размышлял Джон Брихин, рассматривая племянника за совместным обедом, ибо он никого о том не осведомил, однако выводы из увиденного епископ сделал и немедленно приступил к действию. В первый же день в замке он отправился на покой не прежде, чем посетил комнаты графа в Восточной башне, и там личные комнаты наследника семьи подверглись инспекции самой тщательной. Сундуки с платьем и бельем, постель, туалетные принадлежности – везде сунул нос неугомонный епископ. То, что он увидел, вдохновило его не слишком.
– Йан! – дружелюбно, но крайне холодно произнес он по итогу визита. – Где сажа восковой свечи? Где зола розмарина и лоскуты для чистки зубов? Получишь плетей, если не обнаружу вот тут, на столе, к вечерней мессе.
– Благодарение Богу, что вы приехали, ваше преподобие! – с чувством отвечал горец, невзирая на угрозу.
Брихин кинул на него краткий понимающий взгляд:
– Если жеребенок не норовистый, то это не Хепберн. Трижды в день, после каждой еды. И воду с гвоздикой для полоскания рта. Голову вычесывать дважды в день частой стороной гребня. Надеюсь, он хотя бы моется регулярно.