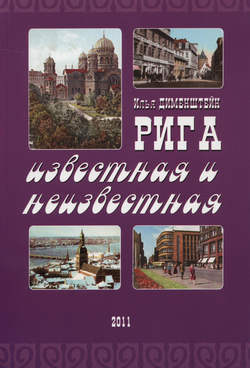Читать книгу Рига известная и неизвестная - Илья Дименштейн - Страница 3
Бульвары и дома
ОглавлениеДеревянная Александровская
Один известный бизнесмен, как-то в пылу спора о деревянной архитектуре, сказал мне: «Знаете, за что я ценю Армитстеда? За то, что он снес деревянные дома в центре. Иначе, на месте нынешней Бривибас, у нас сегодня была бы вторая Калнциема».
Глядя на фотографию Александровской конца 19-го столетия, выполненную А. Шмитом, убеждаешься, что она тогда была сплошь деревянной. Ни одного каменного здания. И даже храм Александра Невского, который многие ошибочно считают каменным, из дерева.
Храм – самое старое здание, сохранившееся на Бривибас. Строительство началось в ознаменование победы над Наполеоном в 1820 году. Возводили всем миром, на народные пожертвования. Среди наиболее щедрых жертвователей были купцы: Павел Грачев, Михаил Бедров, Михей Попадьин. Строили лучшие мастера плотницких дел и резьбы по дереву. 31 октября 1825 года церковь была освящена во имя Александра Невского.
Через дорогу, на противоположной стороне улицы, еще одна достопримечательность. В этом деревянном двухэтажном здании в 1930-ые было кафе Barberina. Продержалось всего два месяца, хотя осталось в памяти старшего поколения – владельцем был Оскар Строк.
«Завтра, во вторник, в доме генерала Сникера (улица Свободы, 15) открывается впервые в Риге по заграничному образцу фешенебельное кафе-дансинг Barberina с оригинальным американским баром и восточно-турецким уголком», – писала газета «Сегодня» 14 сентября 1931 года. Сообщалось, что кафе будет работать до 2-ух ночи, поздние посетители смогут увидеть кабаре.
«В американском баре две очаровательные барменши в костюмах моряков, блондинка и брюнетка – «белая» и «черная», как их уже окрестила публика, – писала через неделю другая газета «Новый голос».… В турецком кафе интригует одетая в восточный костюм «восточная женщина»…»
У Строка, который сам руководил оркестром кабачка, планов было много. Там собирались обучать технике танцев, зимой, на крыше – оборудовать каток. Но не прошло и двух месяцев, как «Барберину» закрыли, а сам Маэстро оказался в кутузке – за долги. Известный композитор оказался плохим бизнесменом. Многое не учел. В том числе, что напротив храм, а по тогдашним законам в радиусе 500 метров от него запрещена торговля алкоголем…
Если двухэтажное здание, в котором была Barberina, на старинной фотографии можно увидеть, то еще одна достопримечательность осталась за кадром. Дом купца Бодрова, который находился на углу Александровской и Мельничной (нынешней Дзирнаву). Сейчас на этом месте высится Латтелеком, а когда-то был двухэтажный особняк, в котором снимал квартиру великий Вагнер. В 1837 году он стал главным капельмейстером Рижского театра. Театр находился в Старом городе, поэтому капельмейстер вначале квартировал там. Но жилье было слишком дорогим, пришлось переехать подальше от центра – в тогдашнее Петербургское предместье. По новому адресу Вагнер переехал не один – с женой и свояченицей. Зимой 1839 –го в квартире капельмейстера часто собирались его друзья и по черновикам разыгрывали части оперы «Риенци», над которой он тогда работал. Пели под громовой аккомпанемент разбитого рояля. По воспоминаниям очевидцев, необычный шум в поздние вечерние часы привлекал внимание прохожих и «русские бородачи с удивлением останавливались под освещенными окнами и покачивали головами». В хорошую погоду Вагнера нередко можно было увидеть в открытом окне. Его биограф, Глазенап, писал, что многим старожилам Петербургского форштадта запомнилось бледное лицо композитора, сидевшего у окна в шлафоке, с трубкой во рту, с турецкой феской на голове. А самому Вагнеру врезалась в память лишь ужасающая картинка Александровской улицы. Он вспоминал, что «по ней везли на открытых телегах к Двинскому базару (он располагался у набережной – И. Д,) замороженные свиные туши, разрубленные с головы до задних конечностей».
Еще одно интересное деревянное здание – на месте жилищного управления Рижской думы (в советское время там было «Ригас модес») – тоже видно на старой фотографии. Здесь находилась первая гостиница, открытая за чертой Старого города – Франкфурт – на – Майне. Очевидец писал, что это было одно из немногих мест в районе, где можно было нанять хороший экипаж. «Дальше виднелись только обшарпанные, неряшливо одетые «ваньки», готовые за четвертак везти пассажира чуть ли не на Северный полюс».
Летом 1869 года там остановился известный русский литературный критик Дмитрий Писарев вместе украинской писательницей Марко Вочок.
В 1910-м в отеле жила мировая знаменитость – немецкий летчик Арнт. Он прибыл в Ригу, чтобы познакомить горожан с самым первым полетом самолета.
В 1930-ые гостиница была известна рестораном – Альгамбра. Его «гвоздем» было кабаре. Летом девочки выступали на открытой площадке, и смотреть на них приходил сам Шаляпин.
…Пройдет совсем немного времени и от деревянных домов Александровской мало что останется. Взгляните на открытку, выпущенную перед Первой мировой. От большинства зданий нет и следа.
Я люблю старую деревянную архитектуру. Вырос в деревянном доме в Гризинькалнсе. Но тут соглашусь с бизнесменом: лучше любоваться деревянной Александровской на открытках. А живые памятники деревянного зодчества сохранились во многих других местах: на улицах Мурниеку, Лиенес, Баласта дамбис, Калнциема, и, конечно, на Москачке.
Спасибо Рикману!
О Риге 1840-х годов принято считать, что это был немецкий город. Разве что Московский форштадт был населен русскими староверами. Это не совсем верно. Взгляните на открытку с литографии 1842 года, выполненную рижским художником Теодором Рикманом. Подпись переводится так: «Русские в овощных садах у Риги». Ныне здесь самый центр – район улиц Гертрудес и Стабу, а тогда было Петербургское предместье. Вдали видны шпили соборов Петра, Домского и Екаба, а церкви Гертруды нет и быть не могло. Ее начали возводить лишь в 1864-м. Деревянные, двухэтажные домишки тоже, конечно, были в предместьях, но их не разглядеть. Только в 1860-ые, после того, как Рига утратила статус города-крепости, в предместьях разрешили возводить каменные дома. В том районе, что на литографии, первые появляются в 1880-ые годы. А пока это предместье, отделяемое от остальной территории палисадом и сторожевой будкой (их можно увидеть на рисунке).
О том, что много русских рижан занимались в те годы огородничеством, свидетельствует и бытописатель города далеких лет Иоганн Бротце. Он не только оставил словесные портреты русских рижан, но и зарисовал их. На его рисунках самые разнообразные типы – разносчик овощей, продавец калачей, плотник, батюшка. В 1826 году чудесам рижских огородников был посвящен доклад на заседании городского союза литераторов. «С давних пор, – говорил выступавший, кстати, немец, – русские огородники снабжают нас спаржей, дынями и огурцами из парников, расположенных в арендуемых в городе и в окрестностях его огородах. Они же снабжают нас различными южными фруктами и овощами в таком количестве, и по такой ничтожной цене и в такое необычное время, что за границей этому не поверили бы…»
Автор упоминал, что русскими огородниками ежегодно под дыни отведено 300 парников, под арбузы – 30, под русские огурцы – 450, голландские – 100. Не забывали огородники и про морковку, петрушку, салат, редис.
Еще на рубеже 19-го – 20 столетий русские огороды были в самых престижных нынче районах города – на Матиса, Бривибас (за Воздушным мостом), Лачплеша, Ганибу дамбис… В 1960-ые я с родителями не раз бывал у Смирновых, которые жили тогда на Рупниецибас. Врослые шепотом говорили мне, что до войны у них были крупные огороды на Катринас дамбис, а часть родни Смирновых еще в 1944 подалась на Запад…
На литографии можно разглядеть фамилию автора: Теодор Рикман. Он прожил всего 38 лет. Родился в Риге в 1810-м, живописи учился на родине пращуров – в Германии. Диплом, дающий право работать учителем рисования, получил в Петербургской академии художеств, в 1846-м. Через год Рикман вновь отправился в Германию – в Дрезден, чтобы продолжить обучение, однако при загадочных обстоятельствах погиб.
В 1901 году Музей истории Риги и мореходства приобрел у дочери художника – Матильды Шиллинг – восемь литографий ее отца с видами города. Уникальные картинки из жизни Риги 1840-ых: латыши – продавцы дров у Рижского замка; польские евреи у Дома Черноголовых; эстонские крестьяне у городских ворот Риги; русские овощеводы в предместье; празднование Умур-Кумура в городе и другие. Известно, что художник посвятил Риге ни один десяток сюжетов – в 1901 году около 20 из них приобрело Рижское общество историков и исследователей старины. Но след этих работ теряется. А восемь гравюр, купленных в свое время Музеем истории города и мореходства, и сегодня можно увидеть в его фондах. И еще в коллекциях филокартистов – открытки – репродукции с этих гравюр.
Жил-был дворник…
Знаете, где в Риге впервые появилась знаменитая «шведская брусчатка»? На улице Тиргоню. А на какой улице жил дворник, оставивший послание потомкам? Тоже на Тиргоню.
Сегодня не многие рижане смогут на вскидку сказать, где находится Тиргоню – в отличие от тех же Смилшу, Вальню, Калькю. Тиргоню соединяет Домскую площадь с Ратушной, это то место, где еще пару лет назад был популярный «Пивной сад».
Впервые в документах улица упоминается в 14 столетии – platea mercatorum. В переводе с латыни – Купеческая, по латышски – Тиргоню. За 800 лет она не изменила этимологии. Феномен среди рижских улиц. Если на соседней Грешной (Грециниеку) издавна селились ростовщики и ратманы – члены Ратуши, то на Тиргоню – деловые люди – купцы. В сентябре 1898 года здесь торжественно встречали человека, первого пешком обогнувшего земной шар – рижанина Константина Ренгартена. «В витрине книжного магазина, что на Купеческой улице, разворотливый хозяин Дейбнер успел выставить портрет землепроходца», – писал «Рижский вестник». Дороги знаменитостей не случайно вели на Купеческую – здесь была лучшая в Риге мостовая. Тиргоню – первая городская улица, где в 1847 появилось новое покрытие – «шведская брусчатка». На рубеже XIX и XX столетий улица славилась эксклюзивными магазинами – в доме под номером 5/7, у Менцендорфа – можно было отовариваться «колониальными товарами» – кофе, табачком, заморскими винами, снедью, на противоположной стороне, в доме под номером 4, располагался магазин оптики Генриха Детмана. Фирма Детмана занималась «информационными технологиями далеких лет» – установкой первых телефонов. Роскошный дом с многочисленными скульптурами на фасаде хозяину проектировали сразу три архитектора – рижане Шель и Шефель, и их коллега из Любека Ган. Последнему Детман заказал нарисовать фасад. Денег не жалел: при покупке земли под строительство выложил 1200 рублей золотом за квадрат. Сумма неслыханная до этого при сделках с недвижимостью в Риге. В 1901 году дом Детмана украсил старинную улицу. Здание и сегодня стоит. На первом этаже нынче кафетерий, а в в 1970-ые – 1980-ые тут тоже можно было взять кофе с булочками, этажом выше была кафеюшка «Синяя птица». Шороху там наводил «поручик Устинов». Читал стихи, передавал поэтические записки на соседние столики. Сегодня он щеголяет по городу в форме белого офицера, а тогда в кафе появлялся в гражданке. В бело-офицерском френче он иногда показывался на улице Ленина и оказывался в известном заведении на улице Твайка – психбольнице.
На открытке, по правой стороне улицы, возле самой Ратуши тоже примечательный дом. В средневековье в нем были винные погреба города. Дом был разрушен во время Второй мировой войны, на фрагменты погребов археологи наткнулись в 1960-ые годы.
На Тиргоню и в наше время продолжаются раскопки. На том самом месте, где был «Пивной сад». До войны тут (Тиргоню 1 и 3) было два дома, от которых тоже ничего не осталось. В этих зданиях располагались банк, мореходная компания и страховое общество. Рижская дума много лет не давала добро на застройку участка. В конце концов «Пивным садом» пожертвовали. На его руинах обещают построить гостиницу. А пока место огорожено строительным забором. Не обошлось и без археологических находок. В стене подвала обнаружили бутылку, а в ней послание от дворника Фрициса Зокиса. Он сообщал, что дом на Тиргоню, 1 строил каменных дел мастер Валтер, а принадлежал он Адольфу Фрейбергу. Бутылка была спрятана в стену 29 сентября 1909 года.
Может, и нынешним дворникам стоит оставлять послания потомкам, глядишь, как Фрицис Зокис через века они попадут в историю? А потомки, раскапывая, скажем в 3009 году фундамент министерства земледелия, узнают, что в этом доме сто лет назад работали три тысячи человек, перекладывавшие бумаги с одной полочки на другую.
Как столица лишилась Юрмальского моста
В советское время в Риге мог появиться Юрмальский мост, улица Бикерниеку – превратиться в Залькална, а торговый центр «Долес» – в «Маскавас». О том, почему этого не произошло, мне рассказал историк Эрик Адольфович Жагарс. В те годы он входил в комиссию по наименованию улиц.