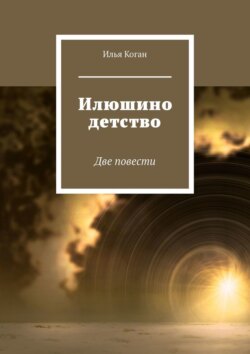Читать книгу Илюшино детство. Две повести - Илья Григорьевич Коган - Страница 10
Илюшино детство
Глава восьмая
ОглавлениеНо звать участкового не пришлось. Паршин сам съехал.
Говорят, ему дали жилье где-то за линией, в Рабочем поселке. Больше он в нашей жизни не возникал. Только еще пару дней мама не решалась даже близко подойти к нашей двери. Пока Фрима, захватив веник и пару больших тряпок, не толкнула решительно незапертую дверь.
– Зейст! – кричала она. – Смотрите! Как этот штинкенде шикер заср… л Дорину комнату!
Она еще долго галдела что-то о вонючих пропойцах – из того, что я мог понять. И правда, комната была черной от пыли и копоти. Штукатурка сыпалась со стен, печь дымила изо всех щелей. А я помнил, в какой чистоте держала мама комнату до войны. Как каждую весну белила ее, выставляла зимние рамы и до блеска вычищала стекла. Как раз в год переставляла мебель, пекла по этому случаю пирог в «чуде» и приглашала дворовых подруг: тетю Раю и тетю Лизу.
Слава богу, мебель была цела. И кровать с блестящими железными шишечками, и шкаф, и кожаный диван с полочкой для слоников, и даже сами слоники, пожелтевшие и потерявшие часть конечностей. Не было патефона и швейной машины, о которой мама долго грустила.
– Зейст! – сказала Фрима. – Глаза боятся, а руки делают!
Они с мамой отодвинули мебель от стен и начали скрести их. Меня заставили таскать всякий мусор на помойку. На следующий день Фрима ушла на работу, а мама принялась белить потолок. Он высох и стал как новенький. Потом мама побелила стены. И принялась за печку. Но тут дело не пошло. Мама мешала известь с песком и этой смесью замазывала щели. Получались лепешки, которые высыхали и отваливались. Но вдруг мама бросила свою работу и стала к чему-то прислушиваться.
– Лошадь! – закричала она. – Беги!
Я уже знал, что это значит. Надо было хватать веник и совок и лететь на улицу, по которой только что проехала лошадь с телегой. Почти всегда за ними оставались свежие, дымящиеся еще конские «яблоки». Важно было поспеть первым, потому что охотников было много. Мама добавляла лошадиный навоз в смесь, которой она обмазывала печку. Пахло, конечно, не очень, зато держалось крепко. А когда печка покрывалась побелкой, запах и вовсе пропадал.
Возилась мама неделю. Кряхтела да охала, но комната становилась все светлее и радостнее. На окно она повесила занавеску. Фрима тайком от тетки Рейзл притащила кое-какое белье. Мама отдраила оставшуюся после Паршина нашу посуду. И мы стали жить да поживать в своем доме.
Теперь мама могла искать работу. С ее зрением это было не так-то просто. Торговать в магазине она не хотела, да и не умела. Устраиваться на ткацкую фабрику, где работали наши соседки, опять же глаза не позволяли. И тут объявилась тетя Итя с Первомайской улицы. У нее каким-то чудом оказалась вязальная машина. Она умела только одно – вязать бесконечный чулок из белых ниток, которые приволакивали работницы все той же ткацкой фабрики имени Петра Алексеева. Хорошая была фабрика. Кормила не одну нашу улицу. Скажу по секрету, у меня до сих пор валяется на даче свитер, связанный из шерсти имени Петра Алексеева. Не спрашивайте, как эта шерсть попала к нам. Но качество, скажу я вам! До сих пор носится!
Так вот. Тети Итин чулок тянулся на километры. Только был он весь из себя белый. А кто же носит белые чулки? Вот она и наняла маму красить их. Мама забирала у нее вышедший из вязальной машины километр и пакет с краской. И растапливала печь. На плиту ставился большой бак, сыпалась краска, и плюхался чулок. Он долго кипел в баке, мама иногда длинной палкой мешала это варево. Она поддевала чулок, почти целиком переворачивала его и снова опускала в воду. От кипящей воды поднимался пар чернильного цвета. От него слезились глаза, и нападал неудержимый чих.
– Терпите! – говорила мама. – Это наш кусок хлеба!
Открывать окно она не хотела. Не дай бог, увидит кто-нибудь из соседей и донесет участковому. Участкового мама боялась пуще огня. Как увидит его, так скорее прячется за деревья. Ей все казалось, что он обязательно идет за ней. Ведь вся фирма тети Ити была подпольной.
Крашеный чулок надо же было высушить. Вот мама и вешала его на веревку, протянутую через комнату. И мы дышали этой чернильной сыростью, кашляли и чихали, пока чулок не высыхал. По вечерам заходили старушки – «божьи одуванчики», заталкивали сухое изделие в мешок. Где-то потом его разрезали на нужные куски и зашивали те места, где предполагались пальцы. Пятка растягивалась при ходьбе. В общем, тети Итина машина кормила целую артель.
Теперь у нас были деньги на то, чтобы выкупать хлеб. После прописки мама получила карточки: две детские, а на себя иждивенческую – она ведь числилась неработающей. По карточкам полагалось 400 грамм хлеба в день. Мы были прикреплены к ларьку на углу двух улиц: Горького и Пушкина. Занимать очередь надо было пораньше. В морозные дни люди топтались тесной кучей у прилавка, «месили тесто» на грязном снегу. «Едет!» – кричали ребятишки, дежурившие на подъеме к нашей улице. И в гору вползал синий хлебный фургон. Водитель открывал боковые дверцы, и грузчик таскал в ларек лотки с еще дымящимися буханками. От запаха горячего хлеба люди дурели, теснили передних, чтобы скорее оказаться у заветного окошка. Иногда кто-то из мужчин помогал грузчику. За это его отоваривали первым. Остальные торопливо доставали свои карточки.
А вот продавщица никуда не торопилась. У нее-то было тепло. Она внимательно отрезала нужный талон и с привычной точностью отмеряла требуемую часть буханки. Хлеб был тяжелым и на ощупь сыроватым. Люди говорили, что муки там хорошо если половина. Но другого по карточкам не было. В коммерческом магазине по дорогой цене продавали пеклеванный. По виду он походил на белый, но по вкусу был каким-то кисловатым и горьковатым.
На нас троих выходило чуть больше половины буханки. Редко когда продавщица ошибалась, и тогда добавляла к отвешенной порции недостающий кусочек. Довесок. Это было счастье, потому что его можно было съесть по дороге домой. Что там флорентийское мясо, что там устрицы на берегу Ла-Манша! Самым вкусным в жизни был этот еще теплый кусочек сыроватого черного хлеба!
Комната наша позеленела от чулочных паров. Мама успокаивала:
– Конечно, чтоб вы так были здоровы, как эта краска сокращает нам жизнь! Но жить-то нам больше не на что… Вот если бы у меня была швейная машинка!..
До войны машинка у нас была. Шить мама, правда, не очень-то умела. Но сострокать что-нибудь для неизбалованных соседей она бы смогла. Так она думала. Во время войны машинка куда-то пропала. Так же как и патефон с пластинками. Ходили какие-то слухи про соседку тетю Ханну Кракову – ту самую, что заняла бывшую бабушкину квартиру. Но на нее много чего валили.
– Ах, была бы у меня машинка! – вздыхала мама. Но она не только вздыхала. Из заработанного у тети Ити мама стала откладывать какие-то рубли – копить на швейную машину. Отложенное она прятала внутрь нашего раздвижного стола – так чтобы воры не нашли. Раз в несколько дней она доставала свою заначку и пересчитывала ее. Денег от этого не становилось больше.
И все-таки мама не теряла надежды. Конечно, в магазинах машинки не продавались. Но были люди, которым они достались от родителей. А кто-то из воевавших привез их из Германии. Швейные машинки были хорошим трофеем. Не хуже велосипеда или аккордеона.
Помню, как-то раз сидели мы на скамейке перед дверью соседки тети Тани Ивановой. Ее Юрка из-за чего ссорился с моим Мишкой. Маленький Буля как всегда шмурыгал сопливым носом. Вдруг, вижу я, спускается с горки военный с большим вещмешком за плечами и с черным чемоданом в руке.
– Юрка! Буля! – говорю я. – По-моему, ваш отец идет!
И точно, это был дядя Петя Иванов. Он был военным железнодорожником и поэтому смог привезти в своем вагоне трофей – немецкий аккордеон. Он потом иногда присаживался по вечерам на свою скамейку и терзал слух соседей расхлябанными всхлипами инструмента. Но никто ему и слова не говорил: человек в своем праве – вернулся живым с войны!
Но швейной машинки дядя Петя Иванов не привез. Зато он знал человека, у которого она была. Мама даже приценивалась к ней. Столько денег, конечно, у нее не было. Но мама надеялась собрать. Она откладывала каждую копейку. Тратила только на отоваривание карточек.
Но тут случилась беда. Тетя Итя закрыла свою лавочку. Муж настоял. И мамины заработки кончились. Вот когда мы узнали, что такое настоящий голод. Спрятанную в столе «заначку» она ни за что не хотела трогать.
– Проедим швейную машинку, тогда совсем не на что будет надеяться!..
Денег не было даже на то, чтобы выкупить наш хлебный паек. Приходилось день обходиться без хлеба. Зато потом я получал двойную порцию – целую буханку. Мама тут же несла ее на рынок. На вырученные деньги можно было продержаться целых два дня.
По вечерам, чтобы не видели соседи, мама рвала крапиву в нашем дворе. Рвала и плакала от стыда. А потом варила щи, которые я, несмотря на дикий голод, с трудом заставлял себя проглатывать. Потом я узнал, что в крапиве полно всяких витаминов и ее даже прописывают врачи. Но как вспомню вкус этих пустых щей без мяса и картошки, так ком подкатывает к горлу.
– Ешь! – говорила мама. – А то опухнешь!
А были дни, когда и крапивы не было.
– Мам! – канючили мы с братом. – Есть хочется! Дай что-нибудь!
– Нет у меня ничего! – плакала мама, глядя в темное окно.