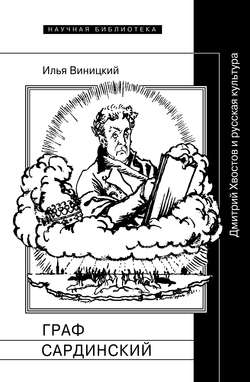Читать книгу Граф Сардинский: Дмитрий Хвостов и русская культура - Илья Виницкий - Страница 8
Часть I
Истоки и хвостики
3. Орган полета
ОглавлениеУ голубей отсутствуют зубы, мочевой пузырь и все остальные некритичные органы, способные утяжелить тело при полете.
Зоодруг
Раз уж зашел разговор о пернатых… Едва ли не самой знаменитой птицей в творчестве Дмитрия Ивановича стал зубастый голубь из притчи «Два голубя» (переложение басни Лафонтена «Les deux pigeons»), опубликованной графом в 1802 году в собрании притч, которое он посвятил великому князю Николаю Павловичу – будущему императору (прочитав в предисловии к книге о том, что автор, член Российской академии, подносит ее великому князю подобно тому, как его предшественник А.П. Сумароков поднес свою книгу притч цесаревичу Павлу Петровичу[35], 6-летний Николай Павлович, как следует из записи в журнале его занятий от 23 июля 1802 года, «схватил книгу и поцеловал то место, где стояло имя его родителя») [Николай: 63]. «Несмысленный» герой упомянутой выше притчи Хвостова, попавшись в силки,
Кой-как разгрыз зубами узелки
И волю получил… [Хвостов 1802: 162]
Кажется, первым публично высмеял орнитологический курьез Хвостова Дмитрий Васильевич Дашков в своем шутовском панегирике графу Дмитрию Ивановичу: «В басне сей русский Лафонтен превзошел француза, наделив своего голубка острыми зубами для разгрызания сетей, в которых он запутался. Вот истинная поэзия, творящая новый мир, новую природу!» [Арзамас 1994: I, 184]. Дашкову вторил сатирик-фабулист Александр Ефимович Измайлов, постоянно издевавшийся в стихах и прозе над Дмитрием Ивановичем (последний в отместку называл его «насмешливым буяном»): «Чего не делает всемогущая поэзия? Прикоснется ли магическим жезлом своим к Голубку, запутавшемуся в сети, – мгновенно вырастают у него зубы и он разгрызает ими узелки, к Ослу – новый длинноухий Тирезий переменяет пол и превращается в Ослицу»[36]. Над зубастой птицей, ставшей своего рода логотипом поэтического хозяйства Хвостова, смеялись переводчик «Илиады» Николай Иванович Гнедич и теоретик словесности Николай Федорович Остолопов (последний ехидничал, что назло Буффону у Хвостова голубь «является с зубами, а уж с коленями» [Остолопов: 134–135]), потешались над ней в «Арзамасе» («у козла нет свиной туши, а у голубей зубов, точно так, как нет здравого смысла в стихах его» [Арзамас 1994: I, 343]) и после «Арзамаса» (у Пушкина Хвостов – «отец зубастых голубей» [II, 378]).
И совершенно напрасно. Как Вы когда-то убедительно показали, коллега, все эти зубастые голуби, трансгендерные ослы, вороны с пастью, безрогие зайцы и летающие яйца[37] не монстры спящего разума, а басенные образы, созданные в соответствии с авторскими установками Хвостова (в своей очаровательной комбинаторике он предвосхитил, как Вы заметили, открытия обэриутов)[38]. Дмитрий Иванович отвечал насмешникам, что прекрасно знает о том, что у голубей нет зубей (то есть зубов), у ворон пастей, а у слонов и зайцóв рогов, но в «простодушном» притченном жанре такие комбинации он считал вполне допустимыми и функциональными[39]. Так, в очаровательной басенке «Лев и Невеста» влюбленный в девушку глупый царь зверей позволяет хитрому отцу невесты срезать со своих лап когти, вырвать зубы и оставляет себе «только губы, и длинну шерсть своей богатой шубы». В итоге губастый Лев оказался,
Как крепость без солдат, без пуль и без снаряду,
И назывался львом лишь только для обряду
[Хвостов 1802: 19].
(Прямо как в известном анекдоте Хармса об условно-рыжем человеке без волос!)
Конечно же, зубастый голубок Хвостова – продукт его поэтической системы. В этом смысле он принципиально отличается от своего собрата, случайно залетевшего в известную повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок». «Зимой 1906 года, – вспоминала вдова писателя, – когда “Поединок” вышел уже четвертым или пятым изданием, к нам зашел К.И. Чуковский. – С каких же это пор голуби стали зубастыми? – весело спросил он Александра Ивановича. – Не понимаю… – недоуменно пожал плечами Куприн. – Однако голубь ваш несет письмо госпожи Петерсон в зубах… – Не может быть, – рассмеялся Александр Иванович. – Вы нарочно, Корней Иванович, это придумали, – сказала я. – Давайте книгу, проверим. Я принесла книгу, и оказалось, что Чуковский прав. – Ведь вот бывает же такая ерунда, которую сам совершенно не замечаешь, – смеялся Александр Иванович. – Да и вообще, кроме вас, пожалуй, никто бы этого не заметил» [Куприна-Иорданская: 153].
Я тоже проверил и убедился, что это не миф:
Ромашов, поморщившись, разорвал длинный, узкий розовый конверт, на углу котораго летел голубь с письмом в зубах [Куприн: 34].
Куприн исправил оплошность. Хвостов также в окончательной редакции басни удалил зубы (получилось: «И там попал в силки ногою; / Кой-как распутался и потащил с собой / Петличку от силка» [Поэты: 434]). Но даже в этой редакции он сохранил верность собственным принципам «функционального» антропоморфизма и «обратной» оптики, о которых Вы пишете в своей книге: на этот раз внимание читателя акцентируется на ноге голубка, в которую затем «попадает стрелою» деревенский мальчишка (и Эрот позавидовал бы такой меткости!).
Вы, коллега, как-то заметили, что Хвостов был оригинален, но робок и непоследователен в отстаивании своих принципов. Действительно, он редактировал свои притчи, отвечая на насмешки, и постоянно оправдывался[40]. И тем не менее до конца своих дней Дмитрий Иванович продолжал создавать в баснях странных существ, совмещавших взаимоисключающие признаки. Вот, чтобы не быть голословным, пример из поздней басни Дмитрия Ивановича, озаглавленной «Волк и бараны-республиканцы» (1832) и высмеивающей польских инсургентов:
Все знают – волк прежадный скот;
Раскинув прежде лисий хвост,
Он волчий показал республиканцам рот;
Он в ночь и в день не стриг, душил овец без драки,
Нет пастуха и нет собаки… [V, 138].
Но в 1830-е годы над баснями Хвостова современники уже устали смеяться…
Я, кстати сказать, басен не пишу (в детстве две-три накропал, но плохие), но пристрастие нашего русского Тима Бертона к странным существам хорошо понимаю. В них для поэта-аниматора кроется какой-то удивительный и пленительный мифотворческий потенциал. Это, дорогой коллега, как воображаемые друзья, готовые откликнуться на любой наш зов и скрашивающие наше существование в печальном мире. Они бесплотны и беззаботны, эти кузнечики нашего воображения, – не просят ни о чем, не должны никому и нужны только вам. Причем чем их больше, тем веселее. Скучающие в викторианские времена спириты (знаю, ибо изучал) постоянно вступали в контакты с такими странными духами: Харитон, Катя злая, свинья с поросятами, Шклява, Жаба, Петух, Козел, Сова et tutti quanti (это все «корреспонденты» спирита Н.П. Вагнера – знаменитого зоолога и популярного детского писателя, печатавшегося под псевдонимом Кот Мурлыка). Я не спирит и не баснописец, но, признаюсь, выдумал несколько таких поэтических созданий, разыгрывающих в своих стихах комедию моего существования, – Черная Глянцевая Муха, Черепашка, Лесик, Пылесос Эд и др. Раз уж зашла речь – вот кусочек из переписки моих воображаемых скотов и их воображаемого ветеринара, сочиненной мною в один из противных моментов бытия:
Новая Айболида в 5 актах
1. Горькие Мысли Собаки Аввы
– О чем задумалась, собака?
– О том, что наша жизнь клоака.
2. Эпитафия Доброму Доктору
– О, кто под камнем сим лежит?
– Я, добрый доктор Айболит.
Прохожий, что мирская слава!
Меня загрызла сука Авва.
3. Надпись на могиле Доброго Доктора, сделанная лапкой Обезьянки Чичи
Говорила ему: ты ее не лечи,
Она злая и подлая сука –
Ты бы лучше лечил обезьянку Чичи.
Тяжела мне с тобою разлука!
4. Послание Доброго Доктора Суке Авве и Обезьянке Чичи с того света, полученное спиритическим способом
В принципе, Животные,
Здесь довольно мило:
Души беззаботные,
Ангелы из мыла.
Понимаю тебя, Авва:
Жизнь вонючая канава.
Очень по Чичи скучаю –
Загрызи ее, родная!
5. Плач Суки Аввы на могиле любимых
Любовь и смерть. Какая сила!
Где доктор? Где Чичи? Могила.
Одна сижу у их гробницы,
Как пес у вражеской границы.
Впрочем, насколько же Хвостов гуманнее и естественнее меня. У него и сука – «добрый человек». Но мои лирические отступления уже становятся нескромными и навязчивыми (интересно, как по-научному назвать подражание графомании – сугубое стихоплетство?)
Надо сказать, что история хвостовского баснописания сама похожа на притчу. В предуведомлении к собранию 1802 года граф признавался, что начал писать басни еще в «летах пылкой юности» под влиянием стихов Лафонтена, Геллерта и Сумарокова [Хвостов 1802: IV]. В поздние годы он вспоминал:
Наш первый Сказочник едва глаза смежил,
Харитам поклонясь, я с Розой подступил [III, 58].
«Сказочник» – это А.П. Сумароков, названный Хвостовым «славнейшим в сем роде на Российском языке сочинителем», «Роза» – первая известная нам притча Хвостова «Роза и Любовь», опубликованная наследником Сумарокова Н.П. Николевым во втором издании его комической оперы «Розана и Любим» (в письме к издателю Н.И. Новикову, сопровождавшем публикацию, Николев весьма хвалил «нового писателя», устремляющего «свои дарования не ко вреду, а к пользе своих соотечественников» [Берков: 197])[41]. Басенки и сказки Хвостова печатались в журналах конца XVIII – начала XIX века и ни у кого не вызывали смеха[42]. Как Вы справедливо заметили, громкую славу «самого бездарного, самого нелепого, самого глупого из русских поэтов» [Альтшуллер 2007: 188] Хвостову принесла воистину злосчастная в его творческой судьбе книга 1802 года (именно из нее черпали свое юмористическое вдохновение арзамасцы и их наследники). Но эта же книга, написанная Хвостовым в творческом состязании с Сумароковым и самим Лафонтеном (которого граф критиковал за излишнюю игривость), ввела в русскую культуру первой трети XIX века незабываемый литературный образ сочинителя – творца удивительного, ни на что не похожего мира. Сам он говорил о собрании своих притч так:
Вот книга редкая: под видом небылиц
Она уроками богато испещренна;
Она – комедия; в ней много разных лиц,
А место действия – пространная вселенна
[цит. по: Морозов: LXXV, 77][43].
Знаменательно, что новое (исправленное и дополненное) издание хвостовских басен 1816 года открывалось виньеткой, изображавшей лавровое дерево, на ветвях которого висел медальон с портретом Хвостова (в другой интерпретации – Лафонтена), под деревом сидела муза со свирелью, а вокруг располагались разные звери. Под виньеткой была подпись, которую насмешники графа почему-то находили двусмысленной: «Все звери говорят, а сам молчит поэт!» Так уж получилось, что скромный сочинитель этой многоглаголивой комедии сам стал ее главным героем – притчей во языцех[44]
35
Речь идет об издании сумароковских притч 1762–1769 годов.
36
СО. 1816. Ч. 30. № 20. С. 19.
37
Из моей любимой притчи «Муж и яйца» о безумном супруге, рассказавшем по секрету своей болтливой жене, что он «снес яйцо». Скромница – «как жена, как честный человек» – дала слово никому о сем не говорить, но на утро поделилась тайной с кумой, которая все рассказала куму, сватье и т. д.: «И – вести с клятвою, а ложь за ними вслед / Бегут и яицам дают полет; / Но под вечер об них на рынках не молчали, / И все ребята в слух об яицах кричали» [Хвостов 1802: 10–11]. В издании избранных басен 1816 года Хвостов, увы, подверг эту басенку переработке.
38
«Каждая нелепость, если рассматривать ее с точки зрения внутренней системы хвостовской басни, становится функционально действующей: намеренно просторечной безыскусностью» [Альтшуллер 2007: 204]. Воистину так! Только я бы связал эту манеру не с сюрреализмом, замешанным на психоанализе, не с абсурдом, пропитанным философской критикой языка и логического мышления [Кобринский], и не с эмблематическим мышлением (остроумная версия Е. Махова [Махов 1999: 10–11]), а с примитивизмом (тот же Махов). Визуальной параллелью неожиданной комбинаторике Хвостова, скорее всего, является лубок (или детское искусство). Впрочем, я могу ошибаться.
39
«Автор знает, – оправдывался Хвостов, – что у птиц рот называется клювом, несмотря на то, он заменил сие речение употребляемым в переносном смысле, ибо говорится и о человеке: “Он разинул пасть” (Словарь Академии Российской)» [Поэты: 435].
40
Так, например, к замечательному и вечно актуальному по своей двусмысленности стиху «Чиновные скоты все праведники были» («Мор зверей», редакция 1816 года [IV, 33]) Хвостов приложил следующее разъяснение: «Не надобно принимать сего выражения в смысле эпиграмматическом, но в простом по отношению только к роду животных. Сие замечание простирается и на прочия басни» [IV, 34].
41
Хвостова обидчивый драматург противопоставил тем молодым людям, которые, «желая приобрести имена сочинителей, приобретают их или гнусными сатирами или пасквилями, в которых за недостатком здравого рассуждения и познания в науках порицают не порок, а человека, не сочинение, а сочинителей, и, что еще и того дерзновеннее, осмеливаются ругать писателей, называя их по фамилиям, переменя токмо в оных по некоторой букве». Весь этот пассаж – атака на поэта В.В. Капниста, высмеявшего Николева и авторов его кружка в едкой эпиграмме. Смотрите подробнее: [Берков: 197].
42
Среди первых были, по указанию самого автора, басни «Солнце и Молния», «Павлин», «Мыши и Орехи» (опубл. в 1783 году), а также «Щука и Уда», которую автор почерпнул из рукописных тетрадок знаменитого Сковороды [Сухомлинов: 519]. Дмитрий Иванович особо подчеркивал, что не был рабским подражателем Сумарокову (равно как и Ломоносову и Петрову в одах), ибо «ход мыслей и чувствований всегда был у него во всех родах собственный» [там же].
43
Как указал Морозов, эти стихи, вынесенные Хвостовым в эпиграф к тому его басен, представляют собой подражание Лафонтену [Морозов: LXXV, 77]. Остроумный соперник Хвостова А.Е. Измайлов цитирует их в посвящении своих басен С.Д. Пономаревой и добавляет: «Не я так говорю – / Езоп наш граф Хвостов. – / Сию смесь римф и слов / При баснях он своих поставил эпиграфом. / Но мне ль равняться в баснях с Графом? / Нет, Граф мне не чета! / Вот у него-то простота / И острота! / Тон самой легкой, благородной! / Язык скотов он знает как природный!..» [Вацуро 1989a: 50]
44
Хвостов. О Басне, Сказке, Локмане, Бидпае, Эзопе и о других славных Баснописцах (II, 154; в названии послания представлен своего рода интернационал образцовых баснописцев: один из них эфиоп, другой – индийский брамин, третий – древний грек). Как мы увидим дальше, к басне Хвостов шел от прозаической комедии (Гольдони, Хольберг, Сумароков, Фонвизин), научившей его «как разговорами простыми веселить, театра малого распространить пределы» и внушить смелые речи «сильныя зверям» [II, 153].