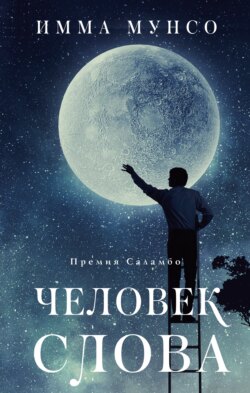Читать книгу Человек слова - Имма Мунсо - Страница 5
Человек слова
Б1
Это вы мне?
ОглавлениеДождливая пятница, осень 2003 года. Всю ту неделю мне не даёт покоя одна и та же фраза («У меня предчувствие»), как привязчивая песня, которая незаметно проникает в голову и от которой не отделаться, и ты стараешься изо всех сил случайно не запеть её. Так и я старалась не произносить эту фразу. «У меня предчувствие», – могла бы я говорить каждый день на той неделе. Но не сказала. И к лучшему. Всё равно не поможет. Я не сделала этого, во-первых, из суеверности, а во-вторых, из деликатности: нельзя такое говорить в присутствии человека, которого нехорошее предчувствие касается. Это и плохая примета, и неэтично. Так что никто дома не произнёс эту фразу – ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду, ни в четверг. Неделя заканчивается сегодня, в пятницу. Сегодня эта фраза неожиданно приобретёт ошеломительный смысл.
Дождливая пятница, осень 2003 года. Шестнадцатая осень с момента нашей первой встречи в баре. В баре, повидавшем всякое за долгие годы. Два совладельца закрыли его и уехали работать за границу. А потом умерли. Ф., которому было немного за тридцать, попал в аварию за два месяца до рождения первенца. Той ночью он возвращался с долгой, полной задушевных разговоров встречи с М. – другом и бывшим напарником, которому в пятьдесят лет диагностировали рак без шанса на излечение. Первоначальное очарование этого места исчезло вместе с ними. Недавно ещё один наш друг выкупил его, восстановив в первоначальном блеске. Но мы наведываемся туда не часто. Мы никогда никуда не ходим по ночам. Только днём.
Странная и выматывающая неделя. Уже некоторое время назад у Него начались непонятные боли и жжение, не связанные с физической нагрузкой. По Его словам, как будто огонь в плече, который обжигает и тут же проходит. Мы, конечно, пошли к врачу – хорошо, что не пришлось тащить Его силком, потому что Он противится ходить к врачам, всегда противился. «Шейные позвонки», – сказали нам в первый раз, когда во время отпуска пришлось вызвать местную скорую. Поскольку, несмотря на лечение, боль продолжалась и сопровождалась необычными симптомами, несколько дней назад Он пошёл к врачу, которому доверяет. Это один из врачей, славящийся своим умением точно ставить диагноз, и к тому же наш друг. Но медицина – наука не математически точная, и множество мелких нюансов могут привести к ошибке, особенно когда пациент не из тех, кто проводит жизнь, вечно ходя по врачам. Более того, у Него никогда не было симптомов, хоть как-то свидетельствующих о том, что через пару часов его поразит клинок смерти. На самом деле Он всегда был не похож на других – и телом, и духом. Ему сложно идентифицировать боль. Говорит, это потому, что у Него никогда ничего не болело. В детстве – да. Но этого Он уже не помнит. В детстве Он страдал от разных древних, словно взятых из книг болезней, таких как тиф, от которого едва не умер, или этиловая кома, в которую Он впал в возрасте шести месяцев по вине няни, давшей Ему бутылочку с медицинским спиртом вместо минеральной воды. А ещё в юности Он переболел пневмотораксом, о чём вспоминал с большим удовольствием. Вынужденный соблюдать постельный режим, Он непрерывно принимал у себя гостей, вёл глубокомысленные беседы и читал запоем, в то время как Его родители состязались за звание кулинарного гения, готовя для Него изысканные кушанья.
Воспоминания о том времени так дороги Ему (хотя, конечно, бывали и трудные моменты, о чём свидетельствуют письма, которые хранят некоторые Его друзья), что сегодня, если спросишь, кем бы Ему хотелось быть, Он часто отвечает, что его призвание – быть выздоравливающим. Думаю, Он решил так в ранней юности, возможно, прочтя «Волшебную гору[18]». Тогда Он и понял, что именно в этом Его главное призвание. Ведь ни в каком другом состоянии невозможно читать, думать и располагать таким количеством свободного времени, не испытывая угрызений совести от того, что пренебрегаешь каким-нибудь ответственным делом. Никакое другое состояние не порождает той удивительной ясности ума, которую даёт мыслящему человеку соприкосновение с болезнью и приближение смерти. В любом случае, период выздоровления поразительно плодотворно послужил Его уму, но больше не повторился. С двадцати лет Он прожил ещё тридцать, не проболев ни единого дня, ни разу не переступив порога врачебного кабинета. Не испытав, по Его собственным словам, ни малейшего недомогания. «Никогда не чувствовал ни малейшей боли». Для меня это так странно, что я всё время сомневаюсь, правильно ли Он оценивает боль. Или у него такой высокий болевой порог, что Он не уделяет своим недомоганиям должного внимания. Или, может, не хочет ими докучать другим.
Это я к тому, что, не имея привычки говорить о физической боли, особенно о своей, Он затрудняется описать её. Поэтому, когда я пытаюсь добиться от Него описания, или когда это пытается сделать врач, Он всё время увиливает и не говорит, насколько плохо себя чувствует. Тем не менее, на этой неделе он постарался найти подходящие слова. «Знаю только, – твердит Он, – что это самое странное ощущение из всех, что у меня были».
– Ты не можешь поточнее? – говорю Ему я. – Как-нибудь определить, что это?
– Что-то раскалённое, – говорит Он.
И вот уже Он говорит, что это длилось лишь несколько секунд, и вот уже хочет сменить тему. Уже готовит ужин, нарезая лук, насвистывая, уже уносится прочь от своего тела со скоростью света: всё прошло, и Он больше не хочет об этом говорить, и чувствует себя, по Его словам, великолепно.
Два года назад, после тридцати лет, прожитых безо всяких врачей, его настиг рак. Точнее говоря, настиг нас: так как Он отлично обходится без тела и занимается лишь духом, то это я занимаюсь подробным анализом количества Его лимфоцитов и лейкоцитов, всех Его болей, о которых Он забывает, кажется, с той же лёгкостью, с какой забывает, по Его собственным словам, всё то, что могло бы ослабить его дух. Эта беда не сделала нас несчастными, вовсе нет. Скорее наоборот: Он, с Его способностью забывать, и я, с моей способностью выхватывать всё самое яркое и достойное внимания, прекрасно прожили эти два года.
Рак, кроме того, был не из тех, что быстро прогрессирует. И к тому же это был не рак лёгких, который разит наповал и обладает высоким процентом смертности, и которого мы боялись, потому что он унёс жизни многих Его родственников. Мне было так страшно, что сейчас, оглядываясь назад, я вижу Его: растерянного, в замешательстве, прозревшего от этой новости и тревожащегося главным образом за нас с дочкой, что очень в Его духе, говорящего себе: «Чёрт, а ведь это серьёзно». И вижу себя, повторяющую Ему с воодушевлением, как будто это хорошая новость: «Но ведь это не лёгкие! Понимаешь? Не лёгкие!» И действительно, это не был рак лёгких. Это был рак ничего. Из тех, что, после того как тебя разрезали сверху донизу, оперировали семь часов подряд и навсегда изменили твой метаболизм, возвращаются в небольшом проценте случаев. Ему было всё равно, что у Него не рак лёгких. А мне нет. И моя эйфория способствовала той радостной атмосфере, которой мы продолжали дышать. И если Он частично утратил радость, то эту утраченную часть ему возмещала я. Рак, которого мы так боялись, всё же обнаружился, и у меня было такое чувство (поскольку это был не рак лёгких), словно нам выпал счастливый билет. То есть, бессмертие.
Его бессмертие (этим словом я называю всего лишь некоторую протяжённость в будущее, не более того), с тех пор как мы познакомились, было единственной волновавшей меня лотереей. Рак, который должен был случиться, – случился. Угроза перестала быть неясной перспективой. Мы столкнулись с болезнью, и все произошло не так, как я себе представляла. Мог, конечно, случиться рак лёгких, но я решила, что его не будет. И точка. Страхи и тревоги работают вот так, иррационально. И если в страхе много от иррационального, то и в бегстве от него – тоже. Просто в таком круговороте переживаний в какой-то момент чувствуешь себя неуязвимым. Ведь ты уже получил свою порцию страданий, а значит, тебя это больше не коснётся. Абсурд, конечно. Но главное, чтобы это работало. Со мной это работало отлично.
Его болезнь научила меня жить настоящим с большей отдачей. Рядом с Ним это умение всегда было необходимо, но мне не хватало последнего штриха, приходящего лишь с опытом: болезнь дала тот импульс, который мне был нужен, чтобы жить всей полнотой мгновения. В первые недели дни полного ужаса чередовались с днями безмерной радости, которую мы бурно праздновали каждый раз, когда узнавали, что всё не так плохо. В одном из рассказов я писала о той красоте, что сопровождает болезнь. Во время нашей болезни красота часто давала о себе знать. Проявлялась самым неожиданным образом. Исходила от друзей, моих и Его. От комиксов «Капитан Молния» – их принёс ему друг, который ревностно хранил сокровища их общего детства, никогда не выбрасывал ничего, что имело к ним отношение, и который с тех пор стал превращаться в щедрого человека. Красота проявлялась и в фантасмагорической ночной поездке в почтовое отделение аэропорта, откуда нужно было срочно отправить биопсию в Бостон (дополнительная услуга по медицинской страховке): из того, что легко могло обернуться ночным кошмаром, родилась красота, и мы, смеясь, ужинали на берегу моря. Красота вновь возникла благодаря незнакомой молодой медсестре, сделавшей ему лучевое обследование (решающее для диагностики опухоли, поскольку отображает метастазы в костях, обычно необратимые, и показывает бесполезность хирургического вмешательства). И зловещая ночь в ожидании результатов обернулась поводом для праздника: через приоткрытую дверь я увидела, как Он обнимает медсестру и оба плачут. Судя по всему, нарушив ритуал исключительной вежливости, Он попросил сообщить Ему что-нибудь заранее, и она, нарушив ритуал молчания, сказала, что не видит следов Чудовища, тогда оба не смогли сдержать эмоций.
И я тоже, выйдя на улицу, дала волю своим чувствам: обняла Его, снова в Него влюбилась. Я влюбляюсь в Него ежесекундно по той или иной причине. На следующий день это было из-за скелета. Мы отправились забрать результаты, уже не волнуясь – благодаря той милой медсестре, – и когда я вынула снимок из конверта, то изумилась изяществу его костей. «Какая красота!» – воскликнула я. И попыталась показать ему: «Не хочешь взглянуть, какой у тебя красивый скелет?» Нет, Он не хотел. Ни малейшего желания рассматривать свой скелет. Но Он был явно доволен. Я сказала: «Поверь, что я немножко разбираюсь в скелетах, и твой – само изящество!» И это правда. Увлечением медициной я обязана своей чрезмерной ипохондрии, возникающей, когда с Ним что-нибудь происходит, с этим беспокойством я могу справляться, лишь до краёв наполняясь медицинскими знаниями. В результате я облазила весь интернет в поисках информации и медицинских заключений, увидела бессчётное количество гаммографий, анализов, биопсий… Благодаря одной моей подруге, любезно предоставившей свой идентификационный номер медицинского сообщества, я подписана на два серьёзных узкоспециализированных издания и на базу данных рентгеноскопических исследований. Поэтому могу иметь своё мнение – пусть и непрофессиональное, но эстетическое: например, об изяществе скелета я вполне могу судить.
Эти ключевые моменты двухлетней давности были удивительно насыщенными. Любой очень сплочённой паре они знакомы. С момента встречи мы переживали смерти очень близких людей раз в два года примерно. Это тяжёлые испытания для отношений: они либо связывают, либо разъединяют. Нас они сплотили, как сейчас сплачивает болезнь. И всё же, даже будучи одним целым с любимым человеком, больной одинок. Совершенно одинок. Я не знаю, что в тот или иной момент причиняет Ему боль и насколько она сильна. Испытывает ли Он страх, говорить о котором Ему не позволяет необыкновенная деликатность. Отношения с больным несправедливы, асимметричны: помню, как мы, четыре любящие его женщины, встретились за ужином, чтобы отметить удачную операцию и хорошие результаты анализов. Наша радость была безмерна. Друзья звонили и встречали новость с ликованием. Спокойствие и эйфория молниеносно передавались всем любящим Его людям. А что тем временем делал Он? А Он в больнице проживал одну из самых лавкрафтианских ночей в своей жизни. Радость от хорошей новости не позволяла нам, так любящим Его, разделить с Ним боль. От безграничной радости у нас в тот момент не оставалось ни капли сочувствия к тому, что Он переживал – по Его словам – самые худшие часы в жизни.
Радость, что он по-прежнему с нами. Только это имело значение.
И вот наконец после тяжёлых осложнений в последующие дни пришло окончательное освобождение, тем студёным 23 декабря, когда мы отправились забирать его из больницы вместе с дочкой, которую Он не видел уже три недели. Выпало много снега, а в то утро впервые показалось солнце. Он вышел ослабевший, но свободный и счастливый. Ему не нужно было делать химию, и всё закончилось наилучшим образом. С тех пор прошло два года, и Он всегда с огромной благодарностью вспоминал дни, когда ему не надо было вставать утром на работу, походы на рынок за продуктами, которые ему хотелось приготовить на обед, поездки за грибами с его другом А., зимние вечера, когда он с дочкой слушал «Петю и волка», плодотворную работу мысли, которая, по его наблюдениям, стала интенсивнее, наше путешествие в февральских снегах…
Эти два великолепных года были размечены, как пунктиром, обследованиями, которые позволяли нам всякий раз сказать: «Всё в порядке». И так – до той лёгкой боли. В последние дни врач, начав диагностику с шейных позвонков, всерьёз взялся за дело. Последовала неделя всё новых и новых анализов в поисках слова, которое приводит меня в ужас и которое Ему как будто неизвестно – ужасного слова, которое мы никогда не произносим (метастазы); а я тем временем изучила всё, что нашла на эту тему. Того же боится и врач. Если сегодняшние анализы будут хорошими, можно не только перестать бояться, но и не делать в конце года контрольное обследование, чтобы диагноз был снят. И закончатся постоянные осмотры.
Фраза, которая крутится у меня в голове, как навязчивая мелодия, или потеряет, или приобретёт смысл этим вечером. Нужно только открыть конверт. На проспекте Тибидабу льёт как из ведра. Разглядываю из машины сады вокруг роскошных особняков, утопающие в шуме машин и дождя. В одном из них – клиника, куда люди приходят за своим смертным приговором. Он выходит из машины, чтобы забрать конверт. Несколько дней назад я ходила с ним на осмотр. И обратила внимание на рисунки и картины, подаренные клинике известными людьми. Так все они выражали свою признательность. Некоторые из них живы, а некоторых уже нет, но все они выражали свою огромную благодарность месту, куда шли за приговором. Это показалось мне любопытным. Я понимаю: логично быть благодарным твоему хирургу, лечащему врачу, твоей медсестре, но я не думала, что рентгенологам тоже выражают столько благодарности. А может, это был какой-то конкретный рентгенолог. Может, этот рентгенолог такой хороший, что никогда не находит ничего плохого. Никакой аномалии. Да. Наверняка так и есть.
Смотрю, как из величественного особняка выходят люди. Один за другим, с конвертами, и открывают зонтики, чтобы не намокнуть. Довольно странное место для получения смертного приговора. Каким утончённым способом, безошибочным до тошноты, мы узнаём свой приговор. Или же получаем помилование, как всегда временное. Обратите как-нибудь внимание на то, сколько людей перемещаются по Барселоне с большим конвертом, который не знаешь, куда деть, потому что его нельзя складывать, а так он никуда не влезает. Их много, если присмотреться. Допустим, часть из них – обычные люди, которые проходят регулярный осмотр. Другая часть – неугомонные ипохондрики из тех, что по любому пустяку идут к врачу. И всё же есть те несчастные, что отправляются за своим смертным приговором – или за временным помилованием.
Мои размышления внезапно прерываются, когда я вижу Его. Он садится в машину и кидает мне конверт, как бы говоря: «Неприятная миссия выполнена». Будь его воля, Он бы надолго оставил конверт в машине нераспечатанным, ну или, как минимум, до понедельника, когда отдаст Его врачу. Но он знает, что я не переживу такие выходные. Знает, что я немедленно его открою. Он ещё даже не завёл мотор, а я уже прочла. И нет. Не выявлено никакой аномалии. Не наблюдается. «Нет». Это самое прекрасное слово в мире.
Нет!
Нет!
Моя радость безгранична. Все мрачные предчувствия испаряются благодаря убедительным доказательствам у меня в конверте. Он садится за руль и говорит: «То есть, завтра я не умру, да?» Так и говорит. (Немного пессимизма, чтобы развеять мой энтузиазм). Пока мы едем к Аррабассада, я читаю заключение более внимательно. В нём могло бы больше ничего не быть, и малюсенькая боль так бы и осталась на время без объяснений. Но вечер слишком уж прекрасен, так что есть всё же что-то, точно есть: защемление позвонка (ерунда, конечно, по сравнению с метастазами), и именно того, который его беспокоит, – С5. «Это именно С5!» – воодушевлённо восклицаю я. И снова никакого интереса к С5. Ему всё равно. Лес под потоками дождя вновь становится зелёным и надёжным. Моё тело расслабляется. Нужно заехать домой забрать дочку и уехать на выходные. По Его просьбе оставляю конверты на кровати. Мне хотелось бы, конечно, взять их с собой и посвятить выходные изучению защемлений, которые до настоящего момента меня ещё не интересовали. Но я слушаюсь, как и почти всегда. Или как никогда. Я оставляю их на кровати. И мы уезжаем.
В дороге мы почти не разговариваем. Наконец добираемся. Тумана нет. Временами нам не хватает нашего тумана, как на этой неделе, когда дождь идёт не переставая. В доме холодно, и это приятно. Он спускается в подвал – включает отопление. Он всегда там немного задерживается, по его словам, поговорить с теми, кого нет. И пицца, как всегда, остывает, но я сдерживаю желание позвать Его – из уважения к этой Его необычной экскурсии на глубину, в детство, в потерянный рай. И как всегда, когда я не рядом с ним, лёгкое беспокойство распространяется по моему телу. Но теперь я уже привыкла, и ничто не нарушает гармонии наших отношений. Он ничего не сказал, но мне показалось, что, пока мы ехали, его снова пронзала эта странная боль, которая тут же исчезает. У меня закралось подозрение, потому что он не просил меня что-то рассказать, как делает всегда, когда мы куда-то едем («расскажи мне что-нибудь, что хочешь…»), но это молчание можно было бы, наверное, списать и на усталость. Кажется, в какой-то момент я спросила: «Ты в порядке? Хочешь, я поведу?» Это дежурный вопрос, ответ на который всегда «нет», потому что, как Он говорит, никогда Его эмоциональное равновесие так не страдает, как когда за рулём я. Он уверяет, что в порядке, но устал. И вот мы на месте. И он в подвале. Готовлю дочкину скрипку, чтобы завтра та взяла её к бабушке. Две недели назад она начала играть на скрипке. А завтра утром ещё и наденет новое пальто. Готовлю скрипку и пальто. Несмотря на беспокойство в дороге, я безгранично счастлива, потому что защемления обычно не смертельны. Жизнь возвращается в привычное русло.
Когда ждёшь результатов, жизнь как будто бы временно отменяется. Она снова начнётся с завтрашнего дня. Завтра утром – новое пальто и новая скрипка. Завтра утром – возвращение к проекту нашего будущего дома в Бузи. К журналам по садоводству. Моя давняя детская мечта. Год назад мы обнаружили потрясающее место в Пиренеях у подножия Коль де Мари Бланш. Туда вела дорога, вдоль которой тянулась белая изгородь. Это был типично нормандский пейзаж посреди сочных зелёных лугов. Деревушка тоже совершенно прелестна. Куры, кудахча, разгуливают по площади с каменными корытами, у въезда – дольмен эпохи неолита и несколько домов XIV века. Даже Он, совершенно не заинтересованный в покупке земли и никогда не страдавший мещанскими мечтами, воскликнул при виде всего этого: «Какое чудесное место!» Оказалось, что земля с незапамятных времён принадлежала местной коммуне и продавалась по очень низкой цене. Мы её купили. Я едва могла поверить в то, что моя давнишняя мечта вот-вот осуществится.
Именно тогда, около года назад я начала писать роман. Он назывался «Дом её мечты»: думаю, не без некоторой иронии, хотя и не уверена. В романе у юной героини был сосед, который её просто завораживал. Соседа этого звали Комета, и героиня, будучи подростком, хотела – поскольку у того уже была любовница, – чтобы он стал ей отцом. Уже взрослой героиня отправилась на поиски дома, похожего на тот, где жил сосед, которым она так восхищалась, – и всё никак не могла найти его. Работая над романом, я начала догадываться, что дома её мечты вообще не существовало, что нет домов без людей, которые живут там или жили, и что новые дома, без души, не могут быть домами мечты, пока они не обжиты. Поэтому как знать, станет ли домик в Бузи, куда мы переберёмся летом, домом моей мечты. Возможно, и нет, ведь романы обладают своей собственной мудростью, и через них ты осознаёшь вещи, которые в реальной жизни не можешь постичь.
В реальной жизни у меня, конечно, будет дом мечты, это уже решено. Представлять себе дом – одно из обычных развлечений, помогающих на время забыть о смерти. И это притом, что я никогда не была Иваном Ильичом[19], который получает первое предупреждение от смерти, вешая шторы, и вдруг осознаёт пустоту той жизни, где шторы всегда были важнее внутреннего мира. Нет, рядом с таким человеком, как Комета, это было бы невозможно. Но я, в отличие от мужа, с энтузиазмом, и даже одержимо берусь за планировку природных садов или же листаю каталоги деревянных террас, где мы будем читать и вести беседы за аперитивом, любуясь великолепным пейзажем. В реальной жизни нужно взять ипотеку и утвердить чертежи – это у нас намечено через три недели. В реальной жизни сегодня вечером мы забрали результаты, которые позволят нам с радостью приступить к этому с завтрашнего дня. Завтра заканчивается эта гнетущая неделя, завтра (не сегодня, потому что я уже без сил) я вновь задумаюсь о том, хотим ли мы прямую или винтовую лестницу. В отличие от него, живущего настоящим так, как никто другой, я не помню такого периода в жизни, когда я не была бы поглощена и одержима тем или иным проектом. А в моём случае одержимость – это одержимость. Найти самого подходящего мужчину. Найти самый подходящий для отпуска отель. Найти самого подходящего щенка для дочери. Найти самое подходящее место для домика моей мечты. Найти самую точную диагностику для Него. Всё это потребовало от меня полной отдачи, без сна и отдыха; как наваждение. До сегодняшнего дня я успешно справлялась. Но этим вечером я ничего не хочу предпринимать, это вечер облегчения и радости, и такой огромной усталости, что, за ужином я, кажется, уже сплю с открытыми глазами.
Но после ужина боль возвращается. (Хотя это уже не страшно: ведь исследования говорят, что метастазы не наблюдаются, не выявлены, что нет метастазов – просто защемление). «Защемление или нет, но сегодня это невыносимо», – говорит Он. Режим тревоги, который выключился, как только я увидела результаты, снова включается. Я мигом проснулась: «Пойдём, тут же близко», – говорю я (рядом есть больница). «Подожди, ты сама знаешь, сейчас пройдёт». Я не хочу настаивать, боюсь его беспокоить. Он просит аспирин, и я спускаюсь на кухню, но прежде Он говорит: «Нет, подожди, дай мне руку. Мне нужна твоя рука». Странная для него просьба – Он никогда никого не просил дать ему руку. Смотрит вперёд, на стену, во взгляде мучение, наверное, Ему невыносимо больно; Его профиль. Его профиль. Через минуту Он говорит: «Пожалуй, я приму аспирин». Приношу Ему. Он пьёт лекарство. Прохаживается по дому. Говорит, что чувствует себя лучше. Отправляет меня спать. «В понедельник, в понедельник», – повторяет Он. «Узнаем в понедельник. Подожду пока».
Мы пытаемся уснуть, Он смотрит фильм со своим Джоном Вейном. Я запомнила, потому что Он сказал: «Конечно, не с Джоном Фордом, но есть хотя бы Джон Вейн». Это всё, что я помню, как в тумане.
Сквозь сон думаю, как продержаться до понедельника, а завтра ещё и матч: два часа на стадионе – плохая идея при защемлении, но и при включённом режиме тревоги я всё равно засыпаю, обессиленная бессонной неделей. И вдруг я не знаю как, не знаю когда, я не знаю точно, смотрит ли Он телевизор, или фильм уже закончился, но Он странно наклоняется в мою сторону.
Очень необычно.
Это было оно.
Это оно.
Она пришла.
Но я не узнаю её, нет. Даже сейчас.
«Что с тобой, любимый? Что с тобой?»
(Так вот как это происходит?)
Он ничего не отвечает.
Его взгляд безмятежен.
Ясен.
Я становлюсь чем-то вроде автомата. Кем-то, кто набирает номер телефона, кто непонятно как координирует движения, кто звонит, разговаривает и перезванивает, потому что скорая не едет, кто выслушивает автоответчик и ищет ключи от калитки. Будущее вдруг предельно сокращается: оно ограничено приёмной больницы, где автомату придётся ждать новостей. И автомат сомневается, сможет ли он ждать, и, наверное, не один час. Снова звонит. Льёт дождь. Автомат ищет ключи. От внутренней двери, от входной двери, от калитки. От трёх этих дверей. Будит дочку, звонит бабушке, чтобы та забрала её. Хотя бабушка идёт пешком, она появляется раньше, чем приезжает скорая. Чуть раньше. Надеваю дочке пальто, новое пальто. Но про скрипку мы забываем. Когда бабушка уводит дочку по мокрой улице, медленно и тихо подъезжает машина скорой помощи, и малышка внезапно поворачивается перед тем, как скрыться за углом. «Скрипка, я хочу скрипку», – слышу её голосок. В её глазах отражается оранжевый свет, заливший улицу, но тут бабушка тянет её за руку, и они исчезают за углом.
Через несколько минут поднимается врач. Когда он проводит реанимацию, лампочка в комнате гаснет, и врач просит чем-то посветить. Пока я выкручиваю лампочку в комнате сестры, он спрашивает: «Какие заболевания были у вашего мужа?» Не могу не заметить прошедшего времени (были?), но решаю не обращать на это внимания и принять за оговорку. Подробно рассказываю про шейные позвонки, в полной убеждённости, что говоря о несмертельной болезни, сбивая с толку вестника, можно изменить саму весть. Но вестник неумолим. И как раз когда я появляюсь в дверях с лампочкой в руке, он говорит: «Об этом тяжело говорить, но…»
Я не даю ему закончить фразу. Перебиваю и спокойно рассказываю историю болезни (лампочка упала и разбилась, что очень странно, потому что я не помню, чтобы разжала руку хоть на секунду), спрашиваю: «А защемление?» Врач протягивает руки, будто собирается подхватить меня, и это очень странно, потому что я не чувствую, что наклоняюсь, что падаю, напротив, я слышу, как автомат во мне говорит о необычной боли при защемлении. Мне нужны объяснения, а не объятия. «Послушайте, – говорю, – неужели это может быть из-за внезапного сдавливания спинного мозга при защемлении?» Мне всё равно, говорю ли я чушь, так или иначе я хочу донести до врача скорой следующую информацию: «Было два варианта: метастазы или защемление. Метастазы исключены. У вас остался только второй вариант. Так объясните мне, как защемление могло привести к этому».
Однако врач не понимает намёка. Он говорит: «Это обычный сердечный приступ. Избежать повреждения мозга можно только в первые секунды, но если момент упущен, то сделать уже ничего нельзя – изменения необратимы». (Обычный? Как это обычный? Для кого обычный?) Врач продолжает: «Мы очень часто с этим сталкиваемся». Моя карта бита, вытянутая мною карта заполняет собой всё, и автомат её не видит. Слышу «сердечный приступ», и пройдут целые недели, прежде чем мой мозг сможет обработать это сочетание слов. Я продолжаю спрашивать. Невероятно, до чего мы можем быть слепы, когда наш угол зрения ошибочен. Боль в левой руке: только полный дурак связывает её с инфарктом. Но мы-то знали больше, чем дураки. Мы знали, что многие симптомы, которые похожи на признаки болезни сердца, являются, по сути, проявлениями пугающих метастазов. Мы знали, что его кардиограммы всегда были идеальны, последние анализы креатинкиназы были в норме, эргометрии не фиксировали отклонений и показатели кровообращения были хорошими. Я говорю врачу скорой: «Как это мог быть инфаркт, если никаких симптомов у него не было?» (за исключением основного). Но нет, он (не ошибаясь именно потому, что на его угол зрения не влияют никакие анализы и сопутствующие симптомы) упрямо повторяет: инфаркт. Что ж, автомат сдаётся. Я сдаюсь. Очевидно, врач не столь компетентен, чтобы объяснить такой редкий случай, возможно, единственный в мире: защемление, вызвавшее внезапное повреждение спинного мозга с летальным исходом. Поэтому я решаю задать ему вопрос попроще: «А если бы вы приехали раньше?» Автомат спрашивает это с азартом исследователя («Аз-арт-исследовательски!» – сказал бы Он). Без тени обвинений. Доктор отвечает: «Возможно, мы бы его спасли, но повреждения мозга были бы необратимы». Ответ правильный. Это примерно то, что автомат хочет услышать, чтобы таким образом вернуться на несколько минут назад. Он хочет говорить, говорить, чтобы время не шло. И совершенно не ожидает такого ответа: «Ну, если бы мы приехали на десять минут раньше, может, мы бы Его спасли, но мы, понятное дело, настолько привыкли к нашей работе и не торопимся, что хоть и не было ни одной машины на дороге и нам нужно было всего лишь пересечь улицу, чтобы добраться до вашего дома, мы потратили на это двадцать минут. Вы же понимаете?» И автомат в любом случае сказал бы: «Конечно, это с каждым может случиться. Никто не идеален». А доктор мог бы ответить: «Вы могли бы пойти в больницу ещё несколько часов назад, идиоты!» Но он этого не говорит, за что его нужно поблагодарить, и автомат в любом случае ответил бы то же самое: «Да, конечно, со всеми нами случается, никто не идеален».
Автомат говорит, спрашивает и звонит, это своего рода эктоплазма[20], которая отделяется от меня и не соединяется со мной, и думаю, больше никогда не соединится. Больше никогда. Возможно, в этом разъединении и кроется тайна разделения между телом и душой, равнозначная смерти. Или, возможно, разделение между телом и душой происходит не в том, кто умирает, а в том, кто остаётся.
«Вам ещё что-нибудь нужно?» – спрашивают меня. «Нет, больше ничего. Спасибо». Что мне может быть нужно? Если однажды я смогу обходиться без Него, значит, я смогу обходиться даже без воздуха, которым дышу, в первую очередь без этого. Но автоматы не думают о таких вещах. Они вообще ничего не думают, ничего не знают, но, к счастью, действуют. Ничто не трогает автомат, который, услышав «он мёртв», тут же реагирует, но реагирует автоматически. «Мне ничего не нужно», – повторяет незнакомым людям. «Ничего, спасибо». Звучит высокомерно, хотя он и говорит это из вежливости, или, во всяком случае, так считает.
С той пятницы прошло несколько дней. Не знаю, сколько. Немного. Время от времени у меня кружится голова, когда я вижу лицо дочки, которая резко поворачивается и просит скрипку, и свет от машины скорой помощи отражается на мокром асфальте, и потом моя мама тянет дочку за руку и обе исчезают как раз в тот момент, когда скорая останавливается. Как бы то ни было, эти приступы тревожного головокружения обычно случаются не ночью. Как только наступают сумерки, я чувствую, как невыносимая дневная боль начинает отпускать. И я сдаюсь и беру пульт телевизора. Пощёлкав им машинально какое-то время, я оставляю «Пурпурную розу», и переключаю, чтобы посмотреть последние минуты очень толкового репортажа о Диззи Гиллеспи и его друзьях. И когда я снова начинаю переключать каналы, в «Пурпурной розе
18
Роман Томаса Манна (1875–1955 гг.), опубликованный в 1924 г.
19
Речь идёт о главном герое произведения Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича».
20
В оккультизме и парапсихологии – вязкая субстанция неясного происхождения, которая якобы выделяется (через нос, уши и т. д.) организмом медиума и служит затем основой для дальнейшего процесса материализации (конечностей, лиц, фигур).