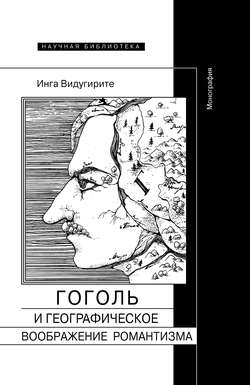Читать книгу Гоголь и географическое воображение романтизма - Инга Видугирите - Страница 5
Введение
О материале исследования и структурe книги
ОглавлениеВ общих чертах в книге предпринимаются дальнейшие шаги в исследовании и интерпретации географических источников Гоголя, сопоставление их с историческим контекстом географии и концептуализация географического пейзажа как результата географической оптики писателя. В первой части восстанавливается концепция географии Гоголя на фоне эпохи, во второй описывается связанная с этой концепцией и географическими источниками драматургия взгляда в его пейзажах.
Центральное место в текстологическом и контекстуальном анализе занимает статья Гоголя «Несколько мыслей о преподавании детям географии», напечатанная в первом номере «Литературной газеты» за 1831 г. Это была первая публикация писателя под собственным именем[87], которая послужила в качестве рекомендации, когда П. А. Плетнев представлял Гоголя А. С. Пушкину как «молодого писателя, который обещает что-то очень хорошее»[88]. Географическая тема писателя в статье предстает «в чистом виде» – здесь он еще не решает вопрос о границе между географией и историей, как будет это делать в «Арабесках», и всю обширную область, изучающую Землю и людей, называет географией. Тем не менее первая редакция статьи никогда не удостаивалась специального внимания как самостоятельный текст: к ней обращались только ретроспективно – как к первому варианту вошедшей в «Арабески» статьи «Мысли о географии». Я предпринимаю обратный ход: рассматриваю ее как основной источник для археологии географических идей Гоголя.
Непричастность статьи «Несколько мыслей о преподавании детям географии» к «Арабескам» и ее «независимая» ценность от них важны и для выяснения корпуса источников географических идей Гоголя. В источниковедческих комментариях к «Мыслям о географии» в «Арабесках» существуют различия, которые можно объяснить разными подходами исследователей. Одни рассматривают статью как в основном педагогическую (С. Н. Киселев, И. А. Виноградов, В. Д. Денисов), другие – как географическую, отражающую общую геоисторическую концепцию писателя (Ю. В. Манн, С. Фуссо, Л. В. Дерюгина). Однако невероятное количество установленных и гипотетических источников заставляет задуматься о том, не рассуждаем ли мы о каком-то фантастическом и, в сущности, невозможном для выполнения замысле Гоголя. Как может быть, что в процессе подготовки статьи для «Литературной газеты» писатель за короткое время (месяц или два) овладел огромным философско-теоретическим материалом на разных языках, смог составить для себя представление о географии, которое предвосхитило географию ХХ – ХXI вв., и написал статью, которая должна быть признана первым на русском языке концептуальным изложением географических идей эпохи романтизма?
Разобраться в отмеченном парадоксальном несоответствии между тем, какое ограниченное время Гоголь мог посвятить изучению указываемых источников, и тем, в каком солидном объеме новая география была представлена в его статье, – одна из задач предлагаемого здесь исследования. В этом случае можно говорить об интеллектуальной интуиции Гоголя, о которой писал и Семенов-Тян-Шанский, однако она проявилась именно как интеллектуальная – в феноменальном гоголевском чувстве гравитации разрозненных идей, собранных из разных источников и синтезированных до цельной концепции. Чтобы оценить интуицию писателя, следует соотнести выступление Гоголя по вопросам преподавания географии с контекстом географического дискурса в эпоху романтизма – как с местным российским, так и с немецким, в рамках которого вырабатывалась новая парадигма науки. Именно на таком фоне можно понять энтузиазм молодого писателя при открытии для себя совершенно нового горизонта для мышления о мире и ощутить его мощную синтезирующую мысль, по осколкам воссоздающую теорию науки.
87
Статья была подписана «Г. Яновъ». Полная фамилия писателя Гоголь-Яновский.
88
Манн Ю. В. Гоголь. Tруды и дни. С. 218–219.