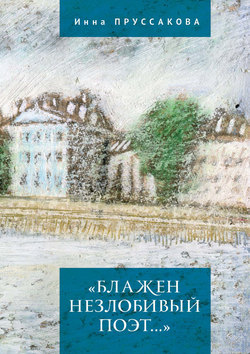Читать книгу «Блажен незлобивый поэт…» - Инна Пруссакова - Страница 3
Статьи
Преодоление поэзией[2]
Б. А. Слуцкий – характер и судьба
ОглавлениеЕвтушенко в запале назвал Слуцкого великим. Ну, с оценками разберутся после. А кое-что уже ясно. Во всяком случае, пора переходить от легенд на почву точного знания. Итак – что же нам известно?
Перед войной Борис Слуцкий водил компанию со студентами ИФЛИ. Кульчицкий, Коган, Майоров, Наровчатов ходили в поэтах, Дезик Самойлов к ним подтягивался. «Мои друзья не верили в меня» – Слуцкий считался недаровитым. Слишком обыкновенный, сдержанный. Это не ценилось. Да и учился он на юридическом. Даже не филолог! А это был семинар Сельвинского, все – в мэтра – голосистые, задиристые, все – без исключения – глядели в гении. И свысока поглядывали на соседний семинар Луговского, где кучковались Симонов, Алигер, Долматовский, Матусовский… Те были попроще, поортодоксальнее, и остались в живых, вышли из войны без таких оглушительных потерь… И все эти ребята, что в сорок первом шли в солдаты, и в гуманисты – в сорок пятом, думали тогда, что они навек вместе… Перед войной Слуцкий ушел с юридического и закончил ИФЛИ вместе с друзьями, но на фронте он стал дознавателем в военном следствии, участвовал в вынесении приговоров. Уходил в строевые части, но его возвращали – его юридические знания были нужнее. Так что он узнал и передний край, и неприглядные кулисы войны. Вернулся – ни кола, ни двора, искал для пропитания место учителя географии в вечерней школе – и не подошел!
О погибшем друге-поэте Кульчицком он написал: «Его кормили. Но кормили – плохо. Его хвалили. Но хвалили – тихо». Он мог бы сказать это о себе. Потому что, хоть его изредка и печатали до войны, это можно зачеркнуть. Предстояло начинать с чистого листа. Но шли годы погрома космополитов, и о печатании думать не приходилось. Инвалид войны, Слуцкий был тощ, рыж и полусыт, как полусытой была в те годы вся творческая интеллигенция, придавленная надраенным сапогом осатанелой власти.
Впервые Слуцкий появился в литературе безымянно. В романе Эренбурга «Буря» стихотворение «Кёльнская яма» приведено в качестве творчества неизвестного узника концлагеря. Эренбург – сам, между прочим, поэт – поверил, что перед ним образчик фольклора! Легче всего объявить, что Эренбург промахнулся, и позлорадствовать. Но не был Эренбург простофилей, кое-что знал о поэзии. Однако грубая вещественность, психологическая, до жестокости, точность были такого качества, какого до Слуцкого в российской словесности не существовало. И не в том же только дело, что Слуцкий видел лагеря, входил за колючую проволоку не после, а тогда, когда над лагерем еще стоял густой запах горелого человечьего мяса и человеческого дерьма. Он видел штабеля трупов и канавы, где под слоем извести белели осколки костей. Но ведь это не он один видел! Война стала его жизнью. Горе стало его плотью и кровью, когда его родных немцы расстреляли на Украине. И кое-что из того, чему его учили прежде, растворилось в чадном дыму крематориев. Пройдя на Восток по дорогам отступления, а потом на Запад путями победы, он подрастерял мистическую веру в коммунистический рай и приобрел знание тайных пружин истории. И уплатил за это. Его солдатская поэзия не стала, однако, поэзией портянок и частушек. «Лежит солдат, в крови лежит, в большой, а жаловаться ни на что не хочет». Суровость была продиктована не бедностью, а богатством пережитого, сдержанность – уважением к чувству, грубоватость – бескомпромиссностью, нежеланием припудрить неприглядную реальность.
Был ли Слуцкий шестидесятником? А стоит ли его зачислять по этому весьма шаткому определению? Аксенов, Евтушенко, Гладилин – и Слуцкий? Нет. Сначала-то были мальчики невиданной революции, люди тридцатых, мечтавшие о земшаре, о победе красного цвета. Потом были удалые ифлийцы, добровольцы еще финской войны, романтики, среди которых автор «Бригантины», вожак и гений Павел Коган, – все наследники Светлова, его «Гренады», романтики по группе крови. Потом были сороковые, роковые – формулу изобрел Самойлов, но наполнил ее содержанием Слуцкий. Роковые! Поколение осознавало себя в грохоте рушащихся городов, в мертвом молчании перепаханной артиллерией земли. Нет, он не был шестидесятником, он родился на этой войне. Он вернулся, – но мир уже ушел дальше, и надо было всему учиться заново. «Когда мы вернулись с войны, я понял, что мы не нужны». А какие бодрые песни тогда пелись! О печатании не было и речи. Надо было ликовать, ликовать, а майор-отставник был другой породы. «Есть кони для войны и для парада».
Для него перелом настал не в пятьдесят шестом, а в пятьдесят третьем. Так может, он пятидесятник? Эренбург протолкнул его подборку в «Литературке», и, Боже мой, что тут началось! Крик, визг, базарная ругань. В чем только его ни обвиняли! Никакая проза не говорила о войне того, что содержалось в его недлинных стихах. Твардовский не печатал его в «Новом мире, чуял чужого. Впрочем, он мало кому был своим – тяжелый, неуступчивый, нахмуренный от вечной головной боли, замечающий то, о чем другой и подумать поленится. Первая книжечка вышла в пятьдесят седьмом. Тощенький сборничек «Память». Все то, о чем только робко начнут говорить после шестидесятого, там уже было. Сухой язык рапортов стаскивал поэтические строчки с небес на землю. Чувство неотвратимости, неотменимости горя витало в книжке. И все же дыхание победы, усталое дыхание победителя слышалось в ней. Крохи оптимизма рассыпаны то там, то здесь, «войну такую выиграли». Да и не забылось еще предвоенное ифлийское братство. Можно без натяжки сказать: эти ифлийские ребята и были лучшим сокровищем России, и она, не глядя, кинула их в пламя, – а что остается на кострище, кроме холодного горького пепла?
Он вырос в бедной еврейской семье, он вступал в комсомол, он строил коммунизм. Он защищал первое в мире государство рабочих и крестьян, он и сам себя ощущал этим рабочим и этим крестьянином: «Я на медную мелочь учился стиху. / На большие бумажки учиться трудней». И в партию он вступил, так же естественно, как в комсомол. Он вырос в этом мире и его полюбил, а некоторые ошибки чертежа реальности в молодости легко считать несущественными. В этих параметрах он – шестидесятник. Но главная трагедия его жизни – еще впереди. Кампания против Пастернака была решена, и возня началась. Твардовский уехал из Москвы, Каверин уехал, кого и не приглашали вовсе, а военюриста второго класса вызвали куда надо и приказали сказать то, что надо. Он ехал в чужой машине на собрание, трясся и поразил водителя сбивавшейся речью, бормотанием и ужасом. И он выступил, и с трибуны громогласно выговорил обожаемому поэту за его грех перед государством, и скомкал речь, и сошел вниз – уже не тем, каким подымался. Остаток дней он провел в сведении счетов с самим собой – счеты не сходились, и Слуцкий заболел. От контузии у него болела голова, а теперь заболела душа. Он сам ее ранил – смертельно.
Так шестидесятник он или нет? И стоит ли вообще заталкивать человеческое существо в ту или иную категорию, формулу, класс? Можно только сказать, что эпоха проехалась по нему с особой изощренностью. Ему выпало быть и судьей, и судимым: и самострелов на фронте он не жалел, и себя самого осудил без снисхождения. Но он сделал это для них – и они ему заплатили. Потому что дальнейшая писательская судьба Слуцкого складывается по виду вполне благополучно. Книги выходят одна за другой, а что не могло быть напечатано, то легко расходится в самиздате. Но вот чего не было, того не было, – не знал он эстрадного успеха, ему не рукоплескала толпа, у него не было роя поклонниц, и гул дискуссий не возникал за его спиной. Громкой славы не случилось, случилась нелегкая жизнь настоящего художника. Но для себя Слуцкий не исчерпывал свою жизнь только поэзией. А человек он был очень здешний, очень имел свою долю во всем, что происходило. Не небожитель, как Пастернак, не юродивый, как Мандельштам, он бы не мог жить птицей небесной и всегда отлично знал, какое нынче тысячелетье, какой день, и час, и минута. И знал, что он, фронтовой офицер, струсил. И знал, чего убоялся, – страшней бомб и штыков был призрак социального изгойства.
Слуцкий неповторим как поэт. И типичен как человек сломленный, раздавленный изощренной бесчеловечностью нашей советской действительности. Не похож он на жертву, ни молодой и рыжий, ни отяжелевший и седой. Вот и цедят сквозь губу: «Слуцкий – ангажированный поэт! Это не настоящее искусство!» Ах, как трудно отличить золото от незолота! Ах, как любили Бенедиктова, ах, как зачитывались эпопеями Симонова, как лелеяли Евтушенко!
Ну да, он был шестидесятником – он долго верил в победу светлых идеалов коммунизма. Но это он написал первым: «Мы все ходили под Богом, у Бога под самым боком»… И он довольно скоро понял, что таких, как он, хозяева не любят. И он принес с войны свое четкое понимание того, что нет ничего выше человека. «Социализм был выстроен. Поселим в нем людей». Симонов был поэтом привилегий, он видел войну с генеральской точки зрения. Более поздняя лейтенантская проза – теперь это видно – не принесла в литературу особых побед. А вот майор Слуцкий, как ни странно, стал поэтом солдатским. У него даже итальянец толкал машины – будь здоров! Его герои – политруки, пехотинцы. Его война – это растоптанные кирзачи, махорка, трупы на обочине, это окопы и обозы, а не парады и награды. И послевоенный Слуцкий знает, чем плачено за возвращение: «Вы не были в районной бане? Там три рубля любой билет». Он читает следы геройства по шрамам и рубцам, а не по орденским колодкам и прямо заявляет, что он бы лично шрамам больше доверял.
Он, наверно, никогда не ощущал себя по ведомству Аполлона. Он скрупулезно ведет счет своим сокровищам, а мифы и легенды смахивает в мусор. И идеализм его (а он, поэт, несомненно идеалист) достигается с помощью не близорукости, не расплывчатости, а, напротив, – безжалостного вглядывания, трезвого умения смотреть в лицо истине: «Мира, каким он должен быть, не было никогда». Он решил обосноваться в мире таком, какой есть, и помогать словом людям таким, какие есть.
Слуцкому вовсе не надо рядить человечество в белые одежды, чтобы его любить. Он даже догадывается, что сама-то жизнь – великая предательница: «Я строю на песке, а тот песок еще недавно мне скалой казался». Фома неверующий – с ним поэт себя идентифицирует – не верил самому Иисусу и влагал персты в раны от гвоздей, чтоб удостовериться, что действительно сын Божий выстрадал земные муки. Вот и у Слуцкого есть горькие стихи об этом Фоме, который бормочет: «Всё пропаганда. Весь мир пропаганда»… И даже то, что лошади едят овес и сено, – и то пропаганда, потому что в тридцать третьем на Украине лошади не ели овес и сено, они не ели ничего, пишет поэт задолго, о как задолго до эпохи разрешенной гласности! Но, может, среди апостолов Фома был самый честный – со своим детским упрямством, неверием в провозглашенные и одобренные истины? В отличие от Фомы, поэта Слуцкого не осенял дух, снисходя к нему с горних высот, он добывал свою истину трудом и потом, тяжко она ему давалась, честно он за нее платил. Он служил советской власти, покуда верил в нее, но он задолго до первых кающихся написал: «И ежели ошибочка была – / Вину и на себя я принимаю»,
Слуцкий не писал о любви. Не писал о возлюбленной, о любимой. Только под конец жизни вслед умершей жене написал горькие свои признания, да еще было у него стихотворение «Ключ» – о холостяцкой комнате, куда приводят подруг на часок. Эта застегнутость, эта суровость по отношению к себе, эта боязнь сентиментальности у Слуцкого вытекает из основ, из нерушимых понятий о том, что должно и что не должно. Пусть мир не таков, каким должен быть, но майор Слуцкий будет таким, каким он должен! Хоть трава не расти! Странно все это сочетается с пастернаковской историей, однако – сочетается. Если б апостол Петр не отрекся от Спасителя, как бы мы узнали, что и святые – люди? И Слуцкий писал не о женщинах, а о русских бабах, обездоленных войнами, трудом и всей-то нашей жизнью, писал о военных вдовах, о вековухах войны, о той, которая сына рожает, – белесого, точно отец! Не о тех женщинах он думал, которых любят, которых лелеют, не о желанных, не о счастливых, нет, о тех, о которых обычно не пишут и не вспоминают. А вот он их видел, он о них болел душою! Это вечная боль воинственной России – ее одинокие, молча вянущие бабы. А кто до Слуцкого коснулся ее – так чисто, так смиренно? Никто. В сущности, ведь наша литература весьма недемократична, и не только в былые годы любовь к народу была декларативна, народ вообще любить куда как удобнее, чем просто людей. Слуцкий не декларировал, не возглашал любовь, он просто любил. Любил то, что есть, а не требовал небывалых красот. Тут на потребу было – что есть, и не от трезвости только, еще – от осознания себя среди таких же – равным.
Смирение. Забытое слово, и, кажется, не очень-то это понятие подходит строптивому, едкому, грубому Слуцкому. Но смирение – это и есть осознание себя в мире, ощущение своего места в нем – без запроса, с пониманием истинного положения вещей.
Смирение. Суровость. До аскезы, до отказа от всяких тропов, от метафор, от сравнений, от любого украшения языка. И при этом – темперамент проповедника, учительство, учительство не в смысле поучения, а в смысле выполнения тяжкого долга – немедленно передать в другие руки каждую добытую пылинку правды. Суровость не мешала иронии: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне». Казалось, просто шутка, получилось – и правда – «дело в мировом законе», Остроумный, но скорее хмурый, чем веселый; великий мастер использовать канцеляризмы всех сортов, и при этом – юношески влюбленный в Пушкина; любитель острых углов, сознательно непричесанной речи – и враг модных новаций, Слуцкий полон противоречий, но в конгломерате они дают совершенно неожиданное и нерасторжимое целое. Все не так, не как у людей:
Эта штука сильнее «Фауста»:
не понравиться. Позабавиться
не любовью, а злобой к себе.
Эта штука равна судьбе.
И то сказать: судьба. Но ведь сначала-то – характер, сначала корешки, а потом вершки! Коренные свойства натуры – это и есть фундамент подлинной поэзии. То, чего не спрячешь, не исказишь. Да, вот он такой, и неудивительно, что врагов наживал со скоростью света. На фоне победных реляций и лирических слюней он и впрямь был беззаконной кометой. Ему и за гробом нет прощенья: он вывел на орбиту Куняева – ну, бывают промахи, кому не хочется в нескладном пареньке провидеть будущего Лермонтова! А Лермонтов не вышел, вышел сутулый деятель «Памяти», и льет на могилу своего учителя черный яд расистских измышлений, не успокоится никак.
Слуцкий – очень неклассический поэт. Это лежит глубже, чем эстетические принципы, это и есть судьба, суть. Корявыми, негнущимися словами очерчивается эта суть:
Если вас когда-нибудь били ногами —
вы не забудете, как ими бьют:
выдует навсегда сквозняками
все мировое тепло и уют.
Да, после Освенцима в мире маловато осталось тепла, и Слуцкий леденящее дуновение уловил чуточку раньше других, и в его вселенной ни намека нет на уют. Разруха, тихое, спокойное, уверенное отчаяние – словно он исхитрился заглянуть туда, за край, завернув кромку мирового пространства:
Это не беда.
А что беда?
Новостей не будет. Никогда.
И плохих не будет?
И плохих.
Никогда не будет. Никаких.
А раз оно так, то надо определиться здесь. Размежеваться. Объявиться. Вот он, бунт плебея против самых заслуженных привилегий, против любых:
Не люблю надменности поэтической,
может быть, эстетической,
вряд ли этической.
Поэзия для него – не пропуск на небеса, не знак избранничества, она – его одна ипостась, но есть и другая. И еще неизвестно, к какой он больше привязан: он человек Дела, пожалуй, прежде еще, чем Слова.
Неужели сто или двести строк,
те, которым нескоро выйдет срок, —
это я, те два или три стиха
в хрестоматии – это я,
А моя жена и моя семья —
шелуха, чепуха, труха?
.
Я топил лошадей и людей спасал,
ордена получал за то,
а потом на досуге всё описал.
Ну и что,
ну и что,
ну и что!
Он против лавровых венков. Он даже может в запале выкрикнуть: на досуге! Как будто был этот досуг, именно досуг! Он не желает возвышать поэтов. Он – против их особости. С бешеной гордостью восстает он на традицию, которая склонна отпускать ему грехи как некоему представителю надмирности, как посланнику Слова. Негармоническая личность.
Негармонический, не умиротворенный, не примирившийся и не примиряющий ни с чем, Слуцкий имел мужество быть самим собой, никогда от себя не отказываться и остаться ни на кого не похожим в большой книге русской поэзии, которую он любил так стыдливо и истово – до конца.