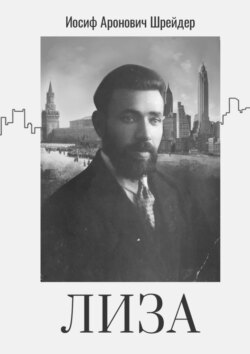Читать книгу Лиза - Иосиф Аронович Шрейдер - Страница 10
VI
ОглавлениеВ условленный вечер Лиза пришла к памятнику Пушкину с небольшим опозданием. Хотя было очень тепло, у неё через руку было перекинуто летнее пальто. Я усмехнулся.
– Чему ты усмехаешься? – спросила Лиза.
– Твоей предусмотрительности, – кивнул я на пальто. – Ты мне всё-таки не доверяешь.
– Совсем не в этом дело, – покраснела Лиза. – Может стать прохладно, а сидеть так, как в прошлый раз, не совсем прилично. Не забывай, что я всё же мать семейства…
– Это как раз я и забываю. Никак не могу привыкнуть к этой мысли, мне всегда требуется какое-то усилие, чтобы вспомнить об этом. Так куда же мы сегодня направимся?
Лиза огляделась и сказала:
– На бульваре так хорошо, и я была бы не против посидеть здесь… признаюсь, в прошлый раз я сильно устала, да и рассказывать тебе будет лучше. Я настроилась сегодня только слушать.
– Пусть будет по-твоему… поищем укромное местечко.
Вскоре мы нашли незанятую скамейку и сели.
– Так, с чего начать? – спросил я.
– С самого начала! – улыбнулась Лиза.
– Легко сказать, с самого начала… Ну хорошо! – И, немного подумав, я начал свой рассказ.
– До пятого класса гимназии я мало чем отличался от того мальчика, каким ты меня знала в детстве. Был я способным учеником и примерного поведения. Правда, звёзд с неба я не хватал, но по успеваемости с пятого по седьмое места были мои, а если учесть, что в классе было тридцать – тридцать пять учеников, то это совсем не плохо. Словом, я был таким учеником, которого ставят в пример и учителя, и родители. Это, конечно, мне льстило. Само собой разумеется, в то время гимназистки для меня не существовали, а если и существовали, то как нечто от меня не зависящее, с чем волей-неволей приходится мириться.
Но вот в пятом классе, совершенно неожиданно, во мне произошло, если выразиться образно, что-то похожее на дворцовый переворот. Я влюбился, до самых высших пределов обожания, в гимназистку шестого класса Сару Саражинскую – её так и звали «Сара-Сара», конечно, мне незнакомую. Тебе не трудно догадаться, что она была самая красивая во всей гимназии. Она была светлой блондинкой, чуть выше среднего роста, с почти оформившейся фигурой и жизнерадостным прекрасным лицом. Восьмиклассники, а они почти взрослые дяди, наперебой за ней ухаживали. Моё обожание к ней достигло той степени, когда я уж ни минуты не мог, чтобы о ней не думать. Я перестал даже готовить уроки. Моё обожание было настолько велико, что у меня даже не являлось желания с ней познакомиться. Мне было достаточно, если представлялась возможность лишний раз взглянуть на неё.
Всё стало наоборот. Раньше на гимназических вечерах и спектаклях мне больше по душе было действие, и я не выносил длинных антрактов; теперь я дожидался антрактов с вожделенным нетерпением, и чем антракты были длинней, тем я больше радовался, так как, прогуливаясь по длинному гимназическому коридору, я имел возможность лишний раз взглянуть на свою избранницу. Вечера танцев, которые раньше для меня не имели никакого значения, и я их не посещал, теперь стали самыми привлекательными, потому что весь вечер ничто не мешало мне не сводить с неё глаз. Я даже вступил в танцевальный кружок и начал учиться танцам, в тайной надежде, что когда-нибудь решусь пригласить её.
Всё это было моей тайной, никому не ведомой. Мои успехи в школьных занятиях круто покатились под гору. Но что самое странное, я и теперь не могу себе этого объяснить: несмотря на переживаемые мною возвышенные, чистые, никогда не испытанные чувства, в классе, неожиданно для всех, я стал самым заядлым озорником и заводилой.
Я не любил глупого озорства: подложить что-нибудь на стул преподавателю, выморозить класс перед его приходом, зажечь вонючую тряпку, чтобы пахло палёным, или вымочить классную доску, чтобы на ней нельзя было писать мелом. Я предпочитал заводить с преподавателями словесные поединки, причём остроумные и на такой грани, что класс грохал от смеха, а преподаватель хотя и понимал, что он допускает какую-то оплошность, но повода придраться не имел, тем более что ранее я всегда был примерным учеником.
Вскоре моя, с позволения сказать, слава стала предметом обсуждения не только в учительской, но и в городе. В это же время я увлёкся бильярдом, что было для гимназистов строжайше запрещено, а значит и более заманчиво, так как надо было быть изобретательным, чтобы не попасться на глаза надзирателю или преподавателям. Я начал курить. Как это всё уживалось с тем чувством возвышенного обожания, которым так переполнено моё сердце, – одному богу известно, в которого, кстати, в это время я перестал верить. Ложился я спать – думал о ней, в надежде, что завтра увижу её, просыпался утром с радостью и благодарностью, что она живёт.
Но этой любви пришёл внезапный трагический конец. Любящее сердце способно предчувствовать. Незадолго до трагического события я как-то стоял на балу позади Сары. Меня поразила необычайная белизна её шеи. Подсознательно мне показалось: такую белизну накладывает на юность смерть. Как бы невероятной ни показалась подобная мысль, сердце защемило невыразимой тоской. Увы, это было ясновидение.
Сара каталась на катке, простудилась и буквально в несколько дней сгорела. Её трагической кончиной был ошеломлён весь город. Она была, это можно сказать без преувеличения, всеобщей любимицей. За её гробом шли не только все гимназисты и гимназистки, но и много другого народа.
Не подозревая, она унесла с собой в могилу мою первую, большую, кристально чистую любовь. Вот когда первый раз мир для меня опустел, лишился радостных красок, потускнел. В сердце образовалась такая пустота, которую я ощущал почти физически, пустота, приносившая невыносимое страдание. Это продолжалось долго. Но мне было пятнадцать лет. Инстинкт жизни подсказал, что пустота должна быть заполнена, иначе сердце сожмётся, превратится в сморщенный чёрствый комок. И тут появилась Зиночка Мерш, красивая шатенка с тёмно-синими глазами. С ней всё было иначе. Это тоже была платоническая любовь, но не на расстоянии. С ней я танцевал и много гулял, и даже были робкие крепкие поцелуи. Продолжалась эта любовь недолго и кончилась безболезненно, сама собой. Было ещё несколько увлечений, удачных и неудачных, но увлекался я, как правило, только хорошенькими девочками, и притом такими, у которых были поклонники.
В то же время моя озорная слава росла. Уроков я почти не учил, довольствовался тем, что слушал в классе. О моих проделках в городе даже начали ходить анекдоты, зачастую преувеличенные. Дело дошло до того, что в седьмом классе (это было при Колчаке) был поставлен вопрос о моём исключении из гимназии, но посчитались с тем, что у меня незадолго до этого умер отец и для большой семьи, в которой я был старшим, это будет сильным ударом, и ограничились, в качестве профилактической меры, исключением на шесть недель.
Вскоре в городе была восстановлена советская власть. Гимназия была реорганизована в семиклассную единую трудовую школу, которую с грехом пополам закончил. Летом я уехал в Томск и поступил в университет. Сначала я избрал медицинский факультет, но, попав в анатомический музей, испугался вони и трупов, перевёлся на факультет общественных наук на правовое отделение.
Осенью, перед началом занятий, всех студентов мобилизовали на проведение Всероссийской переписи. Я был включен в группу, которая должна была направиться в Омскую область. В эту группу попала совсем юная студентка Оля Шуппе, с которой у меня возникла первая настоящая любовь. Возникла эта любовь при совершенно необыкновенных обстоятельствах, закончилась пощёчиной, единственной в моей жизни, которая, наверное, долго будет гореть на моей щеке. Но об этом рассказывать долго, – вздохнул я.
– Расскажи, пожалуйста, – чуть не взмолилась Лиза. – Это же очень интересно!
– Нет, об этом рассказывать нужно долго, пожалуй, не хватит и целого вечера. Если захочешь, я с удовольствием расскажу эту историю в следующий раз. В одном могу тебя заверить, я не позволил ничего оскорбительного по отношению к ней. Я проявил неосторожность, рассказав сон, главной участницей которого была Оля. Ей всё пересказали в извращённом виде, и она восприняла это как невыразимую пошлость, грязь и немыслимое оскорбление своей любви.
С переписи я вернулся, в полном смысле этого слова, с разбитым сердцем, охваченным тоской и мучительными думами об Оле. С таким настроением я и приступил к занятиям в университете, к которым так стремился. Олю я, конечно, встречал и в университете, и на лекциях, но она, очевидно, обладала твёрдым характером: я ни разу не заметил, чтобы она посмотрела в мою сторону. Подойти к ней объясниться я так никогда и не решился.
Учение шло с пятого на десятое. Нас часто отвлекали на заготовки дров для университета и многие другие физические работы. С этим ещё можно было бы мириться, мы были молоды, тяжелее было переносить голод. Студенты получали паёк, фунт хлеба и обед. Обед состоял из супа с мороженой картошкой, а на второе – мясные котлеты, большей частью с душком, с гарниром из немолотой пшеницы. В изобилии был только красный перец, которым мы усердно сдабривали и душок котлеты, и однообразие гарнира. Хлеб и обед проглатывались с необыкновенной быстротой и попадали в желудок, словно в бездонную яму. Сытости никакой, только горло першило и горело от перца. Голод давал себя знать в самые неподходящие моменты. Сидишь на лекции или читаешь в университетской библиотеке – и вдруг ловишь себя на том, что думаешь не о предмете, а обо всех кусках хлеба, какие ты не доел в своей жизни. Но всё же жили весело: танцы, вечера, студенческие диспуты не пропускались. Устраивались и студенческие вечеринки с угощением, которое приобреталось вскладчину. Угощение состояло из ржаных пирожков с начинкой из конского мяса, запивалось морковным чаем с кусочком глюкозы. Нельзя сказать, что мы облизывались от удовольствия, но съедалось всё с отменным аппетитом и приправлялось остроумными и веселыми шутками. Зачёты с трудом, но сдавали, и, пожалуй, не столько благодаря приобретенным знаниям, сколько либеральному отношению к нам профессоров.
Весной моё внимание обратила на себя одна студентка лет двадцати трёх. Обратила она моё внимание тем, что её часто можно было видеть в окружении студенческого начальства (тогда ключевые посты занимали студенты-партийцы, в большинстве тридцати—тридцатипятилетние), и тем, что её внешность резко бросалась в глаза, она выделялась из массы студенток.
Я не подозревал, что это женщина сыграет в моей жизни значительную роль. Внешность её, безусловно, заслуживает описания. Среднего роста, светло-рыжая, с причёской, которую, кажется, носили в первой половине девятнадцатого века, расчесанной на прямой пробор и спущенными по бокам длинными, кольцеобразными буклями, круглое полное лицо, поражающее свежестью кожи и нежным розовато-белым цветом, свойственным рыжим женщинам. Красиво очерченная алебастрового оттенка шея, высокая грудь, тонкая талия, подчеркивающая прекрасные бёдра, стройные красивой формы, чуть полные ноги невольно заставляли с восхищением её рассматривать. Она была бы настоящим совершенством, если бы природа, исчерпав все краски, не наградила её круглыми, кошачьими, водянисто- зеленоватого цвета глазами и чуть широким тонкогубым ртом, обнажающим при улыбке хищные мелкие зубы. Её фигура была так совершенна, линии настолько выпукло чётки и гармоничны, я почти не сомневался, что она носит корсет.
Насколько её фигура не могла не восхищать, настолько её лицо казалось мне непривлекательным. Эта дисгармония заставляла меня разглядывать её с каким-то смешанным чувством восхищения, удивления и разочарования. Хотел бы я знать, как это чувство выражалось на моём лице, но, очевидно, выражалось так, что не могло не бросаться в глаза. Помимо своей воли я разглядывал её упорно, забывая, что это неприлично и что такое разглядывание может быть ей неприятным. Я не замечал за собой того, что мог бы заметить и слепой, а тем более женщина, которую так рассматривают.
Хотя мне было уже двадцать лет, я ещё был целомудренным юношей и не знал, что женщина, даже потупившая глаза, видит сквозь закрытые веки, если это ей необходимо, не хуже, чем с открытыми глазами. По некоторым признакам, мне стало понятно, что ей известно то, как я её осматриваю, хотя она не обращала на меня никакого внимания и не смотрела в мою сторону. Её спутники часто поглядывали на меня с ехидными усмешками. Ясно, она обратила внимание на моё поведение. Я это хорошо понимал, но так как, кроме её внешности, ничто больше меня в ней не интересовало, у меня не возникало желания ни с ней познакомиться, ни навести о ней справки, я не обращал на их усмешки внимания.
Разглядывать я её продолжал с прежним упорством. Во мне как будто проснулся художник. В своём воображении я переделывал её лицо, делая его чуть удлинённым, её причёску преображал в классическую, награждал большими тёмно-синими блестящими и удлинёнными глазами, наделял её красивой формы ртом, с идеально очерченной верхней губой и немного утолщённой нижней. Тогда перед моим мысленным взором предстала настоящая, ожившая небожительница, накинувшая на себя современное платье.
По какому-то совпадению, два-три раза в неделю, в определённый час, наши пути скрещивались в глухом переулке, образуемом двумя длинными высокими заборами, за которыми были сады. Появлялись мы с противоположных концов и сразу замечали друг друга. Приближаясь, она опускала лицо вниз, я же устремлял на неё, как обычно, свой упорный взгляд. При встрече на узком деревянном тротуаре, слегка повернувшись боком и лицами в противоположные стороны, мы молча расходились. Иногда в эти моменты я успевал заметить на её лице едва уловимую ухмылку. Такие встречи продолжались несколько недель.
Однажды, когда мы должны были при встрече, как обычно, вполоборота разойтись, она подняла лицо, взглянула мне в глаза и приветливо улыбнулась. Это было столь неожиданным, что я мгновенно вспыхнул огнём, споткнулся, чуть не полетел с тротуара в канаву и только огромным усилием воли удержал себя от того, чтобы не броситься бежать. Всё это произошло в единый миг. Мы прошли как обычно, но я почувствовал себя невыносимо скверно. «Хватит, – решил я, – пора прекратить эту неумную игру, никто не обязывает меня ходить именно этим переулком». Я не представлял, как я могу теперь с ней встретиться, после этой улыбки и того, как я на неё среагировал. Я изменил свой маршрут. В университете я тоже стал избегать тех мест, в которых встреча с ней могла бы оказаться возможной. Вскоре всю эту историю я выбросил из головы.
Жил я тогда в комнате совместно с двумя студентами, в которую переехал сравнительно недавно. О причине переезда стоит сказать несколько слов. До переезда мы с моим однокашником по Троицкой гимназии Яшкой Чекрызовым снимали небольшую уютную комнату у домовладельца, сдававшего в своём доме три-четыре комнаты студентам. Хозяева были бездетными, он пожилой, огромного роста, коренастый, свирепого вида. Хозяйка была полной его противоположностью: небольшого роста, хрупкая, добродушная и приветливая. Они держали корову и несколько коз. Вход в дом был со двора. Калитка находилась всегда на цепи, приоткрывалась на полметра, и для того, чтобы пройти, нужно было сгибаться в три погибели под цепь. Спать хозяева ложились аккуратно в десять часов вечера и запирали калитку на засов от ворот. Когда мы приходили позже, для того чтобы попасть домой, приходилось стучать в окна комнаты хозяев, выходившие на улицу. Было очень неудобно беспокоить спящих людей, а возвращаться домой до десяти часов нас тоже не устраивало, это значило бы отказаться от танцевальных вечеров, студенческих вечеринок и других развлечений. На наше несчастье, остальные студенты и курсистки были зубрилами и возвращались домой всегда вовремя. Мы с Яшкой оказывались вроде как на особом положении. Когда мы возвращались поздно, большей частью нам открывал калитку хозяин. Делал он это молча, но с таким свирепым видом, что нас буквально продирал мороз по коже и все слова, приготовленные для оправдания, замирали у нас на губах. Вид у хозяина, когда он открывал нам калитку, действительно был чудовищный. Без того высокий, с надвинутой на брови высоченной папахой, накинутым на плечи необъятным тулупом, ногами в широченных полосатых подштанниках, заправленных в колоссальные валенки, он превращался в наших глазах в разбойника-великана: вот-вот огреет тебя своей огромной лапищей. Перед таким немыслимым верзилой нужно было согнуться чуть не пополам, чтобы пролезть в калитку под цепью. Приходили мы в себя от пережитого ужаса, только очутившись в комнате, и то не сразу. Когда нам открывала хозяйка, мы сразу вздыхали с облегчением, потому что на все наши оправдания и извинения она неизменно с добродушной улыбкой отвечала: «Не беспокойтесь, милые! Нешто я не понимаю. Сама была молодая».
Всё же хозяин нагонял на нас такой ужас, и мы себя чувствовали настолько унизительно, пролезая под уничтожающим взглядом хозяина в злополучную калитку, что мы даже пробовали отказываться от всяких развлечений, чтобы этого не испытывать. Но молодость брала своё, проходило некоторое время, и мы возвращались к старому. Необходимость возвращения домой отравляла нам и танцевальные вечера, и студенческие вечеринки. Смутная тень нашего хозяина, свирепо открывающего нам калитку, маячила в нашем сознании даже в самые восторженные минуты.
Дело начало доходить до анекдотов. Когда мы возвращались поздно, мы всю дорогу молили Бога или провидение, чтобы нам открыла хозяйка. Подойдя к дому, несмотря на мороз, мы долго торговались, кому постучать в окно. Наш страх был так велик, что мы забывали, что в замороженное окно не видно, кто стучит. Наконец кто-нибудь из нас решался постучать, и тогда начиналась новая торговля, кому первому пролезать в калитку. Каждому хотелось миновать калитку первым, чтобы не чувствовать за спиной возвращающегося хозяина.
– Никогда не представляла, что студентам приходится так мучиться! – засмеялась Лиза.
– Тебе смешно, а каково было нам! – ответил я, с обидой глядя на Лизу, находясь ещё под впечатлением когда-то пережитого.
– Я вам сочувствую! Но как представлю ваши «героические» фигуры, невольно становится смешно. Продолжай, пожалуйста!
– В один прекрасный день мы с Яшкой решили: хватит с нас этих представлений с тихим ужасом и связанных с ними переживаний. Решили поискать другую комнату и приступили к поискам. Отдельную комнату подыскать не удалось, но разные комнаты, совместно с другими студентами, нашли.
В комнате, в которой я поселился, помещались хозяйский сын и студент-медик из Верхнеуральска, Осип Неизвестный, такая у него была фамилия. Это был статный парень, года на два или три старше меня, жгучий брюнет, обладатель смазливой физиономии, которая так нравится девушкам. Одет он был, по тем временам, почти шикарно; хорошего сукна, полувоенного покроя френч, всегда чистая сорочка, галстук, тёмно-синее галифе, до блеска начищенные шевровые сапоги. Кроме этого, он обладал и другим разнообразным гардеробом. Он был сыном состоятельных родителей и какими-то неведомыми путями часто получал из дома посылки. Правда, в комнату эти посылки он никогда не приносил.
Три односпальные железные кровати, длинный стол посередине, несколько стульев, стоявшая у двери тумба с граммофонными пластинками и граммофоном с большой яркой зелёной трубой составляли скромную обстановку нашей комнаты.
Жили мы дружно. Неизвестный раза два в неделю дома не ночевал. По этому поводу мы с хозяйским сыном подшучивали над ним, утверждая, что он завёл себе какую-нибудь томичку и боится нам показать, чтобы мы её у него не отбили. Неизвестный по обыкновению на наши шутки отмалчивался, углублялся в книгу или выходил из комнаты. Заметили мы за ним ещё одно. На следующий день после того, как он не ночевал дома, он часто был в мрачном и раздраженном настроении.
Однажды, когда мы над ним особенно настойчиво подшучивали, Неизвестный не вытерпел, рассердился и закричал на нас: «Хватит! Довольно! Надоели мне ваши дурацкие шутки! Никакой у меня томички нет! Я женат, и у меня есть дочка, ей скоро годик исполнится».
Лиза, мне, конечно, не нужно тебе говорить, что с нами произошло, когда мы это услышали. Мы превратились в библейские соляные столбы и уставились на Неизвестного вытаращенными глазами.
– Ну, что вы на меня уставились, как бараны на новые ворота? Даже рты разинули. Вы никогда не видели женатого человека?
– Послушай, Аська! – обрел я наконец дар речи. – Женатый человек, конечно, не диво… Но как же так, ты никогда не говорил об этом ни слова, а самое главное – почему не живёшь вместе с женой?
– Попробуй поживи с ней! – И он безнадежно махнул рукой.
– А что значит «попробуй»? – продолжал я удивляться.
– А то и значит! Она у меня не совсем нормальная.
– Час от часу не легче! Больная, что ли?
– Хуже! Она признаёт только современный брак.
– Какой ещё современный брак?
– Чёрт его знает, какой! – раздражённо ответил Неизвестный. – Она считает непроходимым мещанством, если муж и жена живут вместе, это же посягательство на свободу личности. По её мнению, муж и жена должны жить на отдельных квартирах, встречаться в определённые дни и ночи…
– Ну и ну! – не выдержал хозяйский сын. – Вот это бабочка! Придись на меня, я бы такую жену в бараний рог согнул.
– Как же, согнёшь её! Она сама кого хочешь согнёт!
– Да… – протянул я. – Скажи, Аська, ты её сильно любишь?
– В том-то и беда… Она делает со мной всё что захочет.
– А тебя она любит?
– Наверно! Иначе не вышла бы за меня замуж…
– Значит, не находите общего языка?
– Она признаёт только свой язык!
– Знаешь, Аська, интересно было бы с ней познакомиться, посмотреть, что это за чудо.
– Это можно устроить. Жена сама проявляет желание. Ей, видишь ли, интересно, в каком окружении проживает её дорогой муженёк.
Прошло несколько дней. Весна в этом году была ранняя и на редкость тёплая. Все ходили в летней одежде. Готовился, не помню по какому случаю, торжественный студенческий вечер. Накануне Неизвестный, возвратясь домой, сказал мне:
– Меня назначили одним из администраторов вечера, кроме того, я не танцую, поэтому на этот вечер я предложил жене в качестве кавалера твою кандидатуру. Она охотно согласилась.
– Напрасно! – не выразил я никакого восторга. – Следовало сначала заручиться моим согласием. Я твоей жены ни разу в глаза не видел. Мне один раз пришлось быть кавалером чужой жены, и этот случай запомнился на всю жизнь…
– Какой ещё случай? – спросил Неизвестный, удивляясь моей несговорчивости.
– Я был ещё гимназистом. На одном балу, перед началом очередного вальса, подходит ко мне щупленький мужчина с дородной дамой под руку, раза в полтора выше его, а в объёме и того больше, и обращается: «Молодой человек, будьте любезны, пригласите мою жену на вальс». Я обомлел. До сегодняшнего дня не пойму, как я согласился…
– Воображаю, какой изумительной парой вы были! – расхохоталась Лиза.
– Это я тогда отчетливо себе представлял. Не помню, как уж я протащил её два круга, поблагодарил и тотчас же ушёл с бала. Долго ещё я был мишенью для насмешек у своих товарищей. Это мне так запомнилось, что избави меня Бог со всем сонмом своих архангелов, чтобы со мной что-либо подобное повторилось.
– За кого же ты мою жену принимаешь? – обиделся Неизвестный. – С ней каждый за честь сочтёт танцевать, лишь бы она согласилась.
– А ты не преувеличиваешь? – спросил я, всё ещё не доверяя.
– Нисколько! Сам в этом убедишься!
– Ну, чёрт с тобой, согласен… только из уважения к тебе.
За полчаса до начала вечера мы с хозяйским сыном, уже приготовившиеся и прифрантившиеся, ждали жену Неизвестного, которая должна была за нами зайти. Неизвестный, как администратор, ушёл раньше. Мой товарищ сидел за столом и углубился в решение шахматной задачи. Я стоял у двери и от нечего делать крутил пластинки на граммофоне. Раздался энергичный стук в дверь. Я свободной рукой приоткрыл дверь и замер.
– Вы?!
– Вы?! – воскликнули мы одновременно.
В дверях стояла одетая в красивое, с низким вырезом, платье, плотно облегающее фигуру, моя рыжая небожительница, с которой я так нелепо встречался. Я стоял без движения в необычайном изумлении и успел только заметить, что и мой товарищ стоит и смотрит на неё глазами, чуть не вылезающими из орбит. Сколько продолжалась эта немая цена – секунду, две, три, больше… Первой заулыбалась и заговорила наша гостья:
– Давайте знакомиться! Вы, конечно, Ося, – протянула она мне руку. – Ну а вы – Валентин, – подошла она к товарищу. – А я Лаура!
«Чёрт, и имечко тоже», – пронеслось в мозгу.
– Тебе не скучно? – спросил я Лизу, спохватившись, что ей может быть неинтересно то, что я рассказываю.
– Что ты! Что ты! Я слушаю с большим интересом. Для меня это всё так необычно. Ты хорошо рассказываешь, продолжай, пожалуйста, продолжай, – попросила Лиза.
– Итак, Ося, – обратилась ко мне Лаура, – вам предназначено быть на сегодняшнем вечере моим чичисбеем. Надеюсь, вы ничего не имеете против?
Я церемонно поклонился и сказал:
– К вашим услугам!
– При взгляде на вас мне почему-то кажется, что вряд ли вы хорошо танцуете, – усмехнулась Лаура.
– Это легко проверить! – и, больше ни слова не говоря, я подошёл к тумбе, разыскал пластинку с вальсом «Белая берёза» и завёл граммофон. Валентин мигом отодвинул стол и убрал стулья.
Я окинул Лауру взглядом. Меня снова поразила своей красотой её высокая грудь, даже ткань не могла скрыть её идеальной формы. Существуют на свете вещи, которые невольно привлекают, чтобы их трогали руками. Такое ощущение во мне вызывала её грудь. Заранее оговариваюсь, что прикасаться к этой груди руками мне не пришлось. В удовольствии ощутить её грудь своею я решил себе не отказывать. Я подошёл к ней и поклонился: «Прошу!» Она положила руку мне на плечо, я взял её за талию, вплотную крепко привлёк к себе и закружил в вальсе. Я был уверен, что моя рука ощутит корсет, но мои пальцы ощущали упругое тело. Лаура удивлённо взглянула на меня и сказала:
– Вы очень хорошо танцуете.
– В гимназии у нас был неплохой преподаватель танцев. Вам же лишний повод – не делать скороспелых выводов и не поддаваться первым впечатлениям…
– С большим удовольствием признаюсь в своём заблуждении. Однако нам нужно торопиться, – сказала она, высвобождаясь из моих объятий. – А вы танцуете? – обратилась она к Валентину.
– К сожалению, не танцую. Но не прочь бы поучиться.
– Что же, могу давать уроки. Давайте, коллеги, всё же поторопимся.
Мы вышли на улицу. Лаура взяла меня под руку.
– Не правда ли, наши встречи с вами были оригинальными?
– Мне кажется, вы их не замечали.
– Это вам кажется. Я всё замечала. Меня они очень забавляли… Кстати, почему вы перестали ходить этим переулком?
Я пробормотал что-то невнятное. Не объяснять же ей, как я при последней встрече едва не полетел в канаву и чуть не бросился бежать.
Весь вечер она танцевала со мной. Всем приглашавшим её она отказывала, делая иногда исключение, если её приглашал какой-нибудь знакомый из студенческого начальства. Танцевать с ней было одно удовольствие. Ощущение её упругого, как-то по-особенному выпуклого тела пьянило и возбуждало, но глядеть ей в лицо я избегал. Я никак не мог ей простить ни её глаз, ни её рта, ни её мелких, казалось мне, хищных зубов. На любом другом лице, возможно, все эти детали и не замечались бы, но на её лице всё это необъяснимо меня оскорбляло, и я никак не мог отделаться от этого ощущения.
Лаура оказалась умной, интересной и очень остроумной собеседницей. Я совсем не заметил, как вечер подошёл к концу.
– Послушайте Ося, я хорошо провела с вами время. Давайте встретимся где-нибудь завтра.
– С превеликим удовольствием. Назначайте время и место.
Лаура немного подумала.
– В три часа в переулке, где мы с вами встречались.
– Позвольте! – вскричал я, поражённый. – Там же нет ни одной скамейки!
– Зато нет и прохожих… усядемся прямо на тротуаре, а ноги спустим в канаву. Хорошо? – засмеялась она.
– Что же, если вам так нравится, давайте, – согласился я.
Наконец Неизвестный освободился от своих обязанностей и подошёл к нам. Мы ещё немного поговорили. Затем он взял её под руку, и они простились со мной.
Неизвестный в эту ночь не пришёл ночевать.
– Лиза, я не очень подробно рассказываю? Может быть, сократиться?
– Нет! Нет! Что ты, Иосиф! Я с таким интересом слушаю. Я как будто роман читаю.
– Ага! – воскликнул я, польщённый. – Значит, Шолом-Алейхем был прав, если он для своей автобиографической повести «С ярмарки» взял эпиграфом слова «К чему романы, если сама жизнь роман».
В условленное время я был на месте назначенного свидания. Я уселся на тротуаре в самой середине переулка. Мне пришлось ждать минут десять-пятнадцать. За это время по переулку не прошло ни одного человека. Наконец на углу показалась Лаура. Увидев меня сидящим, она заулыбалась и приветливо помахала рукой.
– Здравствуйте! Извините, что немного задержалась, провозилась с дочкой… Помогите мне сесть… Вот так, теперь хорошо. Ну, рассказывайте.
Я пристально вгляделся в неё и спросил:
– Хотел бы я видеть, как вы провели сегодняшнюю ночь. Узнать, что вы чувствовали, – и сам испугался своих слов.
– Что?! Что?!
Мой вопрос её ошеломил. Лаура густо покраснела, затем изучающе в меня вгляделась, пытаясь прочитать на моём лице, почему я задал такой вопрос. Потупившись, она ответила:
– Я всю ночь была под впечатлением вечера, проведённого с вами.
– Я так и думал.
Лаура вздрогнула и, высокомерно сощурив глаза, сказала:
– Ося, а вы не ду-ма-ете, – растянула она слово, – что вы очень самоуверенны?
– Нет, не думаю. В себе как раз я не очень уверен. Вы разрешите мне быть с вами откровенным?
– Пожалуйста!
– Вы ведь не любите своего мужа?
– С чего вы это взяли? – удивилась Лаура.
– Для этого не нужно быть проницательным. Я же живу вместе с ним, вижу, как мало времени он проводит с вами, как редко он ночует дома и какое у него бывает тяжёлое настроение после того, как он переночует у вас.
– Не понимаю, к чему вы всё это говорите?
– К тому, что вы не любите своего мужа. Если бы вы его любили, вы жили бы вместе.
– Значит, вы не признаёте современный брак?
Я досадливо отмахнулся.
– Современный брак – это глупая выдумка, попытка красивыми словами прикрыть половую распущенность. В лучшем случае современный брак – это более или менее длительная связь, с так называемой свободой удовлетворения любых своих потребностей, с лазейкой, позволяющей при первом удобном случае эту связь прервать. Да и само слово «современный» нужно здесь взять в большие кавычки. В самом деле, чем эти ваши современные браки отличаются от браков прошлого столетия? Ничем. Почитайте Бальзака, Золя, я уж не говорю о других авторах, и вы в этом убедитесь. Там, правда, муж и жена живут в одном доме, но на разных половинах, предоставляя друг другу полную свободу с единственным условием, чтобы сохранялись внешние приличия, так называемая честь дома. Все эти ваши современные браки несовместимы с настоящей любовью. Настоящая любовь во все времена была одинаковой – это желание быть вместе, посвятить свою жизнь друг другу.
– Допустим, что вы правы, но я не понимаю, какое это имеет отношение к тому дикому вопросу, который вы задали мне в начале нашего разговора.
– Я объясню. Вы разрешили мне быть откровенным. Вчера у нас с вами быстро возникла близость. Мы чувствовали интерес друг к другу и – может быть, это сильное выражение – влечение. Мы и танцевали с вами не так, как просто знакомые, а теснее, совсем теснее. Ощущение вашего плотно прижавшегося тела меня влекло, пьянило, возбуждало, и не только потому, что это тело интересной женщины, но и потому, я в этом не обманывался, что оно отвечало тем же. Вы не можете этого отрицать. Иначе вы весь вечер не танцевали бы только со мной, не сидели бы сейчас здесь в этом глухом переулке. Да вы сами только что признались. Расставаясь на вечере, мы знали, что будем жить новыми ощущениями, будем думать друг о друге. Так почему же мужа, которому вы уделяете не так уж много ночей, на сегодняшнюю ночь вы взяли с собой? Почему у вас не явилось желание эту ночь быть одной?
– Ося, вы, наверное, сегодня плохо спали… Уж не ревнуете ли вы меня к мужу?
– Спал я неважно… и к вашему мужу вас не ревную. В крайнем случае я мог ему позавидовать. Ревность такое чувство, которое само по себе не существует. Ревность – антипод другого чувства, любви, и может существовать только с ней. Я в состоянии тонко чувствовать, но вот постичь, почему женщина, будучи возбуждена одним, думая о нём, может в это время отдаваться другому… Какая тайна творится в женщине?
– Что ж, в этом есть своя острота, – сказала Лаура, – но, мой юный философ, надо смотреть на вещи проще. С вашей философией вам будет трудно жить на свете…
– Не знаю, трудно или легко. Но в понятие «жить» каждый вкладывает свой смысл.
– Прости, Иосиф, я тебя перебью, – прервала меня Лиза. – Я не могу поверить… в моей голове это никак не укладывается: как можно так разговаривать с женщиной, с которой знакомы всего один вечер. Что это за женщина, позволяющая с собой так обращаться?
– Ты права, Лиза, это выглядит необычно, и я, конечно, до неё ни с кем так не разговаривал. Но я столкнулся с женщиной не совсем обыкновенной, а по своим физическим и интеллектуальным качествам незаурядной, и, как я безотчётно чувствовал, женщиной, которая может стать опасной. Я понимал, что понравлюсь ей как непорочный юноша, восхищающийся ею. Я понимал также, что ей необходима очередная победа, или очередная жертва, с которой бы она впоследствии могла играть, как кошка с мышью. Поэтому я и решил сбить её с проторенных путей и ошарашить так, чтобы, как говорится, взять инициативу в свои руки. Ты, может быть, спросишь, зачем мне всё это было нужно? На это я тебе отвечу: Лаура была интересным человеком и женщиной и близкое знакомство с ней привлекало. Я понимал: чем больше она будет наталкиваться на непривычное для неё или на сопротивление, тем более хозяином положения буду я. Последующие события показали, что я был прав.
– Продолжай! – попросила Лиза.
После недолгого молчания Лаура сказала:
– Знаете, Ося, я составила о вас одно представление… а вы совсем другой.
– И ваше представление правильное… никакой я не другой. Бросим этот разговор. Расскажите лучше о себе. Мне кажется, у вас была интересная жизнь. Кстати, почему у вас такое звучное имя, ведь оно совсем не еврейское.
– Это имя я выбрала сама… по глупости. Я была ещё неоперившейся девчонкой, и моё имя казалось мне слишком прозаическим – меня зовут Лия. Вот и пошло: Лаура и Лаура, и не помню, как уже это имя попало в документы, так за мной и увековечилось.
– Забавно! Но рассказывайте, пожалуйста.
Рассказывала она интересно, много такого, что меня страшно удивляло, о чём не имел никакого представления, а иногда такие вещи, от которых огонь по жилам пронизывал. Мы сидели на тротуаре, опустив ноги в канаву. Короткое платье не прикрывало её колен, от которых трудно было отвести глаза, до того они были красивы и манящи. Тонкая ткань облегала её формы, словно она была в трико. Через небольшие промежутки времени она вытягивала ноги, обтянутые шёлковыми чулками и обутые в изящные туфельки, то по одной, то обе вместе и любовалась ими. Чувствовалось, что она привыкла показывать себя и нравилась самой себе. Когда она рассказывала, то чуть ли не вплотную приникала ко мне, вопрошающе заглядывала в глаза и приближала лицо так близко, как будто она напрашивалась на поцелуй. Действительно, стоило бы мне сделать неосторожное движение – и, помимо моей воли, это могло случиться. Моё счастье, что в ней именно её глаза и рот были для меня меньше всего привлекательны.
Вот что она рассказала о себе. Родилась в Ташкенте, родители её были состоятельными и имели свой крупный магазин готового платья. В 1916 году она приехала в Москву и поступила на историко-филологический факультет. Завела обширные знакомства. Вошла в кружки футуристов и имажинистов, возглавляемые Давидом Бурлюком, Василием Каменским, Крученых, Мариенгофом, Шершеневичем и другими, познакомилась с Маяковским. Была участницей всяких литературных диспутов о новой поэзии и поэзии будущего. Кто-то из участников кружков соблазнил её и увлёк настолько сильно, что она стала его сожительницей. Связь продолжалась недолго, в моду входила свободная любовь. Затем было ещё несколько связей.
Мне казалось, что, рассказывая об этих связях, Лаура как бы давала понять, что такими связями она гордится и что, при некоторой настойчивости, сопротивления я не встречу. Но тут она ошиблась, женщины, так свободно распоряжающиеся своим телом, меня не привлекали, а отталкивали.
Когда в 1918 году Москва села на четвертушку хлеба, вопросы любви полетели ко всем чертям. Было, что называется, не до жиру, быть бы живу. Вот тогда ей встретился Осип Неизвестный, она вышла за него замуж и уехала с ним в Верхнеуральск, в то время сытный край. Через год они приехали в Томск и поступили в университет.
Кончив рассказывать о себе, Лаура спросила:
– Ося, вы любите новую поэзию?
– Честно говоря, – ответил я, – поэзией не увлекаюсь, а новую и совершенно не понимаю.
– Не может быть! Вы такой, что не можете не понимать новую поэзию…
– Но, к сожалению, это так… По-моему, новая поэзия – набор слов, и зачастую непонятных.
– Не кощунствуйте! Вы читали «Облако в штанах» Маяковского?
– Нет, не читал… Да и название какое-то нелепое.
– Сами вы нелепый! Вот слушайте! – Она продекламировала: «Хотите, буду безукоризненно нежным, не мужчина, а облако в штанах». – Как, по-вашему, нелепо?
– В этом есть смысл, – сказал я подумав.
– Спасибо за признание! А теперь слушайте! – И она скороговоркой и монотонно прочитала: «Нежные, вы любовь на скрипки ложите, любовь на литавры ложит грубый, а себя, как я, вывернуть не можете, чтобы были одни сплошные губы». – Как, по-вашему, набор слов?
– Похоже, что так!
– А теперь послушайте! – Она прочитала это четверостишие очень выразительно. – Ну как, набор слов?
– Пожалуй, это образно.
– По-жалуй! – передразнила Лаура. – А вот послушайте, как это самое выражено у другого поэта, у Есенина: «Сильным даётся радость, слабым даётся печаль».
– Это ассоциируется, – сказал я.
– Ага, ассоциируется! Вот возьмите слово – «куцый». Как, по-вашему, подходящее это слово для стихов?
– Не очень поэтичное словечко.
– Не поэтичное? Смотрите, как оно звучит у Маяковского.
«Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрезный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.
Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядёт шестнадцатый год».
– Замечательно! – воскликнул я. – Тут можно без преувеличения сказать: словам тесно, а мыслям просторно.
– Верно! – обрадовалась Лаура. – Теперь мало кому непонятно. Но эти строки были написаны за три года до революции, и тогда многим могло это казаться набором непонятных слов. Если бы вас попросили дать короткое описание такси и пролётки, сколько бы слов на это понадобилось? У Маяковского всего два слова – пухлые такси и костлявые пролётки; как?
– Очень зримо!
– А вот ещё – «мужчины, залёжанные, как больницы, и женщины, истрёпанные, как пословица». А как это, по-вашему?
«Для себя не важно и то, что бронзовый,
И то, что сердце – холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
Спрятать в мягкое, в женское…»
– Изумительно! – воскликнул я.
– А вы говорите, не понимаете новую поэзию. Не можете вы её не понимать… Я выхватила из контекста только первые пришедшие в голову строки, а как это звучит в поэме?
– Лаура, вы открываете мне глаза! Не можете ли достать это произведение? Я бы с удовольствием почитал…
– Знаете, стихи футуристов и имажинистов трудно читать, особенно новичку. Их лучше слушать… Вот что, приходите завтра ко мне, у меня есть эта поэма и много других стихов… я вам прочитаю.
– Я с большим удовольствием… Лаура, а наизусть вы что-нибудь помните?
– Очень много.
– Так прочтите. Я вас очень прошу.
– Вы «Левый марш» слышали?
– Нет.
– Какой же вы невежа, Ося! Ну, слушайте!
Декламировала она исключительно хорошо и выразительно. Я не сводил с неё глаз. Увлеченность содержанием того, что она декламировала, делало её лицо вдохновлённым и интересным. Она продекламировала ещё «Хорошее отношение к лошадям», «Флейту-позвоночник» и ещё несколько других стихов. Ей очень импонировало моё восхищение. Вдруг она спохватилась:
– Ося, а ведь мне пора! Я с вами совсем забыла про дочку. Приходите завтра обязательно… я буду ждать.
– Обязательно приду! Я провожу вас…
– Не надо! Я тороплюсь… – Лаура спрыгнула в канаву. – Давайте вашу лапу! Смотрите, приходите. Мой адрес – Миллионная три, вход со двора, – сказала она, заглядывая мне в глаза и не выпуская руки. Вдруг её лицо выразило удивление.
– Слушайте, Ося, да у вас голубые глаза!
– Вы только что их увидели? – в свою очередь удивился я.
– Голубыми – только что! – рассмеялась Лаура и, ещё раз энергично тряхнув мою руку, быстро повернулась и пошла не оглядываясь.
Я следил за ней, пока она не скрылась за переулком. Я думал о Лауре. Какая загадочная женщина. Сколько в ней противоречивого, притягательного и отталкивающего. Я попытался сколько-нибудь разобраться в этом, почувствовал, что бессилен, махнул рукой и поплёлся восвояси.
– Лиза! – вдруг опять спохватился я. – Я обещал рассказывать о себе, а рассказываю о незнакомой тебе женщине. Тебе, должно быть, неинтересно?
– Почему? Ты ведь рассказываешь о себе. Продолжай, продолжай!
На другой день я без труда нашёл квартиру Лауры. Она встретила меня приветливо. На ней был плотно облегающий фигуру халат из ткани дикой расцветки и с невообразимыми рисунками. Покрой халата был такой, как будто он её не прикрывал, а раздевал. В комнате было опрятно, но царил какой-то беспорядок, словно каждый предмет в этой комнате находился не на своём месте. У стены в детской кроватке спала девочка с рыжими кудряшками, раскинув кверху голые ручонки.
Лаура усадила меня в углу, между столиком и комодом, а сама подошла к этажерке и стала разыскивать нужную книгу. Я оглядел столик – и мне бросился в глаза прислоненный к флакону отрезок карточки, где на густо-чёрном фоне выделялся женский торс ослепительной белизны, без головы, с поднятыми вверх согнутыми в локтях руками. Плечи поражали безупречными линиями, а высокие груди средней величины и идеальной формы как будто устремлялись вперёд и несколько вверх. Когда я перевёл взгляд на комод, то увидел в разных его концах прислоненные к коробочкам от пудры другие два отрезка карточки. На одном идеальный женский живот, на другом прекрасные плотно сдвинутые ноги. Я решил, что это открытка со скульптурой какой-нибудь греческой богини, но недоумевал, зачем понадобилось разрезать её на части. В целом такая фигура вызвала бы только восхищение, составные же части, отделённые друг от друга, выглядели уже не только прекрасными, но и эротическими и возбуждающими. Вдруг меня словно огнём опалило. Я заметил то, на что сразу не обратил внимания: на ногах у богини были изящные лаковые туфли на высоких каблуках.
На моё счастье, Лаура никак не могла найти нужную книгу, иначе я не знал бы куда деваться от охватившего меня стыда.
Наконец она нашла то, что искала. Это была тонкая брошюра, изданная на оберточной желтоватой бумаге, с изображёнными на обложке кубистическими фигурами и рисунками.
– Ну вот! – сказала Лаура, усаживаясь против меня и, не смущаясь, запахивая полы халата, обнажившие ослепительное колено. – Сейчас я прочту вам «Облако в штанах» – и заранее вам завидую.
– Почему? – спросил я удивлённо.
– Тому, что вы будете испытывать. Никогда не забуду тех ощущений, когда услышала эту поэму первый раз… Ну и теперь каждый раз, как я её читаю, испытываю большое удовольствие.
– У меня к вам просьба, Лаура!
– Какая?
– Уберите, пожалуйста, эти детали, – я кивнул головой на изображения, стоящие на столике и комоде. – Боюсь, что они будут меня отвлекать, кроме того, у меня большое искушение составить из них целое.
Лаура пронзительно взглянула на меня, едва заметно покраснела, молча встала, собрала отрезки карточки, небрежно швырнула их в ящик комода и, обернувшись, с лукавой улыбкой спросила: – Теперь вы в состоянии слушать?
– Я готов!
Читала она артистически. Чувствовалось, что она живёт тем, что читает. Лицо её хорошело, и на него было приятно смотреть. Поэма не только привела в восхищение, но и невероятно меня потрясла. Кончив, Лаура взглянула мне в лицо и с усталой улыбкой сказала:
– Ося! Я вас ни о чём не спрашиваю. У вас и так всё на лице написано.
– Не знаю, как и благодарить вас, Лаура. Вы от меня теперь нескоро отделаетесь, пока хоть частично не поделитесь своим богатством.
– Рада буду поделиться полностью…
Проснулась девочка. Она встала в кроватке и, держась за перильца, уставилась на незнакомого ей дядю.
– Теперь, – засмеялась Лаура, взяв ребенка на руки, – начинается поэзия номер два. Детская!
– Вы правы! – улыбнулся я. – Это действительно тоже поэзия. Что может быть поэтичней молодой матери с ребёнком на руках.
– Ох, Ося! – глубоко вздохнув, сказала Лаура. – Какая же здесь поэзия, если эта молодая мать, безумно любящая свою дочку, больше всего на свете хочет, чтобы её дочь выросла непохожей на мать.
Я промолчал, внутренне согласившись с ней.
– Вот видите! Вы молчите…
– Но я ещё так мало знаю вас, Лаура.
Учебный год подходил к концу. Редкий день проходил, чтобы мы не встретились с Лаурой. Много гуляли по городу, но, когда нам хотелось посидеть, мы обязательно оказывались в каком-нибудь глухом переулке или на пустыре. Я удивлялся, где она их только разыскивала. Однажды я обратил на это её внимание и спросил:
– Почему мы никогда не посидим в городском саду, в Университетской роще или в каком-нибудь скверике?
– Не люблю! – резко ответила Лаура. – Там всегда народ… парочки. На тебя глазеют, и сама отвлекаешься. Здесь, – улыбнулась она, – ни души, никто не мешает, а если за полчаса кто-нибудь пройдёт, посмотрит на нас как на сумасшедших, и след его простыл.
Когда мы гуляли, она, как правило, брала меня под руку, а если на улице никого не было, обнимала за талию, плотно прижимаясь то грудью, то бедрами. Упругость её тела меня волновала и возбуждала, но и будила во мне внутреннее сопротивление. Если мы сидели, она или рассказывала, или читала стихи, по своему обыкновению тесно приникая ко мне, приближая своё лицо к моему, словно напрашиваясь на поцелуи. Как бы я ни был возбуждён, такого желания у меня не возникало. Слушал же я её с неослабевающим интересом, она на многое открывала мне глаза, а то, что казалось знакомым, представлялось в новом свете. Часто я заходил к ней домой. Там, после недолгих разговоров о разных пустяках, она разыскивала томик стихов и читала. Читала она стихи не только новых поэтов, но и Пушкина, Лермонтова, Фета и других. Лаура умела и слушать, и расспрашивать. Расспрашивала она естественно, не выпытывая, но, как-то у неё получалось, о самом сокровенном. С ней невольно хотелось быть откровенным и правдивым.
Как-то я признался, что вот уже восемь месяцев не могу забыть девушку, которая меня разлюбила. Лаура заинтересовалась и попросила меня рассказать об этом подробно. Я рассказал ей, ничего не скрывая, при каких необыкновенных обстоятельствах возникла любовь, как она протекала и при каких ещё более необыкновенных обстоятельствах этой любви пришёл конец. Лаура слушала с неослабевающим вниманием, ни разу не перебив меня. Когда я закончил рассказ, Лаура воскликнула:
– Замечательно! Я в восхищении! Вы же сказали настоящую новеллу о бедных влюбленных… Я могу вам помочь?
– В чём помочь?
– Чтобы ваша любовь возобновилась.
Чрезвычайно поражённый, я взглянул на Лауру. Я не знал, чему больше удивляться: тому, как можно помочь, чтобы любовь возобновилась, или тому, что Лаура, в чём я был уверен, сама добивающаяся моей любви, предлагает подобную помощь. Всё же я спросил:
– Как можно этому помочь?
– Я поговорю с ней как женщина с женщиной, и ваша Оля всё поймёт.
– Нет, ничто уже не поможет! То, что разбито, целым вновь не станет. Конечно, склеить всё можно, но склеенное останется склеенным. Любовь наша была чиста, но, помимо нашей воли, её коснулась пошлость. Отныне, как бы в дальнейшем наши чувства ни были чисты, как бы ни были идеальны наши любовные порывы, за ними незримой тенью будет стоять пошлость, которой омрачили эту любовь. Говорят, грязное к чистому не пристанет. Не всегда это верно. Если в раннем возрасте ребёнок неудачно упал, его организм ещё хрупок, у ребёнка искривляется позвоночник – и он растёт горбуном. Так и с чистой любовью. Если любви в её начальном развитии коснётся грязь, она уже не будет развиваться нормально. Я не настолько наивен, чтобы не понимать: как бы целомудренна ни была любовь, завершение её – обладание. Но эта любовь будет развиваться во всё более и более тесную физическую близость, всё более и более страстное и неисчерпаемое обладание, в высшую страсть, покоящуюся на целомудренном чувстве. Моя любовь с Олей началась с прикосновений, которые стороннему наблюдателю показались бы однозначными, а быть может, и вульгарными. Но эти прикосновения были далеки от грязных помыслов, они рождали душевную близость и чистую любовь, вызывали к жизни тайну, заложенную в юношеской душе. Я не знаю, что испытывает девушка, но юноша, державший в объятиях любимую девушку, обменивающийся с ней поцелуями, желающий, чтобы это продолжалось бесконечно долго, испытывал высшее душевное блаженство, не оскорбляемое сладострастными видениями, и одновременно с этим ощущает мучительную физическую боль. Это природа делает своё дело, готовит юношу к его мужскому назначению – обладанию. В жизни получается, что обладание является завершением любви, её вершиной, после чего начинается постепенный спад, затухание любви. А должно быть наоборот. Обладание – это начало восхождения к недосягаемой вершине, потому что настоящей любви предела нет. Я иногда думаю: что такое обладание? Для одних, рождённых с талантом любви, их незначительное меньшинство, обладание – святая святых, чудесное таинство души и тела. Для подавляющего большинства, обладание – такая же жизненная функция, потребность, может быть более острая, как потребность в пище, сне. Для многих обладание – голая страсть, часто именуемая тоже любовью. Чувственность, похоть, разврат, торговля и спекуляция женским телом и другая самая немыслимая мерзость тоже связаны с обладанием. Кажется, несоизмеримые вещи, но зиждутся они на одном и том же акте соития, несоизмеримость этих явлений не ограничена неприступной стеной, они могут приходить в соприкосновение в зависимости от того, в какие условия вдруг захочет поставить тебя жизнь. Кто желает сохранить свою любовь в чистоте, должен это желание беречь в себе как зеницу ока, не допускать никакого постороннего вмешательства, хотя бы оно было с самыми добрыми намерениями. Поэтому, Лаура, я очень ценю ваше желание мне помочь, но решительно от такой помощи отказываюсь.
– Ося, я вас слушаю с восхищением, но как в жизни всё проще… Какой вы ещё наивный и неискушенный…
– Неискушенный – это верно! А насчет того, что в жизни всё проще, я с вами не согласен. Знаете, что означает это ваше «проще»? Оно означает, что человечество ещё не доросло до любви и в своей массе, простите за грубое сравнение, в этом отношении находится в стадии полной неграмотности. Придёт время, когда жизнь поставит вопрос о сплошной грамотности в любви, в самом лучшем смысле этого понятия. Поставила же жизнь сейчас в России вопрос о ликвидации неграмотности вообще. Теперь каждому понятно и никого не надо убеждать, что революция ни развиваться, ни существовать без сплошной грамотности не может. Жизнь неизбежно приведёт к тому, чтобы каждый человек стал обладать способностью настоящей любви, этого прекрасного чувства, без которого жизнь обедняла бы сама себя. Создатели величайших произведений искусства, литературы, музыки знали, что их творения, при их жизни, а может быть, долго и после смерти, не будут ещё доступны для основной массы человечества, но без веры в то, что настанет время и их произведения станут достоянием всех людей, они творить не могли бы. Жизнь – великий творец, и такое чудо, как любовь, для всех сотворит.
– Ох, Ося! Всё это мечты!
– Да, мечты! Но мечты человечества сбываются.
– Всё это очень хорошо! А пока все эти мечты, – и Лаура рассмеялась, – ничего не могут сделать, чтобы у меня не сосало под ложечкой от голода. Я вас не отпущу, пока вы со мной не покушаете. Я недавно получила посылку. Сейчас только накормлю дочку, а потом поджарю картошку с таким свиным салом, которое вы не только давно не ели, но даже и во сне не видели.
Я попробовал отказаться, но встретил такую бурю возмущения, что пришлось согласиться. Но это ещё не всё. Когда я собрался уходить, она отрезала большой кусок сала, завернула в бумагу и потребовала, чтобы я взял с собой. Я отказался наотрез.
Лаура уговаривать не стала, а подошла к дверям, стала к ним спиной и заявила:
– Или вы возьмёте это с собой, или не выйдете отсюда, не применив насилия!
Я расхохотался и подумал: не знаю, как её, а меня насилие не привлекает. Я взял сверток и, показав его ей как пропуск, сказал:
– Пропустите!
Она отодвинулась, вытянулась как часовой и отдала честь.
– Проходите! – и, когда я прошёл, крикнула вдогонку: – Вот умница! До завтра!
От Лауры можно было ожидать любой неожиданной выходки. Как-то провожал её домой, мы проходили безлюдным пустырём. Поблизости паслись с десяток гусей. Я в шутку сказал: хорошо бы поймать гуся, взять домой и зажарить. Лаура, быстро оглядевшись по сторонам, с молниеносным проворством бросилась к гусям, поймала одного, крепко зажала ему клюв, и не успел я опомниться, как она подбежала ко мне со словами:
– Прячьте скорее под плащ!
То, что, несмотря на жару, я ходил в плаще, тоже было её выдумкой, о которой я расскажу отдельно. Обомлев от страха и отшатнувшись от неё как от зачумлённой, я крикнул:
– Лаура! Вы с ума сошли! Сейчас же отпустите гуся!
Лаура рассмеялась:
– Эх вы, трусишка! – И швырнула гуся к его обеспокоенным и гогочущим собратьям.
– Удивительная женщина! – воскликнула Лиза. – А что за история с плащом?
– Представь, Лиза, что Лаура, несмотря на эксцентричность и многие свои отрицательные качества, была женщиной сердечной, отзывчивой и доброй, готовой всегда помочь.
История с плащом заключается в следующем. Кончился учебный год, наступили каникулы. Иногородние студенты должны были оставаться в Томске, так как проезд по железным дорогам был по специальным пропускам, получить который можно было по более чем уважительным причинам. Студент мог получить пропуск лишь в случае, если он был серьезно болен и врачебная комиссия находила, что для поправки его здоровья необходимы домашние условия. Мне страшно хотелось съездить домой, повидаться после годичного отсутствия с родными, подкормиться на домашних хлебах, показаться друзьям в своем новом обличье студента. Я был основательно истощён студенческим пайком и решил, что необходимых болезней во мне обнаружится требуемое количество. Я начал хождение по врачам: к терапевту, невропатологу, хирургу. Каждый из них меня внимательно выслушивал, выстукивал и после осмотра садился за стол, с непроницаемым видом писал и вручал мне тщательно заклеенный конверт, адресованный в студком. Когда все требуемые конверты были мной собраны и вручены в студком, там после вскрытия меня поздравили с великолепным здоровьем и в пропуске отказали. Это моё великолепное здоровье, лишившее меня поездки домой, сильно меня огорчало, и я ходил как потерянный. Моё состояние не осталось незамеченным Лаурой.
– Чем вы так удручены, Ося?
Я не без некоторого колебания рассказал ей, в чём дело. Лаура немного подумала и сказала:
– Знаете, а я, пожалуй, могу вам помочь.
Поистине Лаура точно была и создана для того, чтобы удивлять. В моём деле я мог бы рассчитывать на чью угодно помощь, но никак уж не на помощь Лауры. На мой недоумённый вопрос, как она сможет помочь, она ответила:
– Среди студенческого начальства у меня есть друзья. Я сегодня же переговорю кое с кем из них. А пока не теряйте надежды, и самое главное – не вешайте нос. Давайте лучше что-нибудь почитаем.
Первый раз я слушал её недостаточно внимательно.
Когда я пришёл к ней на следующий день, Лаура встретила меня радостной лукавой улыбкой. Я понял, что её миссия очевидно увенчалась успехом, и засиял.
– Раньше времени не сияйте, – остудила меня Лаура. – Дело не так просто. Предстоит немало трудностей, самое главное – вам нужно будет потерпеть некоторые неудобства…
– Рассказывайте! Не томите, ради бога. Я готов на любые трудности и неудобства, лишь бы получить возможность побывать дома.
– Тем лучше! Мои друзья, конечно, не могут сделать из вас больного и на этом основании выдать пропуск на проезд. Но в отдельных случаях студентам, приехавшим из дальних городов, если их одежда пришла в ветхость и они не имеют возможности получать посылки, выдают пропуск на поездку домой для экипировки. В университетском складе снабжения в отношении одежды, что называется, хоть шаром покати. Вам надо раздобыть какое-нибудь рваньё, явиться в таком виде в студком и подать заявление о том, что ваша одежда пришла в негодное состояние и вам не в чем будет ходить на лекции. В заявлении потребуйте, чтобы вам выдали одежду или выдали пропуск на поездку домой. К вам пришлют на дом комиссию, чтобы удостовериться в вашей нуждаемости, поэтому всё лишнее надо припрятать. После того как комиссия удостоверится, что вы нуждаетесь, студком обратится в отдел снабжения с ходатайством о выдаче вам одежды, а там получите отказ – и резолюция отдела снабжения послужит основанием для выдачи пропусков.
По мере того как Лаура излагала свой план, моё лицо всё более и более вытягивалось от разочарования. Лаура это заметила и, рассердившись, спросила:
– Вас этот план не устраивает?
– Нет! – отрезал я. – Мне претит всякий обман, не говоря уже о том, какое это сомнительное удовольствие разгуливать по городу оборванцем…
– Не понимаю, что вы за человек? – раздосадованно перебила меня Лаура. – Разве можно быть таким щепетильным? О каком обмане идёт речь? Вам необходимо съездить домой, чтобы поправиться? Необходимо! Врачи полагают, что вы ещё недостаточно истощены, чтобы вам грозила чахотка, а я считаю, что даже намёк на такую угрозу не должен появиться. По сути дела, в том, что я предлагаю, никакого обмана нет, и всё это нужно для простой проформы. Но насчёт неудобств… кто это мне говорил, что готов на любые трудности и неудобства, не вы ли? У вас какой-нибудь летний плащ есть?
– Есть!
– Вот и прекрасно! – улыбнулась Лаура. – А вы говорите – неудобства… Кто увидит ваши лохмотья под плащом? Никто! Мы даже наших прогулок не отменим, подумаешь, будет немного жарко. Когда вы будете приходить ко мне, я не буду очень настаивать, чтобы вы раздевались, – рассмеялась Лаура.
Короче говоря, она меня убедила. Так, к удивлению томичей, на улицах города стала появляться странная парочка: она – чуть ли не в ажурном платье, он – в плаще.
– Вот тебе, Лиза, и вся история о плаще, хотя на этом мои злоключения ещё не кончились.
На другой день, посвятив сожителей по комнате в свой план, очень им понравившийся, я всё лишнее переложил в их чемоданы. У Валентина я достал рваные брюки, не менее рваная гимнастёрка нашлась у меня. Облачившись в этот маскарад и натянув сверху плащ, я направился в университет на приём к председателю студкома. В приёмной сидели несколько студентов. Из кабинета временами слышались крики и ругань. Из кабинета вышел, что-то бормоча, раскрасневшийся, возмущённый студент. Дойдя до выхода из приемной, он обернулся, погрозил кулаком и крикнул: «Всё равно своего добьюсь! Бюрократ!» Я покосился на кабинет и подумал: «Видно, там сидит хороший зубр», – и моё предприятие представилось мне малонадёжным.
Подошла моя очередь. Я робко вошёл в кабинет. За столом сидел немолодой студент в очках, с бородкой клинышком и усталым выражением лица. Он подозрительно взглянул на моё не по-летнему одеяние.
– Что у вас?
Я подал заявление. Почитав, он сказал:
– Ничего не могу для вас сделать.
– Но войдите в моё положение, – почти умоляюще проговорил я. – Мне совершенно не в чем ходить…
– Вы на меня не кричите, пожалуйста! – вскипел он.
– Что вы! – сказал я, необычайно удивлённый. – Я и не думал повышать голос…
– Простите… это я по привычке, – и он улыбнулся доброй улыбкой. – У меня столько крикунов бывает за день… – и опять сделавшись серьёзным, спросил: – Чем вы докажете, что вы действительно в таком бедственном положении?
Я распахнул плащ. Мой собеседник даже отшатнулся.
– Да… действительно! Вот что, дайте ваш адрес. Я пришлю к вам комиссию обследовать. Если окажется всё так, как вы пишете, мы направим в отдел снабжения ходатайство, чтобы вам выдали обмундирование.
«Нужно мне ваше обмундирование», – подумал я – и сказал:
– Я наводил справки в отделе снабжения, у них сейчас ничего нет.
– Тогда пусть наложат резолюцию, что наше ходатайство не могут удовлетворить, и у нас будет основание, чтобы выдать вам пропуск.
Я рассказал Лауре о сцене в кабинете. Лаура безумно расхохоталась и, чуть не задыхаясь, спросила:
– Так и сказал – «не кричите»? Ох, очкастый… не кричите! Бедненький, как же его допекают… не кричите! Нет, я не могу, – и, немного успокоившись, сказала: – Он мой хороший знакомый, добрейшей души человек. Не на месте он сидит… во всяком случае, на девяносто процентов вас можно поздравить с успехом.
Как-то гуляя с Лаурой и исчерпав все темы разговора, мы долго шли молча.
– Простите, Лаура, за нескромность, – прервал я молчание, – что у вас происходит с мужем?
– А что такое? – резко обернулась она ко мне.
– С того знаменательного вечера, когда мы с вами познакомились, все ночи он проводит с нами в комнате. Не замечал я вас вместе и ни разу не встречал у вас. Что у вас произошло? Большая ссора? Если ссора, то, насколько я знаю Неизвестного, не думаю, что инициатива исходила с его стороны. Мне кажется, вы по отношению к вашему мужу жестоки…