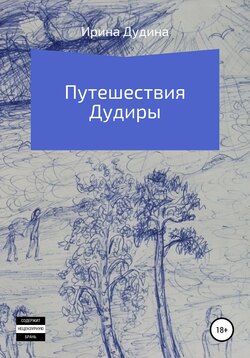Читать книгу Путешествия Дудиры - Ирина Дудина - Страница 5
Закарпатье (июль 2003)
Хлопцы закусывают золотом
Порхов
ОглавлениеМы за продуктами поехали в ближайший Порхов. День был праздничный, воскресный. Жизнь пустого с виду городка, состоящего преимущественно из русских народных деревянных коттеджей, вросших в землю, в три окна, концентрировалась на главной площади. Промтоварные магазины были закрыты, хотя было странно – народ съехался по случаю праздника за праздничной провизией. На рынке торговали толстыми, наверное, генетически изменёнными турецкими яблоками, китайскими грушами, греческими киви. Происхождение лесных коричневых орехов так и не удалось узнать, была надежда, что всё же местные. Все леса вокруг поросли орешником… А так – знакомая картина: баночки, сраночки, скляночки, пластиковые упаковочки, бутыли с напитками, крикливые слащавые картинки и названия, низкое качество густо приправленного химией продукта. Весь этот глобалистский фабричный ужас еды с ароматизаторами и красителями, абсолютно одинаковый во всём мире, во всех странах, городах и сёлах… Из местного было только мясо, сало и молочные продукты, кое-кто продавал мёд и яйца со своего хозяйства. Колбасу и мороженое, произведённые в местных цехах, посоветовали брать с осторожностью – часто бывает несвежее, просроченное. Радовала местная булка. Её единственную хотелось увезти с собой как сувенир об этом местечке. У булки была своя индивидуальность, свои пропорции, даже веселье какое-то русское было в местных калачах и рогаликах. Единственное, что в России осталось своего – это булки и хлеба, в каждом городке и селе со своим хлебозаводом – разные, часто очень вкусные. Хотя мука, из которой всё это делается, может тоже уже из глобалистских закромов…
По раздолбанной дороге мы мчались из Псковской губернии обратно в Питер, мимо деревенек, кажущихся мёртвыми и безлюдными, мимо поросших кустарником колхозных полей, мимо порубленных лесов с пролысинами, мимо бесконечных фур, куда-то из страны везущих наш лес, наши сосны и берёзы. Вдоль трассы летал полиэтилен, дымились чёрные язвы весеннего пала, белели ямы с мусором из разнообразных упаковок, который наша страна не готова перерабатывать. Ближе к городам куски земель, изгаженных какими-то лачугами, парниками и стоячими туалетами, перемежались с кусками земель, плотно застроенных коттеджами. Русские пейзажи вдалеке были прекрасны, кой-где, к великой радости, встречались гнёзда с аистами…
Хельсинки(февраль 2006)
Вставай, Финляндия!
Вечером, в 8 часов я вдруг встрепенулась перед присасывающим оком телевизора, сказала сыну-подростку, который протирал глаза от дневного сна после школы: «Вставай, едем в Финляндию». Мы встали и поехали, на первом попавшемся автобусе от площади Восстания. Благо на руках были первые в нашей жизни загранпаспорта с финскими визами.
На границе я почувствовала себя героиней фильма про Освенцим и войну. «Встать! Взять с собой паспорта и все свои вещи! Выйти из автобуса! Пройти на пост таможни!». Суровые женщины в серых формах, похожие на эсэсовок из кино, быстро потрошили цепкими глазами наши аусвайсы. Женщины были одинаковыми и на русской стороне, и на финской. Безупречные мужчины могли бы сыграть какого-нибудь штурман-фюрера. Но когда в глубокой ночи мы переехали-таки границу тела нашей дебелой и необъятной родины, вдруг в сонной душе проснулась какая-то песнь. Мы же едем в Финляндию, ледяную и тёплую Финляндию, чистую Финляндию, эту страну работящих аккуратных Хоббитов, в страну светлых рациональных хоботов и снежинок, как это хорошо, как это здорово! Мысль переходила в иррациональную песнь радости.
Проснулись в Хельсинки в 5 утра по нашему, в ихние 4 утра p.m.. Весь город в эту ночь с субботы на воскресенье гулял. На первых этажах чётких скандинавских параллелепипедов горел свет, по улицам всюду бродили молодые и средних лет финны: по одному, влюблёнными парочками, парами однополыми заигрывающими, горстками и компаниями. У остановок такси выстроились послушные длиннющие очереди. Это, наверное, были ребята, приехавшие из пригородов в столицу за развлечениями и общением, а теперь уезжавшие на хутора домой. Многие были по-детски пьяненькими, они уморительно спотыкались, делали неверные юмористические жесты. Один человечек – единственный на весь город – упал на изумительно чистую панель, как сахаром присыпанную тающим снежком. Тут же вокруг него собралась толпа, в ту же секунду к нему подъехали копы на красивой, какой-то игрушечной полицейской машине с игрушечным ярким полицейским звуком.
У нас милицейские машины обычно помятые и с тусклым звуком. Милиционеры в машинах сидят приплюснутые, невидимые ясно издали. Наши милицейские машины как бы крадутся, чтобы выскочить из засады и засечь уже свершённый грех. Финские полицаи были как светлые ангелы, они издали дудели в свою иерихонскую трубу, чтобы грешники уже издалека усмиряли свои дурные наклонности.
Наш автобус, на котором мы приехали, превратился в неудобное лежбище для спанья. Нам сказали: «Если вы сейчас выйдете, то уже не войдёте обратно до 10 утра. Мы закроемся и будем спать, никого не пустим». Мы пошли гулять.
Город был чистым и безопасным, немногочисленные негры и арабы выглядели игрушечными и кукольными. Правда, толпы веселых людей быстро рассосались и исчезли, а недавно переполненные кафе и бары, и даже макдональдсы вдруг в миг оказались запертыми. «Нет, это неправильно! Гулять так гулять! Это не по–русски! Даже у нас есть ночью куда пойти и где потусоваться до рассвета!» Хотелось в туалет, но всё было закрыто, и все газоны и дома были закрыты, лишь в одном темном месте у забора ужасно воняло хлоркой и мочой; мы поняли, что туда кто-то любит мочиться, а кто-то борется с этим.
Мы долго брели по пустым мокрым улицам, присыпанным чистыми хрусталиками снега, и выбрели в порт, к широконосым паромам и лайнерам. Они сказочно светились над раскрошенным льдом. Свежие человеческие следы одинокого человека вели вглубь. Мы смекнули, что там что-то есть такое, куда можно войти и погреться. Это оказался морской вокзал, абсолютно пустынный и сверкающий от чистоты. Дверцы как в сказке про «Аленький цветочек» сами собой открылись, разве что скатерти–самобранки и голоса невидимых слуг не было в пустом зале. Ни одного бомжа, прости господи, с вонючими ягодицами, как выразился поэт Родионов! Ну, прямо как при советской власти, почтим её память вставанием. Мы прилегли на деревянные скамьи и покемарили.
В 7 p.m. запахло кофе, пунктуальная финская буфетчица распахнула жалюзи и показала миру свой буфет, где самая жалкая плюшка, ну прямо мелкий плевок муки с сахаром на противень, стоила целых 2 евро – то бишь больше полсотни наших родных рублей. Спасибо, не надо, у нас с собой была пара отличных бутербродов из Выборга, каждый в два раза дешевле и в три раза вкуснее. А кофе у финнов оказалось плохим, причём везде. Восточный напиток не прижился во всей роскоши на северной сдержанной земле. В отличие от Питера, где много есть мест, где можно отведать отлично сваренного кофе, ведь петербуржцы – это известные на севере «кофейники».
Солнце встало, бодрость проснулась в членах, за окном, куда ни кинь взор, всюду были фрагменты и цельные панорамы сдержанного скандинавского дизайна. Дизайном были морские разноцветные контейнеры, в совокупности являвшие собой чистую живопись из ржаво-зелёно-бордовых тонов. Живописью был паром с салатным брюхом. Живописными были канаты изумрудного и жёлтого цвета, за которые была прицеплена к берегу тёмно-зелёная баржа. Даже унылый павильон, прицепленный к старинному кирпичному сооружению, казался дизайном. Его ребристая, из какого-то металла поверхность, очень хорошо сочеталась с тёмно-коричневыми кустами под ним. Дальше начинался город из аккуратных домов, сделанных при помощи эстетики клетки и квадрата. Даже такая вещь, как квадрат, может быть обыграна при помощи полутонов и чередования размеров как дизайн. В довершение по набережной проехался изысканный, ярко жёлтый, как цыплёнок, трактор, убиравший набережную от чистой слизи снега. Это был уже движущийся дизайн, внёсший в тонкую коричнево-серо-бежевую гамму города свой весёлый плевок.
Далее всё в Хельсинки оказалось дизайном. Я не переставала дивиться, как так изящно можно обыграть серые панельные дома. Небольшой продуманный штрих, тонко подобранный колёр цвета фонарных столбов, чуть иная, чем у нас, гамма дорожных знаков, продуманные, неслучайные витрины – и уже, куда не кинь взгляд – всё покрыто сверху могучим разумом человека-художника, любой фрагмент городской материи – это созвучие колоритов, разливающееся удовольствием по глазам, мозгам и даже телу, изболевшемуся от скуки петербургских спальных районов. «Нет! Такого не может быть! У них должны быть некрасивые спальные районы для бедных, как у нас!» – воскликнул мой сын-подросток. Мы долго бродили по Хельсинки в поисках районов, лишённых клетчатого скандинавского дизайна, и не нашли таковых.
Сто раз можно чему-то учить наших студентов художественных вузов, но главное- это эстетический вкус городских начальников, которые дают добро на ту или иную манипуляцию над городом. У финнов, похоже, это начальники со вкусом.
Я пыталась понять феномен пресловутой финской чистоты, о которой все говорят. Я поняла, в чём дело! Во-первых, панельные финские дома, которые, как и у нас, слеплены по принципу детского конструктора, не имеют безобразных швов. Эти швы чем-то качественным аккуратно заглажены. Домик становится от этого гладким, имеет новорожденный девственный вид. Наши же дома, даже недавно построенные, имеют вид такой, будто они пережили бомбёжки, наводнения, голод и разруху, панельные дома в трещинах, с безобразными швами. Ещё секрет – это финские окна. Аккуратно выкрашенные рамы, промытые стёкла. У нас окна у людей часто донельзя загажены, у многих окна просто с трещинами и отколотыми кусками, за окнами выглядывают пожелтелые газеты, фанера, старые замученные жизнью занавески, которые хозяева не меняли из равнодушия к мелочам жизни лет 30-40. Может, за теми окнами и живёт какой-нибудь замечательный русский человек, обладающий талантами, мыслями, увлечениями, но если он скрывается за таким гадким окном и такой гадкой шторой, то это такая тоска волчья, такая тоска! И ещё к куче – финские лоджии. Они сплошь из стекла, и за их прозрачностью – полное отсутствие хлама. Наши лоджии – это кладовки для бытового хлама, покалеченных стульев, пустых банок. Финны, судя по лоджиям и балконам – сплошь эстеты. Пара стульев, пальма в кадке, столик, ничем не заваленный. В углу – малая скульптура, или несколько таковых. Особенно много среди них абстрактных, которые дают больше воли для фантазий и созерцаний.
Скульптуры повсюду – на перекрёстках, в скверах, во дворах. В одном дворе мы увидели на вершине срубленной берёзы деревянную скульптуру ястреба. На башне нашли граффити с розовым изображением символа Бурзума и подписью в виде молнии – знак Перуна. Язычество рулит.
Ещё, удивительным образом у финнов складываются отношения живой земли и городской панели. Я поняла, почему у нас такая грязь. Куда бы ни пошёл, всюду ноги в демисезон скользят по какой-то коричневой жиже. Неясно, откуда она берётся. Сейчас я поняла. У нас ужасны стыки газонов и асфальта. Земля вечно сквозь дырки вытекает на асфальт. Что-то чуть-чуть не додумано, не тот уровень взят поверхности, некуда талым водам всасываться, и вот течет грязь в дыры и зазоры между поребриками. Мелочи жизни, мелкие недодуманности, но от них ужасные такие вселенские бытовые последствия. Брюха у машин в коричневой корочке, как у свиней. Ботинки грязные. И уже теряется целостность чистого облика. Уже грязные подошвы требуют серой немаркой одежонки. Уже от одежонки такой – депресняк и неуверенность в своей красоте. Уже и внутри дома лень полы мыть. И на лестницу хочется плюнуть несколько раз. И хабарик не грех в жижицу-то навозную у краёв асфальта скинуть. И вот уж не город, а свинья в ухабах, в летающих мусорах, в навозцах, миргородских лужах, в которых от своей многолетности и неистребимости уже и тина завелась, и камыш вывелся. Ей-ей, у нас во дворах есть такие лужи с зелёным мхом в асфальте на проезжей части, которые обойти можно, только цепляясь зубами за кусты.
У финнов даже в сельской местности во дворах за заборами нет хлама! Изумительно! У них пустые сельские дворы, без старых тазов, позабытого бревна, кучки хвороста и бесколёсного велосипеда, а также старой бочки с дырой, которую можно ещё заделать! Зато у нас надежда на творческую переделку старых вещей есть, а у них нет.
Добро в виде пустых пластиковых бутылок, которые ковром покрывают в России леса, луга, болота и степи, финны у себя собирают. В 8 p.m. мы видели розового толстого чистенького финна, который шарил по помойкам и собирал в пакеты эти самые пластиковые бутыли.
Велосипеды на улицах Финляндии встречаются всюду – бесхозные, без замков. Надо – сел и поехал. Оставишь в конечной точке. А там его кто-нибудь другой возьмёт и поедет куда надо. Разумный круговорот велосипедов в природе. Говорят, что за небольшую оплату через банкоматы.
По поводу чистоты финского снега. Может, это машины меньше газов выделяют. Границу с Россией можно отличить по цвету снега. Резко после проволочного заборчика – снег чёрный. Ещё перееденную границу можно почувствовать по ощущениям задницы. Начинает на асфальте сильно подбрасывать. «Стало быть, родина»,– говорят глаза и задница.
Австрия(апрель 2006)
Острые Альпы, нежный Дунай
В шпионском поезде
Пригласили меня в Вену представители литературного центра под названием «Старая кузница», где должна была пройти презентация моей книги стихов «Рай и ад», изданная в Вене билингва на русском и немецком. Но мой шестнадцатилетний сын Саша взмолился, чтобы я его взяла с собой. Я списалась с кураторами, и мне разрешили взять с собой сына. Чтобы вдвое сэкономить деньги, мы поехали на поезде, а не на самолёте. И это было правильно.
Сначала мы увидели, во что превратилась Россия. Как будто прошла война. Разрушенные заводы, из которых проросли плаксивые берёзки. Будто после бомбёжки коровники социализма. Дома погорелые, дома с выбитыми окнами, дома с проломленными кровлями. Поросшие кустом поля. Мусор, мусор всюду – в любой ямке и канаве. При такой разрухе и обезлюденности было непонятно, кто весь этот хлам производит. Леса были такими, будто там были бои. Деревья, обкусанные пополам, завалившиеся друг на друга. Кто-то вырубал деревья вдоль рельсов, и они так и гнили, никому не нужные загубленные растительные души. Попадались длинные старые линии электропередач, одни столбы покосились, другие завалились, провода провисли или порвались. Рядом была проложена новая линия с новыми столбами и проводами, но старую линию никто не убрал. Разруха и нищета, беспорядок и хаос… На заплюзганных русских станциях слонялись алкаши обоих полов, бомжового вида люди с авоськами. Война, как будто была война…
Потом мы пересекли границу с Белоруссией. И попали в иную схему развития постсоветского пространства. Мы увидели ухоженные поля Белоруссии, чистые, ровно стоящие леса, аккуратные скромные домики. Когда я увидела первый за сутки поездки голубой трактор, который, пыхтя, пахал землю, я прослезилась. Потом мы увидели аккуратные нарезки полей и садов Польши, каких-то летающих длиннохвостых петухов – это были фазаны. Весь мир встречал весну сельскохозяйственным трудом, кроме убитой и преданной России.
Австрийский вагон оказался отвратительным, сделанным в годы «холодной войны». Вагон был узким, купе были тесными, трёхместными, люди должны были спать в узких щелях друг над другом, занимая даже и третью полку, которая в нормальных человеческих советских вагонах была багажной. Сидеть нужно было втроём на нижней койке и пялиться на стену, а не друг на друга. Да и койки были узкими, вместо столика было сооружение, похожее на писсуар. Может быть, это и был писсуар в старину советскую, когда русских туристов запирали в купе на границе, чтобы они не выскочили и не убежали на свободный запад. Всё было на кнопках и винтах, а ключ от винтов и кнопок был у проводника, наверное, чтобы через границу нельзя было провезти контрабанду или шпионские штучки резидентам передать. Пограничники четырёх стран вспугивали нас по ночам, проверяя паспорта и штампуя странички. Особенно нас поразили холодные и безупречно красивые пограничники Белоруссии.
В соседнем купе ехали дикие монголы, не знавшие никаких языков, кроме родного, их вёз, как баранов, какой-то более продвинутый монгол на какие-то работы в Австрию. И чего там могли в Австрии делать эти очень дикие и замшелые люди? Монголы везли огромный чан для приготовления себе варварской еды, который еле влез им в купе. Из-за какого-то очередного идиотского карантина через границы было запрещено перевозить куру, а именно жареных кур монголы постоянно и ели. В Бресте наш поезд менял колёса, поезд поднимался на рычагах, из него вынимали родные колёса и вставляли колёса вражьи, узкие, скудные, сделанные в условиях вечной скудности, жадности, расчётливости, экономии всего хотя бы на сантиметр. Тьфу, противно это было после вольготных купе для развесистых русских задниц… Польский пограничник набросился на наших родных уже монголов, он их обнюхал наподобие овчарки и произнёс на русском: «Курррра! Курррра!», но монголы прикинулись чайниками, хитровански успев косточки куда-то глубоко спрятать. Пограничник обшмонал их довольно грубо, но ничего не мог с ними поделать. Рано утром мы прибыли в голубую туманную Вену, встречала нас моя переводчица Элизабет Намдер-Пушер со своими друзьями: инвалидом-поэтом Робертом и анархической подружкой Лизой.
У Элизабет
Элизабет великолепно знала русский язык благодаря тому, что работала с чеченскими беженцами переводчицей. В её большой квартире в центре Вены, обставленной деревянной мебелью в хипповском стиле, была неплохая русско-австрийская библиотека. Особенно меня поразили толстенные медицинские русско-австрийские словари. Анархистка, коммунистка и атеистка Элизабет, худенькая, крепкая, как крепкие корни южных дерев, сероглазая и черноволосая, она первым делом задала мне вопрос, как я отношусь к чеченцам, не считаю ли их всех бандитами? Я сказала: «Нет, конечно, они разные бывают!». Хотя потом я стала сомневаться в своём абстрактном гуманизме. Мы вскоре увидели, что чеченцы проели все мозги доверчивым европейцам. Они нас русских оболгали перед всей Европой ради своих делишек. Они плели неимоверную ложь про русские власти, про какое-то неимоверное оружие, которое против них применяли, про то, что русские ловили чеченцев, сажали их в ямы и требовали выкупа у родных. Я даже расхохоталась, услышав такой перевёртыш. Я пыталась объяснить Элизабет, что русские могут убить, но держать в яме они не умеют. Зиндан – это восточная древняя чеченская развлекуха по добыче денег у русских, о ней ещё Лев Толстой писал. Ещё Лев Толстой описывал чеченцев как дикий народ, который работать не хочет и предпочитает разбой на дорогах, ловлю людей и вымогание выкупа за них. Они этим тысячи лет уже занимаются. Увы, бедная Элизабет обиделась на мой смех, она сказала, что нас русских наша власть зазобмировала, и что её чеченцы рассказывают о чудовищных пытках, которым их русские подвергали. Для того, чтобы понять ужас телесных повреждений, Элизабет и нужен был толстый медицинский словарь. Я сказала, что понятно, что чеченцам хочется пристроиться в жирную Европу на жирные пособия и в хорошие европейские квартиры с удобствами после их избушек из кизяка, и для этого они будут изо всех сил врать о своих болячках и страданиях, это у них чисто восточная хитрость такая. Любой прыщ или шрам будут объяснять пытками. Элизабет надула губки, и больше мы про чеченцев не разговаривали…
Меня Элизабет поселила в свою хипповскую эротичную комнату с двухъярусной кроватью, сын спал надо мной, но мой нижний этаж был весь в зеркалах и сбоку и сверху, наверное, для изысканной эротики. Ванная у Элизабет была тоже пикантной, дверцы не закрывались, одна из стен была из прозрачного кирпича… Европейская эротика… Ещё нас поразила лестница в доме – с питьевыми фонтанчиками на этажах, с лепниной и мозаичным панно в стиле модерн. Да, у них не было Шариковых и блокады, ЖЭКов и совка. Никто разруху не устраивал. Во дворе всё было в траве и цветах, цвели роскошные весенние деревья и плющи, свистели меланхоличные весенние птицы, над песочной дорожкой на верёвках сушилось бельё… В центре большого города…
Кузница поэзии
«Старая кузница» находилась в старинном средневековом квартале, в самом сердце Вены, в одной из кривых, мощённых булыжником улиц. Рядом с музеем, где можно посмотреть на грубые профессиональные приспособления кузнецов, был выстроен чистый белый куб, в нём с трёх сторон высятся друг над другом скамейки, в центре – небольшая площадка для выступающих литераторов. Выступления поэтов и писателей местного и международного разлива проходят практически каждый день. О мероприятиях существует информация в прессе, выступления литераторов оплачиваются за счёт грантов Евросоюза.
В первый же день мы отправились в «Старую кузницу», чтобы получить гонорар и познакомиться с начальством. В «Старой кузнице» в тот день зажигал Пригов. Ох уж эта тусовка, куда ни попадёшь, всюду знакомое лицо ты найдёшь. Многоликий Пригов представлял свою новую прозу. Проза у Пригова была очень скучная, если вещи назвать своими именами. Зал заметно ожил, когда Пригов стал отвечать на вопросы о жизни и смерти концептуализма, и прямо-таки закипел при заключительном аккорде, когда Дмитрий Александрович прочитал «Мой дядя самых честных правил» Александра Сергеевича в виде мантры с громкими завываниями.
Мне же сначала пришлось выступить в небольшом клубе «Виенцалле», почти как две капли воды похожем на наш «Борей». Андеграунды всех стран любят подвалы и цокольные помещения. Да и сама Вена чрезвычайно похожа на Петербург. Множество домов в стиле модерн с лепниной и маскаронами, много живописного сумрачного цвета стен, дворы колодцы с одинокой птичкой. Вот только без следов разрухи и без свинцовой пыли на стенах.
Перед тем как выступить в «Виенцалле», мы пошли с Элизабет и ещё целой компанией в Бургтеатр, на премьеру пьесы австрийской нобелевской лауреатки Эльфриды Елинек под названием «Ульрика и Мария Тереза». Одну из книг Елинек я читала на русском языке. Жёсткая проза. Театр меня порадовал публикой – такие же, как в России, интеллигенты, жаждущие испить культуры, милые девушки и юноши, мужчины и женщины, романтичные пары и упорные театралы-одиночки… Действо не отпускало ни на минуту, вызывало волнение даже без знания немецкого языка. Публике на первых рядах выдали плащи из полиэтилена. Действо было такое: два мужика оделись женскими лонами, в вытянутые меха, и оттуда кричали феминистические тексты. Потом вышло много голых мужиков, на сраме у них были маски хрюшек. Потом вынесли картонные карикатуры на верховную власть Вены и Австрии – на премьер-министра, канцлера и мэра, у них были пририсованы большие члены. Потом мужики стали кидаться красками, поливаться водой, устроили ужасное свинство на сцене и ещё пускали струи в зрителей первых рядов. Почему-то и так всё было понятно без знания языка, о чём это. Очевидно, постановка была в духе школы Мейерхольда. Много пластики тел, жестов, музыки, действа, эмоций. Я подумала – вот как надо читать стихи, чтобы люди, не зная языка, всё поняли.
И я так и сделала.
Небольшая аудитория в «Виенцалле» начала разогреваться и вспыхивать только от одной интонации и музыки стиха. Элизабет шепнула мне, что я превзошла все её ожидания, и стала мне подражать в манере исполнения. Мы получали по две порции аплодисментов и восторгов, первые от русского ритма и эмоций, вторые – от смысла стихов. Некоторые стихи вызывали бурное негодование. Один крепкий мужик вскочил, стал ругаться на немецком и стучать по столу кулаком. Другие стихи вызывали нарастающий восторг. Огромный человек по имени Мишель, байкерского вида, орал и стучал в ладоши над головой. Кончилось всё братанием. Из-за прилавка вышла женщина в белом переднике, типа женщина-буфетчица, она смахивала слезу, и бросилась меня целовать и обнимать. Я уже к этому привыкла, что мои стихи нравятся больше всего простому народу: охранникам, буфетчицам, пожарникам и официанткам, и тут было всё как в России.
Какой-то нервный человек с красивым голосом и размеренными глубокими интонациями – почему-то сразу было ясно, что он поэт,– подошёл ко мне и сказал, глядя в глаза, на немецком и английском языке: «Госпожа Дудина! Вы большой поэт! Хотя почему вы не знаете немецкого?!» Кто-то кому-то объяснял: «Ей не надо уметь говорить по-немецки, достаточно того, что она умеет хорошо писать стихи!» Мне этот нервный поэт понравился, и мне было жаль, что я не знаю языка. Похожий на лысого пирата грозный Гюнтер Гейгер, благодаря которому стихи мои были изданы, гордо кричал: «Это я её нашёл! В Петербурге, на Пушкинской-10». В-общем, вся эта очаровательная разношёрстная австрийская богема была охвачена каким-то жарким порывом и изумлением от того, что чьи-то стихи в наше время могут вызывать столько пронзительных эмоций. Особенно на «ура» пошли стихи о трупаре, олицетворяющем «разрывы линий» и гуляющем по Невскому, о бомжах, пьющих кровь из мента, о пламени эроса посреди револьюционных могил на Марсовом поле и про протруберанцы, которые на моей голове развеваются как гады.
В «Старой кузнице» мой вечер назывался «Путь на Восток». Кроме меня выступал Гюнтер Гейгер, он зачитывал главы из книги «Дельта Лены» о своём путешествии по Сибири, а также выступал со своей прозой австриец Александр Пир, чей дедушка был славянином. Из русских зрителей были Спирихин и джазовый музыкант Александр Фишер. Австрийская публика была разношёрстной, состояла из чинных дам в шляпках, девушек и юношей, любящих литературу, людей постарше, а также из виенцалльской пёстрой богемы. Мои стихи по-немецки читали Элизабет Намдар-Пушер и Рената Зунига, представительница «Старой кузницы». Рената сказала, что ей очень нравятся мои стихи, и что она хочет читать их вслух. Мы по пунктам обсудили каждое стихотворение, которое будет прочитано. Эта немецкая пунктуальность и щепетильное внимание к мелочам меня изумило.
Меня поразили строгие дамы в шляпках, сидевшие в первом ряду. Они привыкли к скучной поэзии и лица у них были ледяные. Но нам с Элизабет удалось их разжечь. Особо они разожглись при стихах о том, что любовь – это онанизм, и люди используют друг друга, мечтая о чём-то несостоявшемся. Дамы сначала чопорно смотрели на нас с Элизабет, а потом начали кивать головами и в конце уже почти вскрикивали: «Йя! Йя! Да! Это так!»
Перед моим выступлением на стену проецировался фильм Аси Немчёнок «Рваное небо», представлявший собой свободные видеоассоциации на тему моих стихов. Для тех, кто любит воспринимать через глаза более, чем через уши. Особенно всех привлёк кадр с голым мужчиной, снятым с тыла. Интересно, что Ася предвосхитила некое дуновение- вся Вена была наводнена плакатами с изображениями подобно снятого мужчины, правда он был не так красив, и его мучил некий крест на спине.
В конце вечера ко мне вышел огромный рыжий бородатый человек, очень похожий на Карабаса Барабаса, и дал мне от себя лично хорошенькую сумму денег.
По Вене
Потом мы шли по ночной Вене, Элизабет говорила мне: «Вот на этой улице мы два года выходили на демонстрации, стояли с плакатами и транспарантами. Вот тут мы ночевали в палатках, среди борцов активисткой была Эльфрида Елинек. Вот здесь была жаркая борьба с властями и полицейскими…» Я изумлялась. Мирная благополучная Вена представала как бесконечная арена борьбы народа с властями, общества с государством, народного рационального сознания о порядке и справедливости с жадностью и безответственностью правящей верхушки. Показательно то, что последняя в те времена часто проигрывала. Народ оказывался более сплочённым и более настырным. Самой главной победой Элизабет считает то, что австрийцы настояли на своём и не позволили построить на своей чудесной чистой земле атомную станцию.
Студент Макс, квартиросъёмщик Элизабет, отвёл нас на станцию метро Карлплац, которую захотел обязательно показать нам. Длинные скучные переходы были оживлены инсталляциями художника Кен Лума. На прозрачном пластике виднелись белые надписи. Под ними жили своей жизнью зелёные числа: одни поменьше, другие гигантских размеров. Их объединяло то, что последняя цифра, как правило, была живой, она или медленно сменялась другой или прыгала как зайчик. Одно число означало число лет, которое осталось до полного распада атомных отходов после аварии на Чернобыльской АЭС. Другое означало количество шницелей, съеденных австрийцами в этом году. Мы с сыном Сашей удовлетворёно погладили свои брюшки, в которых несколько штук из этого числа попало. Кстати, австрийские шницели были отличными, повара не жмотничали и отваливали на тарелку приличный шмат мяса с картошкой. Непривычно было то, что всё это приправлялось уксусом. Ещё одно число показывало количество мусора, которое жители Вены выбросили на данную минуту. Было количество людей на земном шаре, ежесекундно меняющееся. И так далее. Самым длинным было число пи, состоящее из бесконечных циферек, на табло высвечивались последние данные по поводу точного количества этих циферек.
Сама Вена поразила ощущением безопасности. Казалось, что тут можно безнаказанно и в любом виде гулять и ночью, и вечером, никто не тронет и не ограбит. Порадовала прогулочная зона вдоль Дунайского канала. Всюду на скамеечках сидели венские жители, очень напоминавшие структуру типажей Питера. Люмпен-интеллигенты дионисийского типа с корявостями поведения и судьбы, с бутылками и хохотками; романтические девы и юноши; одинокие любители здорового бега; старички, дышащие на природе; молодые родители с колясочками. Много было стариков, бегающих с двумя лыжными палками, они были похожи на сошедших с ума лыжников, которые бегают без лыж, когда снег уже растаял. Оказалось, что это новая европейская оздоровительная мода – «нордик волк», «северная прогулка», поддерживающая мышцы подмышек и сердца.
Экзотикой были несуразные мусульмане. На скамьях среди оживавшей серой австрийской природы встречались чудовищные бабы, замотанные в ткани с ног до пят. Они сидели этакими скалами, а физии их были похожи на дзоты с прорезями для пулемёта. Возле них прыгали детки, рядом порой сидел старик или муж восточного дикого вида с всклокоченной бородой. Эти люди были тут как перенесённые ковром самолётом из другой реальности, непонятно было, чего они тут делают, у них же там где-то осталось их родное приволье, иное солнце, иная пыль и дома, где они смотрелись бы адекватно и уместно. Чего они делают в изящной нервной утончённой Вене? Неужели будут слушать Моцарта и читать Гессе? Или это крутые специалисты в редких областях науки и техники? Что-то непохоже было. Эти люди были явно из деревенской глубинки Арабии. Их сюда еврокомиссары с протухшими от маразматического рационализма мозгами заселяли на расплод, для своих фашистско-коммунистических целей по смешению рас, а затем сокращению всех одним махом. Но прибывшие люди этого не понимали. Я размышляла о том, что у людей всё же есть выбор и судьба, и уж лучше чахлая Европа пусть вымирает в комфорте и эгоизме, чем вот так вот грубо её смешивать с дикими пришлецами. Брак старой маразматички и арабского жеребца карикатурен и аморален.
Встретились в Вене и настоящие бомжи, как и у нас возле вокзала, грязные, зашуганные, вонючие и хулиганистые, правда, их происхождение было неясное, вроде как из Румынии.
Электростанция Худентвассера показалась последним ярким архитектурным событием прошедшего века. Столько раскованности, свободы, чистоты чувства и идеи. Без всякой скаредности, ужимок, оглядок на моду или вкус заказчика. Взял, и увидел вот так вот. И поползли по серому цементу кровавые артерии, и из балкончиков полезла зелень, и узор вскочил на унылую техническую поверхность… Хорошо…
На улицах метками были шпили готических соборов. При ближайшем знакомстве оказалось, что всё это новодел, всё было снесено под чистую во Второй мировой. Но жители восстановили то, к чему привыкли они сами и их предки. Правда, вера в Вене была совсем в загоне, соборы использовались как здания для муниципальных собраний, концертов, выставок. В одном из приделов одного из соборов проходила кощунственная выставка про дикарей с голыми сиськами и задницами, обмазанными глиной. Когда голое тело преображено и воссоздано искусством – это одно дело, а фотография – это всё же совсем другое. Со вкусом и стыдливостью тут вышел прокол. В соборах встречались памятные плиты, посвящённые воинам, погибшим в первую и во вторую мировую бойню. На витражах некогда католических соборов нас поразили сцены с полосатыми заключёнными концлагерей, они декоративно страдали, и их кто-то освобождал. Картинки были смутные, и Элизабет как-то ничего толком нам не рассказала про смысл этих изображений.
Поразил парк неподалёку. Там стояли две чудовищные циклопические башни без окон и дверей, говорят, их построил Гитлер для неведомых целей, может, для запуска летающих тарелок, и башни эти до сих пор внушают ужас и никак не используются. Недавно вокруг них разбили парк, насажали молоденькие деревца вдоль ровных дорожек, сходящихся звёздочками. Солнце пригревало, деревца выпустили зелёные листики, все скамейки, а их было в парке очень много, были усижены людьми, греющимися на весеннем солнышке. Венские жители в парке выглядели как слёт весенних птичек.
Музеумы, чахотка и венский лес
Мы отправились в знаменитое венское кафе Музеум, сделанное по проекту Адольфа Лооса. Кафе в стиле модерн, немного похожее на внутренность старинного элегантного вагона, переносило в мир европейской литературы начала 20 века. В голове возникали нервные барышни с трудной судьбой, богемные эмансипированные дамы, истонченные полуголодные творцы с разных нив искусства, загадочные одинокие завсегдатаи, прикрывающие боязнь быть и своё одиночество газеткой и чашкой кофе. В тот апрельский вечер мы застали компанию, ужасно напоминающую питерскую сценку в вечернем кафе. Человек семь- может, преподаватели вуза, может, люди ещё какого-то интеллектуального вида труда, – зашли распить бутылочку вина, побаловаться кофе и десертами. Десертами и мороженым, кстати, нас, петербуржцев, не удивишь. Были и у нас свои сладости в жизни.
В компании выделялся старый бородатый интеллектуал в шляпе, элегантный, рыжеватый, с газетой, сигаркой и хулиганским блеском в глазах. Типичный венский завсегдатай, словно бы сошедший со старых рисунков и шаржей, или из кинематографа, повествующего о богемных трудах и днях. Джентльмен явно рвался пообщаться с нами, но, увидев нашу апатию, показал нам фак.
Нам с Сашей очень понравилось гулять по ближней к Вене горе, откуда открывается вид на раздвоенный в черте города голубой Дунай. Поражала идеальная чистота пригородной зоны.
Ни одной бумажки, банки, склянки. Всё в первозданности, велосипедные дорожки идеально выметены, деревья, кустики и травы – всё как в день творенья. Даже и хабариков не видно под ногами. Никаких самозахватов, парничков и огородиков. У подножья горы за загородкой из проволоки – участок сторожа этой горы, на нём – ослик, виноградник, похожий на ряд вверх тормашками посаженных саженцев, аккуратный домик… Из-под земли лезли сиреневые первоцветы, горные ручьи в тот год не журчали – пересохли от неправильной зимы. На вершине горы была обзорная площадка и ресторан прямоугольных форм, в стиле высокого западного модернового дизайна, который нас так поражал в советских фильмах.
Стояли очень жаркие по нашим северным меркам апрельские дни, было плюс 23, и все цветочки и листочки пёрли из-под земли, из клумб и газонов, из голых веток и вздутых почек, а потом жаркие дни сменялись очень холодными ночами. Повсюду слышались чиханье, кашель и всхрюкивания носом. И ко мне тоже приклеилась местная фирменная простуда, какие-то микробы злые, выпестовавшиеся в щелях гор, особо разжиревшие от повышенной солнечной радиации. Я чувствовала, что у меня набегает температура, и злобный простудный вирус заедает меня до костей. В голове в венском вальсе кружилась часовня Собисского, откуда христиане собрались воедино и освободили Вену от турок, ей навстречу бежал дом имени Карла Маркса, растянувшийся на километр и раскрывший свои комфортабельные объятия венской голытьбе в 30-х годах, дом Маркса сменяла теплоэлектростанция, возведённая Хундертвассером, с золотым шариком на трубе и красными прожилками на корпусах, похожая на сумасшедшую саксонскую игрушку…
Утром мы отправились в музей Леопольда. Особое впечатление на меня произвёл Эгон Шиле. В своих картинах он предвосхитил весь трагизм только что зародившегося, но уже зачервивевшего неимоверными страданиями 20 века. В его работах как какие-то гомеомерии, отзвуки, зародыши, проклёвывались стили и художественные системы Врубеля, Петрова-Водкина, Филонова… Узнаваемые, уже узнаваемые австрийские пейзажи – почему-то серо-охристые, тёплых оттенков, но со скрытой жуткой меланхолией, с каким-то спрятанным надрывным плачем под всеми этими декоративными сиропно-розовыми и лимонными цветами, какая-то щемящая душу экзистенция под наипрекраснейшими на земле пейзажами. Узнаваемы были убогие лачуги с черепичными крышами у взгорий, ныне превратившиеся в идеал и апофеоз жилищного счастья. Глубинно узнаваемы были мужчины и женщины, ужасно обнажённые, худые, эротичные, беззащитные перед лицом эроса, социума, войн и болезней, бесконечно одинокие, истощённые до костей, но по жилам которых течёт тёплая, жаждущая любви, кровь… «Человек похож на червяка, когда голый и бледный лежит под одеялом. Но при этом в нём по кольцам бежит кровь. Он горяч и покрыт тёплым паром».
Этажом ниже висели работы Эггера Линца. В монументальных квадратах арийские орлы, простые австро-венгерские парубки с лицами Штирлицов в исполнении красавца Тихонова, в белых льняных рубахах и коричневых шерстяных штанах, всё простое, исконное, от плодов земли, эти парни на картинах Эггера Линца молотили жёлтую рожь, жали её серпами, в общем, делали великое дело крестьянского извечного труда. Приятно было, что это делают не бабы, как в нашем русском искусстве, а крепкие ладные хозяева своего куска земли на Земле. В одной из последних его работ этих парубков, сдержанно приплясывающих, вела куда-то за собой Смерть. Эгон Шиле умер от испанки, гадких злобных грипповых вирусов, было ему всего 28 лет. Шёл 1918 год. Эггер Линц, так гениально изобразивший чистую мужскую трудовую мощь, которую, как крыс при помощи дудочки вела за собой смерть-крысолов, умер в 1928 году. Австрия того времени была наполнена гениями, предчувствовавшими своим открытым космосу нутром всё, что будет. Я не говорю о чересчур растиражированном Климте как эталоне венскости, чьё творчество всё тоже сплошь состоит из цветов, красоты, плоти и орнаментов, вьющихся на костях смерти.
В нижних этажах проходила выставка рисунков Германа Гессе. Гессе всю жизнь любил рисовать, ползал по горам с мольбертиком и акварелькой. Если бы он не был великим писателем, то мог бы быть средним крепким художником, рисующим в стиле своей эпохи. Мне стало жаль, что я забросила рисование с натуры после детской художественной школы. Это огромное удовольствие – елозить кисточкой по бумаге, следуя натуре и внутренней музыке души…
Я чихала от венской простуды так, что картины, казалось, вот-вот упадут. Сын Саша, благовоспитанный мальчик, шипел на меня: «Не чихай так громко! Картина упадёт с гвоздей, и нас арестуют!». Картины, кстати, были развешены так редко, с таким тактом и величайшим уважением, что каждый карандашный набросок казался весомой драгоценностью. Я приехала из России, из Питера, где всё чрезмерно, где таланта много, что навоза. Вспоминались сокровища Эрмитажа и Русского музея, способные свести с ума. Так густо налеплены они на стены, так много всего прячется в запасниках.
Но вернёмся к моему чиху. Я зашла в старинную аптеку и знаками стала объяснять старичку-аптекарю, что у меня звериный насморк. Он со знанием дела протянул мне волшебный спрей из множества трав, очень дорогой для русского кармана, но я не пожадничала и купила, и это лекарство очень помогло. Потом я брала его в поездки по Европе, и если кто подцеплял весеннюю европейскую простуду, то я давала это лекарство в нос, и оно быстро помогало.