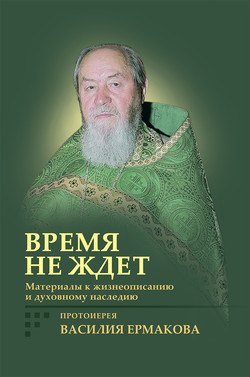Читать книгу Время не ждет. Материалы к жизнеописанию и духовному наследию протоиерея Василия Ермакова - Ирина Корнилова - Страница 5
Жизнь учил не по учебникам
Детские и юношеские годы
Концлагерь
ОглавлениеЛетом 1943 года наступило по-настоящему страшное время. Немцы стали забирать людей в Германию. В июле 1943 года Вася с сестрой Лидой попали в облаву. Вася успел взять с собой только рваные ботинки от пленных – где-то отец купил; икону Спасителя – отцовское благословение; Евангелие кто-то дал. В эту же облаву попал и священник Василий Веревкин со своей семьей – матушкой Варварой Николаевной и детьми Василием, Владимиром, Ольгой.
Пленных под конвоем гнали на Запад. В день проходили по восемь-десять километров, часто под налетами, бомбардировками советской авиации. Ни питья, ни еды не давали, лишь в деревнях отпускали на самопропитание. Ходили по домам, огородам – искали, что осталось из съестного в сожженных, брошенных деревнях. В Навле под Брянском всех посадили в вагоны. Всего было более трех тысяч угнанных – шестьдесят багажных вагонов по шестьдесят человек. Пленных ничем не кормили, только в Брянске дали по одной буханке хлеба на восемь человек. Условия были ужасные – ни встать, ни сесть. Партизаны постоянно минировали железную дорогу.
Проезжая Брянск, Почеп, Унечу, Вася видел, что храмы открыты, что храмы живут в оккупации, что народ этому очень рад. На захваченных территориях было открыто более восьми тысяч храмов.
В противовес немецкой пропаганде в 1943 году стали открываться храмы и на Большой земле – власти, слыша о духовном подъеме, решили показать народу, что и они не против религии. Но на всей неоккупированной территории Советского Союза было открыто менее тысячи храмов. Как правило, это были малюсенькие церкви где-то на кладбище, за чертой города. Известно, что священников так и не отпустили из лагерей и ссылок.
Тем не менее именно в это время, пусть и под давлением союзников, руководствуясь внутриполитическими и внешнеполитическими соображениями, Сталин начал восстановление практически полностью уничтоженной Русской Православной Церкви. Тогда же правительством был создан контролирующий орган – Совет по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР.
На оккупированной же территории особенно сияли храмы, открытые Псковской православной миссией[12]. В нее входили молодые священники из Латвии, Эстонии, Франции, отдавшие себя делу просвещения русских людей. В церковных школах изучали закон Божий, историю прошлого, читали книги и пели русские песни (немцы следили лишь за тем, чтобы не было никакой партизанщины). Храмы были заполнены. Но народ с удивлением и недоверием относился к священникам. Люди целовали батюшкам ризы, руки, щупали их, спрашивали: «Батюшка, ты настоящий?» Были и слухи о том, что священники подосланы, что они служат немцам. Отец Василий изучал этот вопрос, он искал подтверждение этих слухов, но нигде не нашел.
Почитаемая святыня Болхова, чудотворная икона «Взыскание погибших». Болхов, лето 1950 года (подпись под фотографией сделана отцом Василием, архив О. В. Ермаковой)
Русский народ весь в православии и в идее его. Более в нём ничего нет – да и не надо, потому что в православии – всё. Православие есть Церковь, а Церковь – увенчание здания и уже навеки… Кто не понимает православия, тот никогда и ничего не поймет в народе. Мало того: тот не может и любить русского народа, а будет любить его таким, каким бы желал его видеть. Обратно, и народ не примет такого человека как своего: если ты не любишь того, что я люблю, не веруешь в то, во что я верую, и не чтишь святости людей, то не чту и я тебя за своего. О, он не оскорбит его, не съест, не прибьет, не ограбит и даже слова ему не скажет. Он широк, вынослив и в верованиях терпим.
Прот. Василий Ермаков
Василий Васильевич Веревкин, сын протоиерея Василия Васильевича и Варвары Николаевны Веревкиных. 1947 год (архив О. В. Ермаковой)
Протоиерей Василий Васильевич и Варвара Николаевна Веревкины. Таллин, январь 1949 года (подпись под фотографией сделана отцом Василием (архив О. В. Ермаковой)
Священник Валерий Поведский с зятем В. И. Петровым и внуком Димой. 1958 год (архив В.И. Петрова)
Это великое дело духовного просвещения было уничтожено с приходом советской власти в 1944 году. Некоторые из священнослужителей ушли с немцами за кордон. Остальные остались встречать советскую армию. Этих мучеников за православие сослали в Сибирь. Там они и погибли.
Что касается национального возрождения, как писал отец Василий в книге «46 лет на службе у Бога», то после всех катаклизмов революции и гражданской войны, уничтожения целых сословий русских людей, в том числе и духовенства, время для этого тогда еще не настало. Двадцать лет безбожия и оголтелой атеистической пропаганды не прошли даром[13].
Вернемся в страшный 1943 год, к судьбе болховчан, попавших в неволю. Пленных хотели везти в Германию, но повернули на Эстонию, и первого сентября 1943 года они очутились в концлагере Пылькюла в ста километрах от Таллина. Большую часть пленных отправили на каторжные работы в Германию, остальных использовали в Эстонии. Их распределили по заводам и крестьянским хозяйствам. Политика фашизма была ярко выражена в одном из выступлений Гиммлера: «Русские люди должны быть увезены в Германию, став ее рабочей силой». План этот осуществлялся неукоснительно и жестоко.
Под Таллином было три концлагеря: Клоога, Пылькюла и Палдиски. В основном в них находились жители Ленинградской, а затем и Орловской областей. Заключенных содержали в нечеловеческих условиях: практически не кормили, поили тухлой или ржавой водой. Смертность была очень высокой из-за болезней и голода. Спали вповалку на земле. Ложишься вечером, поговоришь на ночь с соседом, а утром он уже остывший. На зеленой полянке около Пылькюла каждый бугорок напоминает могильный холмик.
В справке, выданной батюшке в Национальном архиве Эстонии, лагерь Пылькюла, в котором он содержался, значится как карантинный лагерь военных беженцев, в который отправляли на принудительные работы. Получив такую справку, батюшка страшно расстроился. На самом деле, как говорил он, это был настоящий концентрационный лагерь, в котором применялись пытки, в котором, так же как и в знаменитом зверствами нацистов лагере Клоога, устраивались костры для сожжения людей. И здесь мы видим подмену и замалчивание исторических фактов. Беззастенчиво завышая количество жертв «советской оккупации», эстонские историки преуменьшают число жертв оккупации нацистской. Известно, что Эстония во время войны была покрыта сетью концлагерей. Охраняли лагеря эстонские полицейские, они же, вместе с немецкими эсэсовцами, участвовали в ликвидации концлагерей перед приходом советских войск.
Из протокола осмотра концлагеря Клоога, произведенного прокуратурой Эстонской ССР от 29 сентября 1944 года: «В 700 м к северу от лагеря, на поляне, в 27 м от лесной дороги расположены на одной линии, на расстоянии 4 м друг от друга, четыре костра, из которых первый в приготовленном виде, а остальные три сгоревшие. Площадь костров 6 на 6,5 м. Костры состоят из 6 положенных на землю бревен, поперек которых уложен ряд жердей, на которые в свою очередь уложен ряд 75 см сосновых, еловых поленьев. Посередине костра вбиты четырехугольником четыре жерди на расстоянии 0,5 м друг от друга. На жерди редко набиты тонкие поленья, что, по всей вероятности, должно было изображать трубу. На сгоревших трех кострах сохранились с западной стороны углы костров. На нижнем слое дров лежат трупы со сгоревшей нижней частью туловища. Трупы лежат лицом вниз, некоторые из них – со свесившимися вниз руками. Два трупа с лицами, закрытыми руками, ладони рук плотно прижаты к лицу и пальцами закрыты глаза. По сохранившимся частям трупов видно, что на костре трупы находились по 17 в одном ряду и таких рядов на костре 5, причем головы трупов второго и следующих рядов лежат на ногах предыдущих рядов. На первом слое трупов лежит слой дров, и на дровах – второй слой трупов…»[14]
В 2005 году памятник жертвам концлагеря Клоога был осквернен эстонскими неонацистами.
Узники лагерей прекрасно понимали, что их ожидает. Известно, что в лагерном режиме мог уцелеть лишь один из десяти детей. Вася ставил икону Спасителя – ту самую, которой благословил своих детей Тимофей Тихонович, – на камень и молился своими словами: «Господи, помоги мне выжить в это страшное время, чтобы не угнали в Германию. Чтобы увидеть своих родителей». Эту икону батюшка хранил всю жизнь[15].
Слава Богу за то, что людей в этом страшном горе поддержало эстонское православное духовенство.
Немного остановимся на православной жизни Эстонии. В 1941 году, во время немецкой оккупации, митрополит Эстонский Александр (Паулус) вышел из Прибалтийского Экзархата Русской Православной Церкви и получил от германских властей регистрацию как предстоятель Эстонской Апостольской Православной Церкви. Против этого выступил епископ Нарвский и Изборский Павел (Дмитровский), призывавший православных Эстонии не разрывать связи с Матерью-Церковью. Но раскол произошел. В Эстонии в 1942–1944 годах существовали две епархии: Таллинская, окормлявшая эстонские приходы, во главе с митрополитом Александром, и Нарвская, окормлявшая русские приходы, во главе с епископом Павлом. Это было трудное время, но владыка Павел, не испугавшись угроз со стороны эстонских властей, сохранил верность Московскому Патриархату[16], что позволило сохранить почти все русские приходы.
В годы Второй мировой войны владыка Павел добился разрешения у германского командования на духовное окормление и оказание помощи заключенным лагерей, находящихся на эстонской территории. Немцы в личных интересах не препятствовали деятельности священников, стремясь представить себя в глазах населения защитниками веры от коммунистического режима.
Под руководством владыки Павла священнослужители посещали лагеря для беженцев и перемещенных лиц, совершали там богослужения, крестили, хоронили, привозили одежду и продукты. В лагерях Клоога, Пылькюла, Палдиски, Вильянди трудились протоиерей Иоанн Богоявленский (впоследствии первый ректор возобновленных Ленинградских духовных школ, а с 1947 года – епископ Таллинский и Эстонский Исидор), священник Михаил Ридигер (отец Святейшего Патриарха Алексия II) и другие. Архиепископ Павел сам посещал лагеря русских военнопленных, оказывал им помощь. Он твердо защищал интересы русских людей перед немецкими властями[17].
Священник Михаил Ридигер горячо поддержал владыку Павла. С первых же дней гитлеровской оккупации он стал посещать концлагеря, считая это своим христианским долгом. Среди таких лагерей был и лагерь Пылькюла, в котором находились Вася и Лида Ермаковы. Впервые отец Михаил приехал в лагерь приблизительно через две недели после их прибытия. Он привез переносной престол, чашу, антиминс. Нашелся даже хор из беженцев, изгнанных из-под Ленинграда. В бараке выделяли, как правило, комнату или просто отгораживали закуток. Там устанавливали престол, на котором и совершалась литургия. Отец Михаил, как правило, брал с собой прислуживать своего сына Алексея. Так Василий впервые встретился с Алексеем Ридигером.
Вася сам воочию убедился, каким благом было то, что они не остались брошенными священниками города Таллина. По воспоминаниям батюшки, самой яркой личностью среди них был отец Михаил.
Вася стал его духовным сыном, как он говорил потом, «по-настоящему». Отец Михаил давал духовную теплоту и крепость своим подопечным, помогая им пережить выпавшие на их долю испытания. Он запечатлел в сердце Васи яркий образ любви к Богу и народу.
Среди оказавшихся в лагере были и священники: отец Василий Веревкин, отец Иоанн Попов, отец Валерий Поведский (духовный сын отца Алексия Мечёва, а затем отца Сергия Мечёва), диакон Петр Никольский. Таллинское духовенство, особенно отец Михаил, стало хлопотать об освобождении находящихся в лагере священников и их семей. Как говорил батюшка, за любовь, за молитвы отца Михаила Ридигера, за отеческую заботу отца Василия Веревкина, приписавшего его с сестрой к своим детям, они смогли освободиться из лагеря.
Владимир Иванович Петров, зять священника Валерия Поведского, записал воспоминания людей, лично знавших отца Михаила. Они были опубликованы в журнале «Балтика» в 2006 году.
12
Псковская православная миссия (1941–1944) – пастырско-миссионерское учреждение в составе Московского Патриархата Русской Православной Церкви, ставившее задачу возрождения православной церковной жизни на северо-западе оккупированной Вермахтом территории РСФСР; создано в августе 1941 года при содействии германской администрации митрополитом Виленским и Литовским Сергием (Воскресенским). Действовала на оккупированной части епархий Русской Православной Церкви: Ленинградской (Санкт-Петербургской), Псковской и Новгородской.
13
Ермаков В. Т., прот. 46 лет на службе у Бога. СПб., 1999.
14
Протокол осмотра концлагеря Клоога // ГА РФ. Ф. 7021. Оп. 97. Д. 17а. Л. 12–13.
15
Ермаков В. Т., прот., Митрофанов Г. Н., прот., Гусев Б. С. С Богом в оккупации. СПб.: Агат, 2002. С. 103.
16
Только в 1945 году было восстановлено каноническое единство Эстонской Православной Церкви с Московским Патриархатом. Главой Эстонской Православной Церкви стал архиепископ Таллинский и Эстонский Павел (Дмитровский).
17
На оккупированной немцами территории Эстонии было создано 102 лагеря военнопленных; 48 концлагерей, тюрем, гетто и лагерей для мирного населения (пересылочные лагеря). В концлагерях, тюрьмах, гетто и лагерях для мирного населения содержалось 53 199 человек. В годы войны с территории Эстонии в Германию было вывезено 74 226 граждан. В период с 1941 по 1944 год в Эстонии было убито от 120 до 140 тысяч евреев, русских, украинцев, белорусов и людей других национальностей.