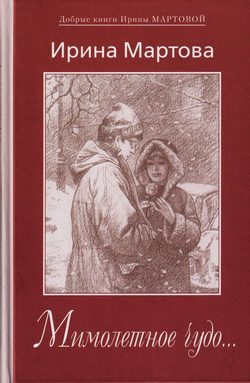Читать книгу Мимолетное чудо… - Ирина Мартова - Страница 5
Милосердия ради…
Все будет хорошо…
ОглавлениеНаконец в избе все угомонились.
Уснули взрослые дети, устало разметавшись на высоких пуховых подушках, сладко засопел в своей колыбельке полуторагодовалый карапуз Митька, за печкой, на широкой лавке, наконец угомонился старик-отец.
Стало тихо-тихо.
И в этой легкой, теплой, ночной тишине деревенской избы лишь слышалось, как потрескивают дрова в древней, еще прадедом сложенной изразцовой печи, как в теплых сенях вздыхает недавно народившийся теленок, как повизгивает во сне крохотный щенок, принесенный дочерью от соседей, да как редко, но звонко капает вода из медного рукомойника, купленного покойным мужем по случаю в автолавке, раз в полгода заезжающей в их далекую деревню, расположенную в стороне от широких и удобных дорог.
Любаша вздохнула.
Она любила эти ночные часы, когда вся их большая семья, притомившаяся за день, засыпала. Тогда наступали те редкие мгновения, когда домашние дела переделаны, животные накормлены, печь жарко натоплена… Всего и не перечислишь, что женские проворные руки за день делают, да и зачем…
Главное, вот оно – эта тишина!
Любаша прошла по чистому деревянному полу, выскобленному третьего дня добела, присела у окошка на лавку и посмотрела в окно.
Ой и вьюжно!
Так и метет, так и метет… Уж, поди-ка, неделю завывает да постанывает за окном хозяйка-метель. Так и злится, так и заносит, ох и сердита нынче зима!
Любаша покачала головой, глянув во двор.
Ить вот только вчера они с Федькой, старшим сыном, чистили перед сараюшками и погребом. Да куда там! Ни тропинок, ни дорожек… Все сравняла, замела, запорошила налетевшая метелица. И откуда в ней силы-то столько? Любаша усмехнулась. Говорят, что у человека больше… Ан нет! С природой шутки плохи…
Огромная, мутная луна висела прямо над огородом.
Словно подсматривая за людьми, она сегодня щедро одаривала их своим тускловато-безжизненным светом. И от этого и огород, и двор, и крыша погреба казались не белоснежными, а желтовато-грязными.
«Ох, – вдруг подумалось Любаше, – и страшно ж теперь в лесу… Попадешь, так и не выйдешь… Верная смерть!»
Неугомонные мысли беспокойно метались в уставшей от дневных забот голове. Их ход объяснить было нельзя, да и не нужно…
Вдруг вспомнился погибший прошлым летом муж. Митюшке, самому младшему, тогда едва-едва год исполнился. Любаша всхлипнула, горькие слезы полились ручьем и на подбородок, и на шею, и на руки… Ах, беда-беда!
Женщина приподняла фартук, повязанный с самого утра, взялась за кончик и вытерла лицо. Но отчего-то так проняло ее сегодня, так душу разбередило, что она никак не могла успокоиться. Всхлипывала, сморкалась, хлюпая носом, что-то шептала, покачивая головой… Рыдания так и рвались из груди: и мужа, так рано погибшего, не хватало, и себя, горемычную, жалко, а детей четверых, сиротинок, еще жальче…
Расстроившись, Любаша закрыла лицо фартуком, уже повлажневшим от ее слез, и зарыдала по-бабьи, чуть подвывая да постанывая.
В горнице послышались шаги. Шлепая босыми ногами по выскобленным половицам, в кухню вошел старший сын. Заспанный, взлохмаченный, он щурился спросонья, пытаясь понять, что случилось. Любаша, никак не хотевшая его расстраивать, поспешно обтерла лицо и удивленно вскинулась:
– Ты чего, милок?
Но парень, ничего не ответив, пристально поглядел в заплаканное, покрасневшее и распухшее лицо матери, прошлепал по кухне и присел рядом с ней на лавку:
– Мам, что плачешь?
Любаша, ничего не ответив, опустила голову.
– Папку вспомнила? – сын сдвинул белесые брови. – Или болит чего?
Нежность захлестнула изболевшееся сердце матери. Она обняла своего старшего за плечи. Вот она – опора и надежда!
– Не бойся… Это я так, Федюшка. Все у нас в порядке.
Сын внимательно глянул на нее:
– Ты не горюй, мам… Я вас не брошу. Ты только скажи, я все сделаю. Ты только не плачь…
Горячие слезы опять навернулись на глаза. Любаша хлюпнула носом:
– Деточка ты моя, кровинушка… И чтоб я без тебя делала!
Она уткнулась в худенькое, совсем мальчишеское плечо своего шестнадцатилетнего сына и покачала головой:
– Ой и лихо нам, сыночек… Но не бойсь, сдюжим мы, выстоим. Нас вон сколько! Мы с тобой, да Степка с Маринкой, да Митюшка еще подрастет… Не сдадимся, не пошатнемся!
Федька хмуро молчал. Жаль ему было мамку, так жаль!
Отец, кинувшийся летом спасать тонущего пьяного мужика, и дурака этого не вытянул, и сам не выплыл. Ох и кричала мать там на берегу! Еле соседки отлили водой. Да и он, Федька, не сдержался, сцепил зубы, сжал кулаки до боли, а не сдержался. Слезы текли как из небесной прорехи. А он и не стыдился. Разве горя можно стесняться?
Только мамку жалко.
Да и за этих, что сопят в горнице, тоже душа болит.
А как не болеть: Степке-то только десять, а Маринке и того меньше – восемь, а уж Митюне – так и совсем полтора года.
Федор вздохнул и скосил глаза на притихшую мать.
Та, уже вроде оправившись, подбирала волосы под косынку.
Сын улыбнулся: «Ох и хороша у нас мамка-то! Ишь, красавица…»
Любаша встала, налила в кружку свежей колодезной воды, глотнула, вытерла ладошкой рот и, поджав губы, опять присела на лавку. Помолчала, а потом вдруг обернулась к сыну и прошептала:
– А давай запоем? А, сынок?
Федька даже вздрогнул от неожиданности:
– Да ты чего, мам? Ты время гляди сколько! Всех по-перебудишь…
– А чо? Помнишь, как мы с отцом пели? На лугу, на выпасе, по вечерам… Помнишь?
Федор опустил голову и кивнул. Конечно, он помнил… И отца, сильного и доброго, и мать, красивую и счастливую, и их песню, звонкую, легкую, плывущую над деревней…
Враз все рухнуло. И отца нет. И мамка плачет по ночам. Федька подумал, подвинулся ближе к мамке и пробормотал:
– А чего?! Давай запоем… Затягивай.
Любаша кашлянула, чуть напряглась, выпрямила спину, улыбнулась и почти шепотом вступила:
Ой, то не вечер, то не вечер,
Мне малым-мало спалось,
Мне малым-мало спалось,
Ох, да во сне привиделось…
За окном выла и выла озлобившаяся на землю вьюга, заметала пути-дороги ледяной поземкой, рвала ставни на окнах да выстуживала теплые хлева, где коротала длинные зимние ночи домашняя скотина.
Наметала огромные сугробы, вырисовывала чудные узоры на стеклах, застывала ледяной коркой на срубах старых колодцев, остервенело хлопала воротами да калитками…
Зима свирепствовала.
А в маленьком домишке на окраине деревни, в полутемной комнатушке сидели за столом мать и сын. И тихонечко пели…
И неслась по дому, по деревне, по миру эта старая-старая песня, спасавшая от беды и лиха и наших прадедов, и дедов, и родителей…
Любаша с Федором пели с таким отчаянием, с такой душевностью, с таким трепетом, словно очищали этой песней и себя, и свои израненные души, и набирались сил, и учились заново жить.
Разгоралась зимняя заря.
Метель улеглась. Огромные сугробы до половины завалили небольшие оконца, дым из труб темными клубами валил в чуть розовеющее небо.
Деревенское утро занималось…
Любаша, как всегда, суетилась по дому: мало ли в хозяйстве дел… Но усталости она не чувствовала. На душе сейчас было спокойно и тихо.
Теперь она точно знала, что все у них будет хорошо.
Они выстоят…