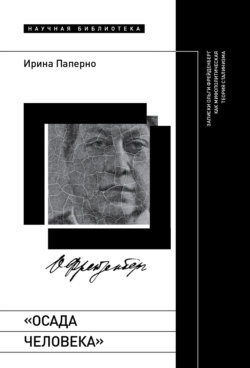Читать книгу «Осада человека». Записки Ольги Фрейденберг как мифополитическая теория сталинизма - Ирина Паперно - Страница 10
3. БЛОКАДА (1941–1945)
«Наша драма была в том, что нас заперли и забили в общий склеп»
ОглавлениеИтак, Фрейденберг рассуждает о своей семейной драме – и одновременно о драме отношений человека с государственной властью – в ключе политической антропологии, выдвигая весомые теоретические заключения. Она сравнивает блокадный быт, в условиях которого жили они с матерью (и люди вокруг них), с тюремным заключением, причем в центре внимания опять оказывается тема физиологических отправлений в ситуации насильственной совместности:
Наша драма была в том, что нас заперли и забили в общий склеп. Цивилизация поняла индивидуальные особенности каждого человека и соорудила дома, квартиры, комнаты, как столовая, гостиная, кабинет, спальня, детская. Она поняла, что человек – не скот; что самых близких людей нужно отделять и уединять. Совместное, в кучу, проживание было изобретено цивилизацией как форма государственной кары за преступление. Только в тюрьме люди скучены; если они в одной и той же комнате совместно проводят день и спят, и испражняются тут же, где едят, – то это и есть тюрьма. Тирания создала из этого нормативный быт (XVI: 119, 6).
Фрейденберг приходит к важному выводу: находясь в условиях, когда люди, запертые в замкнутом пространстве, вынуждены есть и испражняться на виду друг у друга, блокадное население оказалось в ситуации, подобной тюрьме. Еще более важным является вывод о нормализации ситуации тюремного заключения.
Фрейденберг обращается к идее нормализации исключительного в блокадном быту неоднократно, приводя подробную аргументацию. Так, она рассуждает, что если в начале катастрофы «большевики» растерялись, потом они пришли в себя и «объявили непереносимое, исключительное состояние – нормой»:
Было как бы декретировано, что все обстоит «в основном благополучно» и только имеет отдельные «неполадки», «трудности» и «лишения». Тем самым методы временных пыток получали постоянство и узаконение как один из компонентов жизни. Человеческая природа отменялась. Есть не нужно было. Голодание было признано нормативным явлением (XIV: 89, 47).
Она поясняет идею нормализации и на другом материале, описывая ставшие бытовым явлением артиллерийские обстрелы гражданского населения. (Именно в этом контексте она приравнивает два тиранических режима, Гитлера и Сталина.)
Это двойное варварство, Гитлера и Сталина, продолжалось теперь изо дня в день, часами по всем районам одновременно. Кровь стыла в жилах города.
История знала осады и катастрофы. Но еще никогда человеческие бедствия не бывали задуманы в виде нормативного бытового явления (XVIII: 138, 10).
Понятие нормализации катастрофы позволяет ей предположить, что русский, или советский, человек погибал не так, как «европеец». Советский человек «обладал полным безразличием к смерти» (XII-bis: 23, 62). В другой раз она пояснила: «Он подчинялся обстрелам и молча умирал в расцвете дня и здоровья, как умирал в застенках чеки, в изнуреньях концентрационных лагерей» (XVIII: 138, 10–11).
За этим следует новый вывод. Фрейденберг рассуждает о том, как осажденный «русский человек» относится к другому:
Но там, где русский человек оставался с глазу на глаз не с властью, а с человеком, он становился зверем. Из него выпирал весь его рабский терпеливый крик. Грубость и злоба женщин в очередях, на рынке, в трамвае, у дворового крана была поразительной, изумлявшей своими дикими формами (XVIII: 138, 11).
Такая динамика взаимоотношений между людьми кажется ей результатом тиранической власти. Будучи врагом другому человеку, русский человек оставался кроток по отношению даже к мелким, бытовым представителям власти:
Власть нещадно мучила их, этих морально опустошенных людей, выветренных дотла. В отношении к наглым продавщицам, к завмагам, к наглым управхозам, они были кротки пуще Франциска Ассизского. Малейший протест против властей, даже самых микроскопических, вызывал их бурное и злобное к «протестантству» заступничество за власть (XVIII: 138, 11).
Так, на материале блокады Фрейденберг анализирует диалектику доминирования и подчинения в советском обществе, от отношений между запертыми в одной комнате членами семьи до взаимодействия между продавцом и покупателем, управхозом и съемщиком.
И в блокадных, и в послевоенных записках Фрейденберг с болезненной настойчивостью пишет о своем разочаровании в людях, и, как она сама понимает, она склонна плохо говорить о близких. При этом она делает обобщения о драме человеческих отношений как части политической системы сталинского государства:
Плохие люди есть везде, во всех странах. Зависть, клевета, интриги у всех наций на свете, как испражнения – у всех милордов и миледи. Это верно, но нигде никогда эти духовные нечистоты не носят, как при Сталине, характера организованной общественной системы. Здесь человека травят, гнетут, удушают и преследуют в официальном, узаконенном порядке, всем государственным аппаратом во всей его страшной мощи (XVII: 129, 19).
Она приходит к выводу, что именно давление государства приводит к враждебным отношениям между людьми: «эта сталинская система была такова, что в ней находили питательную среду самые страшные людские бактерии – продажность, предательство, ложь, корыстолюбие, подлость» (XVII: 129, 20).
Эти теоретические рассуждения о свойствах власти прерывают рассказ об отношениях Фрейденберг и ее матери со студенткой-комсомолкой Ниной, которая делилась с ними своим военным пайком. Так сталинское государство определяло всю жизнь человека.
Однажды, в ноябре 1943 года, раздраженная тем, что в годовщину революции имя Сталина постоянно повторялось по радио, Фрейденберг разразилась замечательной тирадой о вездесущности самого Сталина:
Это был Сталин туда и Сталин сюда, Сталин тут и Сталин там. Вся жизнь людей, весь быт людей, весь отдых людей фаршировались, как колбаса, этим Сталиным. Нельзя было ни пойти на кухню, ни сесть на горшок, ни пообедать или выйти на улицу, чтоб Сталин не лез следом. Он забирался в кишки и в душу, ломился в мозг, забивал собой все дыры и отверстия, бежал по пятам за человеком, звонил к нему в комнату, лез в кровать под одеяло, преследовал память и сон (XVIII: 156, 85).
Именно каждодневная бытовая рутина послужили для Фрейденберг материалом для крупных исторических обобщений:
Не нужно описывать сражений и кровопролития, великих мук и дел. Достаточно для освещения эпохи показать обыкновенную повседневность в ее среднем, самом обычном уровне (XVIII: 152, 72).
Такие идеи, как нормализация исключительного в бытовой жизни, вражда («война») всех против всех (в семье и на улице) и всепроникающий характер власти Сталина, который забирался человеку в постель, в уборную, в душу, в кишки, станут опорными принципами той общей теории сталинского государства, которую, начиная с блокады, Фрейденберг разрабатывает в своих записках.