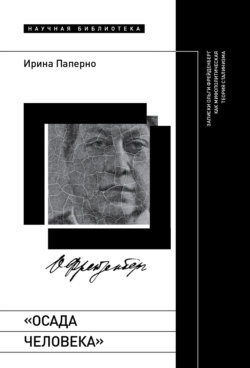Читать книгу «Осада человека». Записки Ольги Фрейденберг как мифополитическая теория сталинизма - Ирина Паперно - Страница 9
3. БЛОКАДА (1941–1945)
«Сталинский кровавый режим и слепота матери замучили, как в застенке, мою жизнь»
ОглавлениеНа протяжении всех блокадных записок Фрейденберг подробно описывает тяжелую драму своих отношений с матерью, и описывает в политических категориях, как вариант тирании.
Уже в первой блокадной тетради она пишет о психологической регрессии, об изменении ролей в семье, об обидах и обвинениях, о круге взаимного раздражения: «С некоторых пор мама становилась очень раздражительна. <…> Как ребенок, она считала виновной во многом меня и совершенно не понимала причинности вещей. Я раздражалась этим» (XII-bis: 24, 65).
Фрейденберг немедленно обобщает: в ситуации голода и бытовых мучений «в каждой семье шла эта разрушительная работа ссор, неприязни, ожесточения» (XII-bis: 24, 66). То же самое было повсюду:
В каждом доме, в каждой семье происходило то же самое в самых отвратительных формах. Люди обезумели от голода и подорванных сил. Сходили с ума, плакали, публично визжали, дрались, в трамваях увечили друг друга (XIV: 80, 26).
День ото дня она фиксирует ход такой разрушительной работы в собственной семье и в своем сознании. «Моя мысль постоянно работала над взаимоотношениями с матерью. Я думала об этом днем и ночью, на улице и в очередях, за всякой работой и роздыхом…» (XV: 118, 35)
Она приходит к парадоксальному выводу, что именно благодаря своей слабости и зависимости мать доминировала над сильной дочерью: «…она была беспомощной, бестолковой, лишенной инициативы и смелости. Не командовать бы ей, а подчиняться и покорствовать; так нет, она сломила меня…» (XIV: 80, 24–25)
Фрейденберг исследует воздействие власти на человека, как в государственной сфере, так и в интимной. Она внимательно отслеживает диалектику подчинения и доминирования. (Именно в этом смысл поразительного замечания в дневниковой записи от 27 мая 1942 года, процитированного выше: «Сталинский кровавый режим и слепота матери замучили, как в застенке, мою жизнь» (XIII: 59, 90).)
От нее не укрылись парадоксальные аспекты ситуации; она понимает и то, что обвиняла мать в тех низких эмоциях, которые она сама испытывала по отношению к ней: «Я страдала от того, что в мою жизнь вошла эта низкая стихия аффекта и внесла безобразие и дисгармонию в мою чистую сферу; за это я сердилась на мать и была унижена ею» (XIV: 80, 25). Но рефлексия не облегчала ее эмоционального состояния: «Моя ожесточенность шла в прямой пропорции к анализу, который я день и ночь производила над матерью и нашими отношениями» (XIV: 80, 25).
Прибегала она и к средству, которое достойно не исследователя, производившего анализ, а «древнего человека» (но и это не помогало): «Я призывала бога терпенья. Но где он, как его имя? Такого бога не было» (XIII: 44, 38).
Документируя, как они жили, день за днем, месяц за месяцем, она фиксирует меняющуюся оценку и себя, и другого:
Мама теряла душевное равновесие. Ее раздражительность становилась патологической. Она мучила меня <…> Она винила меня во всем <…> Я терпела, сносила и теперь, как раньше (XIII: 44, 37–38).
Но и я уже была не собою прежней. Мой тихий нрав, мое терпение были утеряны. Чахлая, злая, с отвислыми щеками, без груди и бедер, я проходила через ожесточенье и раздражительность (XIV: 80, 25).
Фиксирует она и другие моменты, другие эмоции:
Мы лежали рядом по вечерам, мы сидели рядом у печки; мама жаловалась мне на самое себя; мы все прощали друг другу и друг друга жалели и понимали (XIII: 44, 39).
Но были и другие часы. Тогда мы открывали друг другу души, и одна находила одинаковые переживания в другой, и мы вместе ужасались и скорбели (XIV: 80, 25).
В течение всех блокадных записок Фрейденберг документирует и эту диалектику «ожесточения» и «жалости»36.
Сцены, ссоры, укоры, крики, попреки, обвинения и обиды занимают огромное место в записках, и, фиксируя их, Фрейденберг понимает и тривиальность каждого конкретного повода, и огромную значительность этих происшествий. Они спорили о трех картофелинах (поджарить их на остатках льняного масла, чтобы было второе, или положить в суп), о чае (дочь считала, что не надо столько пить), о преимуществах картошки и крупы перед хлебом («мама алкала хлеба») (XVIII: 152, 70). Наступил момент – бытовая ссора в кухне, начавшаяся со спора о порции гороха, – когда Фрейденберг испытала «голый аффект», испугавший ее своей интенсивностью: «Мне казалось, добром этого не кончить: „Или я ее убью – или она меня“» (XIV: 93, 61). Чтобы справиться со своим состоянием, она схватила листок бумаги и сделала запись «для этих записок» (XIV: 93, 61).
Фрейденберг имела основания беспокоиться. В записках она описала историю женщины, близкого друга семьи, Раисы (нет нужды называть ее фамилию), которая «в припадке аффекта» привязала свою мать к стулу и подожгла квартиру; погибли обе. Раиса заранее отвела ребенка в ясли, но когда Фрейденберг с подругой наконец нашли эти ясли, они узнали, что девочка умерла от кори (XIII: 39, 19; XIII: 58, 86–87: 64, 105–107). Позже она вспоминала «эту потрясающую семейную драму», когда ее вновь настигали «больные мысли и чувства» о матери (XVI: 119, 8–9).
Фрейденберг живет в сознании, что создавшаяся ситуация является для нее неприемлемой, и именно в этой связи она прибегает к метафоре, которая впоследствии стала заглавием ее блокадных записок: «осада человека».
Я считала невозможным сожительство двух близких людей в обстановке ссор, молчанья, забастовок, деланья «назло». Это было мне невыносимо, эта духовная неопрятность и осада внутри семьи. Но она крепко сидела и здесь, пробираясь еще глубже, в самое сердце человека, удушая и преследуя его везде, даже наедине, даже ночью, даже в своем глубоком «я» (XIV: 106, 109).
Как и в другие моменты, Фрейденберг отождествляет здесь состояние города с состоянием человека и семьи, отслеживая последствия «осады» внутри семьи и в самом глубоком «я».
Работая мыслью над взаимоотношениями с матерью, Фрейденберг описывает свои эмоции одновременно и с психологической, и с политической точки зрения. Так, анализируя историю семьи, она постепенно приходит к мысли, что причины блокадного ожесточения лежат в их прошлом и что в бессознательном («в глубине, неподсудной сознанию») она обвиняет мать в «тирании». (Фрейденберг использовала то же слово в применении к государственной власти: «Осадное положение, созданное тиранией».) Ей кажется, что во все время их совместной жизни мать доминировала над ней и вторгалась в ее жизнь:
Я не прощала ей тирании, с какой она разрушала все здание моей внутренней жизни. Она вторгалась в любовь <…> Она вторгалась в мои дружбы и воинственно становилась между мною и моими друзьями. Она подтачивала мою науку, сделав меня прислугой (XV: 118, 35).
Фрейденберг понимает, что такие ретроспективные суждения не улучшают ее положения, но и это не приносит облегчения:
Этот ретроспективный взгляд на жизнь, даром загубленную, впитанную без пользы чужой душой, жег меня днем и ночью. Нигде я не могла от него укрыться. Он настигал меня на улице, в постели, за столом и за книгой, он рос во мне, подобно злокачественной опухоли, и наполнял меня ожесточеньем.
Мать между тем находилась в состоянии постоянного и язвительного, возбужденного раздраженья. В такой атмосфере мне приходилось жить. Она во всем корила меня. Если мое состояние было мирное, я вечно в чем-то оправдывалась – <…> в отсутствии канализации, в плохих макаронах, в войне (XV: 118, 36).
Из этого описания, опирающегося на фразеологию войны и мира, кажется, что состояние войны установилось и в семейном быту.
Но вот от ретроспективного взгляда на жизнь Фрейденберг возвращается к нынешнему моменту. Ожесточение сменяется жалостью. Записки изображают состояние эмпатии: она начинает «покидать себя» и входить в положение матери – положение, определяемое административным термином «иждивенка»:
Потом я смягчалась и жалела. Моя мольба просила теперь одного: чтоб я могла забыть, простить; победить светом дракона в своей душе. И я стала перевоплощаться в материнскую природу и покидать себя. Я почувствовала себя хилой, ветхой, дряблой. Иждивенка – вот кто я была, лишенная самостоятельности, одинокая в душе, все утратившая, всех пережившая, в тягость и мученье мне, единственному живому дитяти.
Я трепетала от состраданья. Все я делала, чтоб изменить этот роковой ход вещей.
Получая продукты, я поровну делила между нами, чтоб она ела и пила, сколько и когда хотела (XVI: 118, 1–2).
Заметим, что в этом поразительном пассаже, местоимение «я» означает то «я» – дочь («чтоб я могла забыть, простить»), то «я» – мать («[я] почувствовала себя хилой»), по отношению ко «мне» – дочери.
Затем от психологического анализа Фрейденберг переходит к политическому: фраза «[п]олучая продукты» указывает на обстоятельства, созданные государственной тиранией, а именно на положение взаимной материальной и моральной зависимости, созданное системой распределения продовольствия в осажденном городе.
За словами «[п]олучая продукты, я поровну делила между нами» стоит ситуация, в которую попали многие блокадные семьи. Старики-пенсионеры и дети, считавшиеся «иждивенцами», получали такой низкий паек, что для их выживания требовалась жертва со стороны работавших членов семьи, что могло оказаться гибельным для обеих сторон.
Фрейденберг не раз описывает и эту социальную ситуацию, и ее сложные эмоциональные последствия, анализируя диалектику власти в семье:
Глядя на нее со стороны, я утешалась тем (особенно позже, зимой), что ее преодоление двух ужасных зим уже само по себе, совершенно объективно, говорит в мою пользу. Я делилась с нею половиной своей жизни и своего дыханья. С пайком, с рабочей карточкой я могла бы прекрасно жить, не испытывая голода; весь ужас быта был ею взвален на меня, т. к. она ничем не хотела и не умела поступаться, а я не ломала ее старинного уклада, в котором ей предоставляла возможность проводить старость. Но она лишала меня и этого утешенья. Однажды она сказала:
– Не думай, что я обязана тебе тем, что в такое время жива, что это ты меня так хорошо содержишь и кормишь. Мне дана здоровая натура, а не ты это. Я обязана только своим родителям (XIV: 90, 50–51).
Как предполагает дочь, признание приносимой ею жертвы было психологически неприемлемо для матери: принимая еду, мать не позволяет дочери морального превосходства, утверждая при этом силу родительского влияния на детей.
Вскоре после того, как была сделана эта болезненная запись, положение, в которое были поставлены мать и дочь, изменилось. Пришел день (дни смешивались в памяти, но этот день, 31 августа 1942 года, запомнился), когда Фрейденберг сообщили, что она лишается привилегии «рабочей карточки» (так называемые рабочие карточки, или карточки «первой категории», полагались не только рабочим, но и, среди прочих привилегированных, докторам наук и профессорам). Возникла реальная перспектива голодной смерти для обеих.
Фрейденберг подробно описывает свои усилия – шаг за шагом, в течение пяти дней – добиться документального подтверждения своего ранга и статуса, и таким образом – «права на хлеб», а значит, и права на жизнь. С этой целью она посетила различных официальных лиц («советских чиновников» и «советских чиновниц») в университете, в Союзе высшей школы, в Доме ученых, в районном Совете депутатов трудящихся и в других городских организациях, вплоть до городского комитета партии в Смольном (XIV: 92, 53–67).
Впоследствии такие хлопоты повторялись еще не раз, и Фрейденберг приводит подробные описания этого процесса. Ситуация стала особенно острой после того, как Фрейденберг, которая не последовала с университетом в эвакуацию в Саратов, оказалась без штатного места. Хлопотам о карточке первой категории и получению спецпайка в Доме ученых летом 1943 года посвящены десятки страниц (в тетрадях XVII и XVIII). Фрейденберг тщательно описывает хождение за справками и удостоверениями, подачу заявлений, получение резолюций, попытки добиться приема (и многочасовые ожидания приема) у представителей власти, большой и малой, разговоры с ответственными лицами и их секретаршами.
Секретарши занимают в ее описаниях особенно важное место – это первая и непосредственная инстанция власти, с которой сталкивался человек, и именно микроскопическая власть надменной секретарши, как показывает Фрейденберг, может оказаться роковой для человека, вынужденного добиваться права на жизнь (XVIII: 136, 3–4, 6, 29, 31, 35). Фрейденберг включает образ секретарши и машинистки в систему работы сталинской государственной машины: «униженья перед машинисткой, униженья перед секретаршей с распущенными волосами. <…> О эта страшная сталинская машина! О, эти колеса папок, резолюций, сухих сердец, распущенных волос и юбок до колен, злобных взоров, нечеловеческой черствости» (XVIII: 144, 38)37.
Сознавала ли Фрейденберг, что в борьбе за выживание она и сама принимала участие в той системе привилегий, которую осуждала? Она не писала об этом прямо. Но закончив описание своих мытарств по восстановлению карточки первой категории в сентябре-октябре 1942 года, она рассуждала о «сознании собственного негодяйства», которое складывалось «из компромиссов, ссор и оскорблений близких», и подвела итог в поразительном метафорическом образе: «Да, душа уже была запятнана, ее чистота утрачена. Жизнь ожесточала и срывала покровы с заветного и стыдливого. Функционировал замаранный тощий зад» (XIV: 93, 60).
Поясним, что в античной и средневековой мифологии замаранный экскрементами зад функционировал как знак телесного и морального низа и связывался с образом преисподней38. Как и в эпизоде с «советской Тиамат», в страшную минуту Фрейденберг прибегает к мифологическим образам и концептуальному аппарату своей профессии.
36
C такой же беспощадной откровенностью описала семейную драму в ситуации блокады Лидия Гинзбург в «Рассказе о жалости и о жестокости», причем она пользовалась теми же ключевыми словами. «Рассказ» был написан, по-видимому, в 1943 или 1944 году, вскоре после смерти ее матери, и эта ситуация представлена в художественной обработке. Обнаруженный в архиве Гинзбург после ее смерти, этот текст был впервые опубликован в недавние годы. См.: Гинзбург Л. Проходящие характеры. С. 17–59, 557–558. Об этом тексте см.: Ван Баскирк Э. Проза Лидии Гинзбург. Реальность в поисках литературы / Пер. с англ. С. Силаковой. М.: Новое литературное обозрение, 2020. Глава 5.
37
Немалое место занимает анализ власти секретарш и в блокадных записках Лидии Гинзбург (см. Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 725–726). Сандомирская так описала анализ Гинзбург: когда человек, которому грозит голодная смерть, обращается за карточками в соответствующие органы, «новый Левиафан встречает его в облике секретарши» (Сандомирская И. Блокада в слове. С. 255–256).
38
Так описал эту мифологическую символику Михаил Бахтин в книге о Рабле, написанной в 1940‐е годы. О мифологической символике зада упоминала в научных трудах и сама Фрейденберг (см. Поэтика сюжета и жанра. С. 306–307, сн. 116). О связях между Бахтиным и Фрейденберг (некоторые исследователи полагают, что Бахтин использовал идеи Фрейденберг) см.: Perlina, N. Ol’ga Freidenberg on Myth, Folklore and Literature. Р. 384.