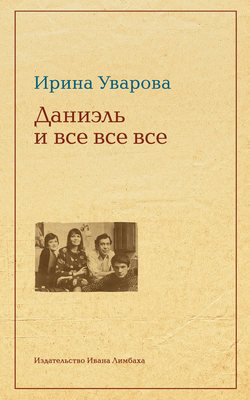Читать книгу Юлий Даниэль и все все все - Ирина Павловна Уварова - Страница 4
I. Юлий
«Что я могу для вас сделать?»
ОглавлениеВынимаю из шкафа пачку желтых стертых газет 1966 года – отечественная печать по поводу процесса. Что стоят сегодня старая ненависть и злоба? И клевета. Сейчас они не стоят ни комментария, ни ответа. Но я отвечаю сейчас лишь одной газете, «Вечерней Москве».
«Не найдется сегодня в Москве, в стране человека, который всем сердцем не одобрит справедливого приговора, вынесенного подлым двурушникам и предателям интересов Родины».
Подпись… Впрочем, подпись я опущу, она уже ничего не значит. Тем не менее у меня по-прежнему есть основания объявить этим словам войну. Они есть ложь не только о Синявском и Даниэле. Они оболгали людей Москвы, людей страны. Ибо настала пора сказать, сколько горячего сочувствия выплеснулось наружу и сколько поддержки двум подсудимым было в этой стране: море, великое людское море.
Это было во время суда, это было после суда, это было потом. Жизнь Юлия была согрета людским участием, свидетельствую об этом и прошу учесть мои свидетельские показания.
Это было в Москве, в Таллине, в Ереване. Это было в Дагестане и в Вильнюсе. Узнавая Юлия, люди словно отдавали ему тайную честь: рукопожатием, взглядом, улыбкой.
В пору процесса в защиту Синявского и Даниэля раздалось множество голосов. Были голоса Арагона и Грэма Грина, но и у нас нашлись отважные души, не дрогнувшие перед риском.
Шестьдесят два литератора подписали письмо в их защиту. Из них выбираю лишь пять имен: Аркадий Анастасьев, Александр Аникст, Нея Зоркая, Инна Соловьева, Михаил Шатров. Отбор несправедлив, писать нужно обо всех. Но я говорю лишь о людях театра, об актерах, режиссерах, художниках. Их имена громки. Или мало известны. Или же неизвестны вам совсем. Театр отвечал Юлию любовью на его любовь к театру. Может быть, за противостояние, за то, что отстоял достоинство свое и наше.
Помню «Доброго человека из Сезуана». Вырвавшись из Калуги, Юлий отправился на Таганку, Высоцкому передал записку. В антракте позвали за кулисы. Высоцкий стоял у гримировального столика, напрягся в ожидании, полетел навстречу входящему:
– Юлий!
Обнимались молча, все ясно без слов. Живой, вернулся… Снова встретились.
Как-то в БДТ после спектакля (мы уже уходили) подошли актеры: «Извините, вам нужно расписаться». Да так серьезно! Повели куда-то, где низкие своды сплошь в цветных автографах.
– Распишитесь.
Юлий колебался. Были случаи, когда за контакты с ним кто-то откуда-то сверху взыскивал. И кто-нибудь, не дождавшись взысканий, пугался знакомства. Но так было раза два, не больше. Представляясь, он говорил «Юлий Маркович», а фамилию не называл, боялся перепугать и тем поставить в неловкое положение. Все было, и к одному театральному художнику в дом явились однажды статисты в штатском: «Вчера вы гостей собирали, почему принимали Даниэля?» – но нарвались на грубость, художники это умеют.
Много было театров, куда мы ездили вместе, я по профессии, он по неутомимому любопытству к театральной жизни.
И когда мы с Юрой Фридманом, режиссером, делали спектакли в театрах кукол и приставали: напиши песенку, пьесу напиши! – он писал нам песенки легко и охотно, а для пьес призвал в соавторы Ю. Хазанова, – на афише стояло: Ю. Хазанов, Ю. Петров.
Не писать же «Даниэль», не подводить же театр!
Псевдоним был спущен откуда-то сверху, как крепостному актеру: можно переводить, но только в одном издательстве и под «Ю. Петровым». После бури, поднятой процессом, дело Синявского – Даниэля сводили на нет. Будто ничего не было. И странна была эта жизнь, и невероятна. Он был и его как бы не было, в списках не значился. Умолчание, идиотская фантомность, неназываемость, поручик Киже навыворот.
Он, оставшийся жить здесь; он, отказавшийся от эмиграции, – он жил человеком без Родины.
Но люди, люди были кругом, в их симпатии, в их любви и дружбе он и существовал.
Мы водили дружбу с целыми театрами. Мы дружили с кукольниками Андижана и Тюмени. Мы дружили с режиссерами, с актерами, а вот театральные художники стояли в списках дружб особо – Эдуард Кочергин, Марк Китаев, Давид Боровский.
Однажды мы сбежали из Москвы в ноябре, перед днем рождения Юлия, это ведь никаких сил не хватало, придут пятьдесят друзей, другие пятьдесят год на меня сердятся, что в тесный дом не вместились. Вот и бежали в Тбилиси. По счастью, там выставка грузинских сценографов, мне там нужно быть, и мы там оба.
И вот: разведали грузины! И устроили великое застолье в честь дня рождения Даниэля.
Мы не знали тогда, что Грузия еще раз явится в нашей судьбе. Когда работы Юлию в Москве совсем не стало, переводы заказывала Грузия.
Был он легок, беспечен, легкомысленен даже, хрупкое и подорванное его здоровье держалось одной лишь силой духа, а силу давала любимая работа – только. Переводом стихов он жил и дышал. Растворение в иноязычном поэте – быть может, здесь сбывалось его несостоявшееся актерство. Грузинские переводы отсрочили смерть на несколько лет.
В кругу театральных художников его принимали как своего. В семидесятые годы сценографы составляли самостоятельный цех, рыцарски замкнутый, собиравшийся часто на свои выставки то в Ленинграде, то в Прибалтике. Юлия звали.
Тщательно рассматривал он эскизы, заглядывал в макеты. Сценография дала мощный выброс. Суровый стиль выводил театр в пространство жесткое, космически пустынное. Оно заставляло помнить о себе, что бы ни происходило на сцене. Что это было? полигон человеческих испытаний, открытых нашим веком, лагерная зона? Да нет, никаких указателей не было, и метафорический язык той сценографии в сущности еще не разгадан.
Бил набат, сценография несла знание о том, о чем не говорилось вслух в те времена. Сценографы видели отчетливую двойственность бытия: жизнь идет, а вокруг мертвящая среда.
Кто-то из них читал его прозу, там было о двойственности: «Ты говорил, что у тебя есть свобода пить вино. Вино было отравленное. Свобода купаться в море – в море сидели слухачи с аквалангами. Свобода писать картины – они были написаны пóтом, пролитым в Магадане и Тайшете. Свобода любить женщин – они все были невестами, женами и вдовами тех самых…» Так сказано в повести «Искупление».
…Позвонил художник Петр Белов: хочу показать новые работы, не знаю, что получается. И очень хочу, чтобы пришел Юлий Маркович, мне это так важно.
Пришли в мастерскую. Застенчиво и волнуясь, он показал то, что потом принесло ему громкую посмертную славу. «Беломорканал», «Расстрел Мейерхольда».
Выучка сурового стиля определяла связь явлений в его полотнах. Экспрессивные, пожалуй, и наивные в характере иносказаний, они яростно пробивались к одной-единственной истине. Белов прокручивал вспять прожитое время, ему самому досталась благополучная жизнь. Теперь же он хотел увидеть то, что его невидимо окружало: зону, где, пока мы жили, зэки высыпались из барака на каторжную работу, как крошки табака из пачки «Беломора». Ход его мысли и движение боли оказались адекватны тому, что переживают сейчас читатели газет и журналов, впервые узнавая о терроре, губившем страну десятилетиями.
Еще раз мы пришли к нему. Были гости. Юлий был уже смертельно болен, Петр – уже приговорен врачами. Среди новых картин стояла одна темная, с фотографиями автора от рождения до гробовой доски. Петр показывал ее спокойно, Юлий рассматривал внимательно.
И я поняла, как мало осталось им и как скоро мы их потеряем.
Недуг, уводивший Юлия, был страшен. Был он неподвижен и безмолвен. Только зрение, сознание, слух – мы разговаривали безмолвно.
Вдруг почтальон принес журнал «Юность»! Успела, успела при жизни появиться повесть «Искупление», впервые у нас, впервые на родине. О господи, горе какое, он не узнает.
Нет, узнал. Понял.
Когда из редакции «Юности» принесли почту – отклики читателей, – было там письмо одно, я и сейчас его помню. Из Ленинграда. Незнакомая нам Татьяна писала – если бы прочитала «Искупление» тогда, когда оно было написано, жизнь повернулась бы иначе! Могу ли я что-нибудь для вас сделать? И совершенно неожиданно: хотите – приеду пол вымыть…
Письмо было пронзительное, я его вслух прочитала. Он закрыл глаза – брови поднялись изумленно: «Невероятно».
Голос безмолвия.
Когда его уже не было на этом свете, каждый день на кладбище ездила, не могла привыкнуть к разлуке. Возвращаюсь – на кухне друзья и врачи. Так привыкли быть с нами, что отвыкнуть не могут. Собрались за столом, а у раковины спиной к нам незнакомая женщина моет гору посуды.
Ну не полы все-таки! Это и была та самая Татьяна. Опоздала – его уже не было. Она осталась.
Могу ли я что-нибудь для вас сделать?
И смогла, и сделала. Вместе с ней мы собрали книжку «Юлий Даниэль. Говорит Москва». Огромный объем его лагерных писем готовила к печати с яростным усердием не год и не два. И стала другом нашей семьи, родным человеком на многие годы. Вот так: пришла к нему – осталась…Татьяна Шабалина.