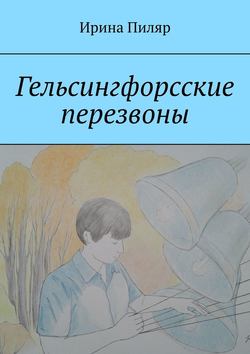Читать книгу Гельсингфорсские перезвоны - Ирина ЮРЬЕВНА Пиляр - Страница 9
Заметки о старом звонаре
Колокольные думы и диалоги
ОглавлениеИногда после звонов не хотелось уходить, покидать храм и все это намоленное пространство вокруг храма и внутри колокольной беседки. «Звонарской келейкой» – часто называл ее звонарь. Дел, как всегда, накапливалось немало.
Старик доставал из сумки щетки, губки, лоскутки от старых полотенец, другую ветошь и начинал уборку. Тщательно протирал железную стойку, на которой были закреплены его любимцы, потом начищал до блеска сами колокола. Бронза сияла в лучах нежаркого осеннего солнца.
Ветер заносил в беседку немало опавших листьев, а из-под педали колокола-Благовестника время от времени показывали свои серые шляпки грибы поганки, прорастающие в самых неподходящих местах.
Уборка обычно затягивалась надолго. Колокола смотрели на своего заботливого друга, пытались вслушаться в его сердце. «Нас семеро, нам хорошо вместе, – думали они, – а он один. Всегда один. И уходить не спешит… Может быть ему некуда идти? И никто его не ждет?..»
Средним и маленьким колокольчикам становилось грустно, сердце сжималось от жалости. «Вот, мы висим здесь – такие разные – и по весу, и по размеру, а уж о голосах-то наших и говорить нечего! И высокие тенора, и средние альты, и низкий бас… А как зазвучим все вместе – так о нашей дружбе тут же все и узнаЮт! Потому что поддерживаем и дополняем друг друга: иногда оттеняем кого-то одного из нас, иногда сливаемся воедино, а чаще бежим друг за другом, друг за другом и.… наперегонки!»
Тихо вздыхали зазвонные, самые малые колокольчики. «А кто же дополняет и поддерживает старого звонаря, кто ему поет в утешение, когда нас нет?..»
Совета просили у своего старшего и мудрого брата Благовестника. Что делать? Чем помочь человеку быть не таким одиноким?
К слову сказать, звонарь никогда не жаловался на свою жизнь. А во время длинных уборок рассказывал колоколам всякие человеческие истории. Им нравился его тихий голос, неспешная речь, и, особенно, его характерный тембр и интонации. Ни у кого другого не слышали они такого голоса!
В звонарских рассказах колокола всегда улавливали смутную грусть и затаенную надежду. Но о причинах могли только догадываться. Поэтому и просили Благовестника придумать что-нибудь и порадовать старого друга.
Как же они все старались, когда наступал час звонить на службу! Сколько души и чистого сердца вкладывали в каждый звон, каждую трель. Какими четкими и законченными получались форшлаги, как своевременно вплетались триоли и синкопы, каким благородным и звучным аккордом завершалось колокольное песнопение!
Быстро и сосредоточенно втекал людской поток под своды Храма. Время молитвы, время врачевания душ… И колокола были сосредоточены и сдержаны.
А по окончании молитвы, после службы, все немного расслаблялись, успокаивались. Заметно веселел и старый звонарь. Колокола тоже позволяли себе усложнить игру, украсить и разнообразить звон различными рисунками и ритмами. Всем было так хорошо!
Но у колоколов было свойство не отступать от задуманного. Поэтому они продолжали размышлять о жизни Друга, и в тоже время вглядывались в лица других людей, приходящих в храм. И что же? У многих в глазах они замечали всю ту же человеческую грусть… Даже у тех, кто не был одинок, как их звонарь, скорей наоборот – эти люди были окружены другими людьми, большими и маленькими, молодыми и не очень…
«Странные, странные люди…» – выплывали наружу наивные колокольные мысли, медленно и тихо вливаясь в белые облака. «Добрые, славные колокола, – думал старик, заканчивая работу, – вот и прожили мы с вами еще один день…»
После всех трудов и уборок звонарь прощался с колоколами, читал про себя «Достойно есть», совершал земной поклон, и, перекрестившись, уходил вдаль, за церковную ограду.
* * *
Однажды, проводив своего любимого звонаря Иннокентия, колокола вдруг разговорились между собой. Их охватили воспоминания.
Благовестник: – Я самый старый валдаец. Помню еще как матушка Пелагея Ивановна, владелица Усачевского завода аж с 1875 года, заботилась обо мне, тогда еще молодом, только что отлитым на ее заводе колоколе. Многие приходили к ней, прося ее отдать меня на их колокольни. Но отдала меня матушка, царствие ей небесное, в исключительно хорошие, по ее мнению, руки. Одному из лучших звонарей на Валдае, служащему в храме Николы Угодника!
Средний, подзвонный колокол: – Да, братец, я ведь тоже валдаец. Наша дружная четверка, – он обвел глазами все старинные колокола на звоннице, – всегда звучала в Новгородской епархии в традиции русских северных звонов, отличающихся своей размеренностью, степенностью, распевностью и узорчатыми переливами…
Свежеотлитые колокола – зазвонная группа: – Какой восхитительный рассказ! Никогда я не был на Валдае, – вздохнул самый маленький и самый звонкий колокольчик.
– Ты, малыш, не переживай! – вступил в разговор соседний колокол (из новых, свежеотлитых). – Мы все (пусть нас всего трое), – москвичи! И у нас есть своя замечательная «московская традиция» звонов. «Московские перезвоны» славятся своей быстротой, плясовыми подвижными ритмами, оптимистическим настроем и особой звонкостью!
– «Валдайцы и москвичи! – вдруг обратился ко всем самый большой, старый Благовестник, – завтра, в воскресение, 20….. года, – Благовестник смахнул слезу (-Надо же! До 3-го тысячелетия дожил!) – нам с вами предстоит играть совместный концерт для прихожан нашего храма города Гельсингфорса. Так, тряхнем же стариной, славные мои валдайцы! А „москвичам“ – в добрый колокольный путь и счастливого звона!»
Все колокола ответили дружным одобрительным звоном.
А потом вдруг заспорили совсем на другую тему.