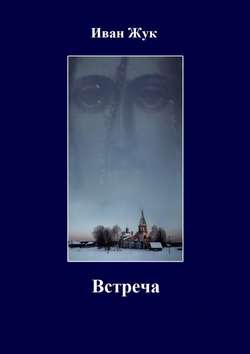Читать книгу Встреча - Иван Жук - Страница 5
«Студент хладных вод»
Экранизация одноименной повести А. Ф. Киреева
Оглавление«…Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих».
(1 Кор. 1, 19—21)
Солнечным летним полднем в зарослях осоки бойко журчал ручей. Над водою порхали бабочки, стремительно проносились перламутровые стрекозы. Всюду слышался шорох листьев, зуд насекомых и щебет птиц. В мелодию тихих природных звуков вплелся вдохновенный мужской голос:
– …великость тел и малость элементов во Вселенной поражают нас мудростью своего строения, гармонией и совершенством прилаженности в своих взаимосвязях и отношениях. Вся Вселенная в своей совокупности и все мельчайшие детали ее безмолвно свидетельствуют и учат человека смиренному и благоговейному предстоянию перед Творцом…
Постепенно начали появляться первые признаки человеческого присутствия: там промелькнула бетонная цепь столбов, соединенных зудящим электропроводом; здесь – ржавый трактор с оборванной гусеницей; чуть дальше – дыра в заборе, целлофановые бутылки, горой сваленные в саду.
– …и если эти звездные и атомные океаны могут научить хотя бы одного человека смиренной любви к Богу, Творцу, к Спасителю мира Христу, то уже потому, – между тем продолжал голос, – их существование было бы оправданно и благословенно…
Сразу за сорванными качелями, на одном согнутом ржавом пруте поскрипывающими в школьном дворе, располагалось двухэтажное деревянное здание провинциальной школы. Из-за его распахнутого окна как раз-то и доносилось:
– …Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света, хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес…
В классе над столом с учебниками, в беспорядке разбросанными на скатерти, стоял у доски тридцатидвухлетний, немного лопоухий учитель истории, – Иван Яковлевич Корейшев1. Несмотря на жару одетый в старый костюм с брючками до щиколоток и в белую рубашку с галстуком, именно он и дочитал из книги:
– …Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры…
Отведя книгу от лица, Корейшев внезапно замер. От удивления и растерянности он так и не смог завершить фразы.
Странная картина открылась взору учителя. Все присутствующие в классе подростки, а также представители педсовета, проверявшие работу коллеги, не обращая никакого внимания на Ивана Яковлевича, занимались кто чем. Длинноволосый мальчик, сидящий за первой партой, готовил удочки для рыбалки. Соседка его, облизываясь, листала порнографический журнал. Двое парней за ними пинали футбольный мяч. Дальше шли две подружки, одна из которых подкрашивала ресницы, а другая – примеряла блузку. Рядом высокий жилистый паренек выкалывал на плече у своей соседки цветную татуировку. Кто-то «балдел», прижимая к уху наушник, кто-то набивал «травкой» папиросу. Представительница педсовета, строго одетая дама лет сорока пяти, терлась ногой о ногу пятнадцатилетнего паренька, а тот в это время кормил голубей, расхаживавших по подоконнику. За поведением дамы с последней парты печально следил пятидесятилетний директор школы. Глубоко вздыхая, он то и дело прикладывался к фляжке. И только одна рыжеволосая веснушчатая девочка – Лена – осмысленно смотрела на Ивана Яковлевича и слушала.
Встретившись взглядом с Леной, Корейшев смахнул со лба пот и ущипнул себя за ухо.
От боли он даже вздрогнул и чуть слышно простонал.
Зато картина всеобщего разложения, наблюдавшаяся в классе, тотчас сменилась вполне пристойной школьной атмосферой. Все подростки, хотя и несколько сломленные жарой, сидели за партами тихо, скромно, одним глазом косясь на представителей педсовета, а другим – на циферблаты своих наручных часов.
Заметив, что педагог умолк, представительница педсовета поднялась из-за парты и, поправив парик, сказала:
– Спасибо, Иван Яковлевич. По-моему, хорошо, – и, обращаясь к ученикам: – Ну как вам, понравилось?
Только что листавшая порножурнал девица ответила:
– Интересно.
– Класс! – подтвердил рыбак. – Особенно, где это – хороните его и так далее. Впечатляет.
– Хороните? Разве вы – хороните? – смущенно взглянула седовласая Представительница Педсовета на Ивана Яковлевича.
В задумчивости кивнув, Корейшев взглянул в окно на ворковавших на подоконнике голубей. Потом перевел взгляд на паренька, облокотившегося на руку. И вдруг совершенно неожиданно как для представителей педсовета, так и для учеников беззвучно рассмеялся. И так, содрогаясь в приступе смеха, не спеша подступил к учительнице, удивленно следившей за ним из-за парты. А, подступив, сказал:
– Хороните, хвалите, – какая разница? Лишь бы нескучно, правильно?! Позвольте, Людмила Павловна, – склонился он к парте парня с наушником возле уха и, включив на полную громкость магнитофон, привлек к себе даму:
– Потанцуем?!
Под раздавшийся рокот рока Иван Яковлевич затеребил учительницу, пускаясь с нею в крутой современный танец.
– Иван Яковлевич, – растерялась Представительница Педсовета. – Что вы себе… Петр Петрович! – обратилась она за помощью к директору школы.
– Иван! – не веря своим глазам, встал из-за парты директор. – Ты чего?..
– Да ладно тебе, Мосол! – отмахнулся Корейшев от директора и предложил затем, продолжая терзать учительницу в ритме лихого танца: – Отхлебни глоточек! А ну, кто-нибудь, пригласи Петрушу. Живите играючись, елы-палы! Ведь вы этого достойны!
Ученики удивленно переглянулись. Девочки захихикали.
– Ни фига себе! – вытянулось лицо у мальчика-рыболова.
– Атаково! – вдруг вскочил один из мальчиков-футболистов и бойко пустился в пляс.
И тут, наконец-то, с трудом приходя в себя, Представительница Педсовета выкрикнула в испуге:
– Да он с ума сошел! Спасите! – взвизгнула что есть мочи, оттолкнув от себя Корейшева.
– Иван! Прекрати! Немедленно! – решительно двинулся ей на помощь сухопарый директор школы.
Парень нажал на клавишу, и музыка резко стихла. А в тишине уже, прекратив плясать, Иван Яковлевич спросил у своих коллег:
– А что, собственно? Все по схеме. Богословие в стиле кантри. Американский метод. Вы же сами мне предложили, Людмила Павловна.
– Сумасшедший, – спрятавшись за директора, шепнула в испуге дама. – Скорую срочно! – метнулась она к двери.
– Людмила Павловна, не надо скорую! – урезонил её директор. – Сами как-нибудь разберемся.
– Да как сами, как сами, – пролепетала учительница, косясь на Ивана Яковлевича. – Вы только взгляните на него! Он же ненормальный!
Помрачнев, Иван Яковлевич кивнул и вдруг, громко прокукарекав, стремительно подлетел к окну. Сбросив с себя пиджак и отшвырнув его под доску, Корейшев взобрался на подоконник и подмигнул директору:
– Держи её крепче, Мосол! Аудио-фебэржэ! – и, снова громко прокукарекав, забил себя ладонями по ляжкам и выпрыгнул в окно.
Из-за трепещущих занавесок донеслось его громкое звонкое кукареканье.
Все подростки и педагоги метнулись к оконной раме.
Далеко внизу, стремительно убегая от школы в сторону голубеющей вдалеке реки, Иван Яковлевич сорвал с себя ненавистный галстук и, отшвырнув его за кусты, росшие у забора, снова громко прокукарекал.
Затем он раздвинул в заборе доски и, через образовавшуюся дыру выскочив со двора, побежал то кудахча, то кукарекая по холмистой, поросшей травой равнине к поблескивающей вдалеке реке.
Сгрудившись в кучу возле распахнутого окна, подростки и педагоги взахлеб обговаривали случившееся. Одни из них потешались, вертя у виска указательным пальцем и интенсивно размахивая руками, другие в недоумении вздергивали плечами. И только одна веснушчатая, рыженькая Лена смотрела вслед убегающему учителю задумчиво и серьезно.
Уже серьезный и молчаливый Иван Яковлевич продирался сквозь чащобу борщевика. Раздвигая руками сухие ветви, он то и дело проваливался в ухабы, вскакивал и устремлялся дальше. А перед ним, будто фотовспышки, всплывали воспоминания:
…вот он, только совсем ещё молодой 17-летний юноша в джинсах с заплатами на коленях и в синей осенней курточке, вышел из подъезда двухэтажного краснокирпичного дома под черепичной крышей. И в недоумении остановился.
Вдали, пошатнувшись, рухнула и с грохотом разлетелась краснокирпичная стена здания старенького завода. Внутри пылевого облака, поднявшегося при её падении, бодро зацокали молотки, заскрежетали ломики. А тотчас же из пролома в краснокирпичном заводском заборе навстречу Ивану Яковлевичу вышла щупленькая старушка в замызганной телогрейке с парочкой кирпичей под мышками. Переваливаясь, как курочка, с ноги на ногу, она деловито прошла мимо Ивана Яковлевича и скрылась за дверью дома. Сразу же вслед за нею, держа на оттянутых вниз руках уже не два кирпича, а дюжину, вышел, пошатываясь, рабочий в грязной, в пыли, спецовке и тоже проследовал мимо Ивана Яковлевича в подъезд. За ним, толкая перед собой тачку, набитую кирпичом, выскочил из пролома в заборе молодой человек в плаще и, поравнявшись с клумбами, у которых стоял Корейшев, высыпал весь кирпич прямо под ноги Ивану Яковлевичу.
Держа в одной руке лейку, а в другой – черенок цветка, Иван Яковлевич спросил:
– Серый, зачем вы завод ломаете?
– Собственность делим на хрен, – съязвил паренек в плаще и с тачкой перед собою вновь поспешил в пролом.
– Какую собственность? – не понял его Корейшев.
– Общенародную. Другой нету, – ответил ему паренек в плаще и ускользнул за пролом в заборе.
А оттуда навстречу Ивану Яковлевичу уже повалили гуськом старушки с парочкой кирпичей под мышками, рабочие с кучей-малой кирпичей в руках, молодые люди с тачками, совсем безусые пареньки на карах.
Ничего ещё толком не понимая, Иван Яковлевич вздохнул и тоже прошел в пролом на территорию предприятия.
По мере того как пыль вокруг оседала, перед взором Ивана Яковлевича открылась довольно странная и, по-своему, впечатляющая картина. Все вагоны и вагонетки бывшего предприятия стояли у проходной. На них прикрепляли таблички с надписью мелом – «металлолом», грузили кранами на машины с иностранными номерами и увозили, прикрыв брезентом, мимо охранников за ворота. Посреди же бывшего предприятия, на обломках упавшей стены завода, копошились, как черви, люди: рабочие, чиновники, пенсионеры. Одни из них разбивали огромные куски кладки на отдельные кирпичи; другие, очистив кирпич от цементных прослоек, раскладывали его по кучкам; третьи, выписав накладные, тотчас же раздавали все эти кучки бывшим работникам и работницам. Всюду сновали туда-сюда груженные кирпичом старушки, рабочие с тачками, грузовые автомобили с крепкими молодыми людьми в кабинках. На площади возле заводоуправления о чем-то неспешно переговаривались седовласые партработники в серых костюмах с галстуками и бритые парни в малиновых пиджаках. А в кругу седовласых бонз, сгрудившихся около «Мерседеса», о чем-то велеречиво рассуждал паренек в футболке и старых потертых джинсах, тогда как строгая дама в черном вечернем платье, изыскано помахивая карандашом, нарочито артикулировала каждое оброненное им слово.
Всюду слышалось:
– Валюха, тащи носилки.
– Марковна, не мешай. Ты свой пай уже получила. У меня все записано. Отвали.
Оказавшись в гуще всеобщего мельтешения, Корейшев в недоумении огляделся. И тут к нему, единственному из всех не втянутому в раздел общенародной собственности, подскочил вдруг вихрастый парнишка в кожанке со стопкой бумаг в руках:
– В чем дело, товарищ? Вы из какого подразделения? Служба эксплуатации? Итээр? – и, замечая лейку в руках у Ивана Яковлевича: – Ах, Вы пожарник! Сюда! Пройдемте, – взял он Корейшева под локоток и, подведя его к зияющей посреди двора глубокой воронке от взрыва бомбы (её ограждал симпатичный зеленый штакетник, увенчанный сверху колючей проволокой), вежливо объяснил: – Вот, полюбуйтесь, как мы блестяще воронку обгородили. Первоначальный взрыв полностью ликвидирован! Спасибо вам за подсказку.
– Извините, я не пожарник, – в неловкости просопел Корейшев. – Я рядом, в соседнем дворе живу. Услышал взрыв, вот и зашел взглянуть, что здесь происходит…
– Ах, так вы не пожарник, – потерял к нему интерес Вихрастый. – Так, может, Вам с кирпичом помочь? Как соседу. Сколько Вам выписать? Сотню, две?
– Да нет, мне кирпич не нужен, – ответил Иван Яковлевич. – Только не понимаю, зачем завод ломаете?
– Устарел! – объяснил Вихрастый. – Ликвидируем нерентабельное предприятие.
– Почему нерентабельное? – удивился Корейшев. – Кирпич-то весь раскупали.
– Ну, это пока мы в совке здесь жили, – объяснил Вихрастый. – Но теперь, когда мы выходим на мировой рынок, ну скажите на милость, кому наш кирпич нужен?
– Да нам же и нужен, – возразил Корейшев. – Школы строить, заводы, жильё там разное. Или мы строить больше не собираемся?
– Ну почему же!? Ещё как собираемся! – радостно объяснил Вихрастый. – Но из итальянского кирпича! Из французского! А то и из американского! Экология очистится, дети вырастут здоровыми и сильными. Так что вы не волнуйтесь: ступайте домой и ждите! Что вы там: розочки пересаживали? Вот и сажайте их на здоровье. А мы этим временем всё здесь в момент расчистим! Вам останется только жить и радоваться!
И Вихрастый, подведя Ивана Яковлевича к пролому в заборе, вытолкнул его со двора завода.
Иван Яковлевич зажмурился.
И в ту же секунду прямо ему в лицо наотмашь стегнула ветка борщевика.
На бегу отмахнувшись от этой ветки, Корейшев остановился и перевел дыханье.
Впереди, прямо перед Иваном Яковлевичем, зеленел пологий спуск к поблескивающей вдали реке. Весь сплошь изрезанный огородами спуск этот мягко шуршал подсолнухами и картофельною ботвою. Посреди же рядов подсолнухов, разделявших картофельные наделы на множество лоскутков, высился мощный столетний дуб, а чуть в стороне от дуба, на фоне речной излучины, топорщилась в небо балками и покосившимися стропилами заброшенная бревенчатая банька.
За рекою за холм заходило солнце. Оттуда в сторону огородов ветер гнал грозовую тучу.
Неторопливо спустившись к речной излучине, Иван Яковлевич присел.
По воде пробежала рябь. Первые капли начавшегося дождя украсили волны перед Корейшевым расходящимися кругами.
Внезапно стало темно, как вечером. И низко нависшие облака прямо над головой у Ивана Яковлевича разорвало вдруг изгибом молнии.
Издалека, вдоль речной излучины, рокоча прокатился гром.
Дождь превратился в ливень.
Промокший до нитки Корейшев встал и рассеянно огляделся.
За ним возвышался холм: лоскутное одеяло из огородов, окаймленных желтеющими подсолнухами, а посреди огородов – столетний дуб, и в стороне от дуба – развалины ветхой баньки.
Поразмыслив, Корейшев двинулся напрямик через огороды к дубу. Потом он прибавил шагу и побежал.
Небо вновь озарилось зигзагом молнии. И снова ударил гром.
До дуба оставалось совсем немного, когда Иван Яковлевич споткнулся и плюхнулся прямо в грязь.
В третий раз полыхнула молния, когда Иван Яковлевич поднял голову, чтобы вновь устремиться к дубу. Очередной зигзаг бьющей сквозь ливень плазмы врезался прямо в дерево. И дуб, расколовшись напополам, тотчас же вспыхнул, как исполинский факел.
Неторопливо встав, Иван Яковлевич развез по лицу ладонью липкую грязь вперемешку с картофельною ботвою и растерянно огляделся.
У разбитой двери полусгнившей баньки стоял седенький старичок в белом подряснике и белой монашеской скуфейке. Поглаживая жиденькую бородку, он поманил Ивана Яковлевича к себе и первым прошел внутрь баньки.
В последний раз оглянувшись на полыхавший под ливнем дуб, Иван Яковлевич помедлил и стремительно пошагал за незнакомцем в баньку.
Когда дождь, наконец, закончился, а небо опять очистилось, – оно стало высоким и ярко-розовым за рекою, – туда как раз опускалось солнце, – по тропинке между огородами пробежали по лужам дети. Мальчик и девочка лет одиннадцати, бия ладонями по подсолнухам, то и дело окатывали друг дружку россыпью крупных капель. Шедший за ними высокий худой мужчина, груженный мешком с травой, поглядывал на детей и весело ухмылялся. Тогда как его жена, – одна из двух толстых женщин, с трудом продвигавшихся за мужчиной, – раздраженно и громко крикнула:
– Васька! Поля! Хватит вам брызгаться, я кому сказала! Коля, ну скажи ж ты им что-нибудь!
Мужчина, пыхтя «беломориной», промолчал. Зато девочка, как ни странно, и без его одергиваний внезапно остановилась и указала рукой вперед:
– Смотрите!
Взглянув в указанном направлении, на черную головешку, оставшуюся от дуба, отец лишь присвистнул от удивления, а мать, догоняя его, сказала:
– Батюшки! Утром ещё стоял! Да лило-то – страсть: прямо как из ведра! Как же оно горело-то?
– Да так и горело, – веско отметил муж, и именно в этот миг со стороны баньки вдруг долетела песня:
Господи, кто обитает
В светлом доме выше звезд,
Кто с Тобою населяет
Верх священных горних мест?
Дачники молча переглянулись. И девочка первой метнулась к баньке.
– Куда?! Стоять! – испуганно закричала на неё мать.
– Там кто-то есть, – указала девочка на черные бревна баньки.
Лежа на куче ветоши у огромной дыры в полу, Иван Яковлевич допел:
Тот, кто ходит непорочно,
Правду завсегда творит
И нелестным сердцем точно,
Как языком говорит.
Заглянув в разбитое окно баньки, дачники настороженно затаились. И только девочка улыбнулась:
– Да это же наш учитель Иван Яковлевич. Он Библию нам читал. И про потоп рассказывал. Здравствуйте, Иван Яковлевич.
Корейшев приподнял голову и спокойно взглянул на дачников.
– Точно – Иван Яковлевич, – усмехнулась одна из женщин. – А что вы тут делаете? Дождь пережидаете? Так он кончился. Можно выходить.
Иван Яковлевич прилег и с новой силой продолжил пение:
Кто устами льстить не знает,
Ближним не наносит бед,
Хитрых сетей не сплетает,
Чтобы в них увяз сосед.
– А, – кивнула толстушка-мать и, отшатываясь от пролома в оконной раме, шепнула своим попутчикам, повертев указательным пальчиком у виска: – Пойдемте. А то еще белье снимут.
На миг прерывая пение, Иван Яковлевич сказал:
– Белье не снимут. А вот бок твоей куме проверить надо. Грыжа начинается, – и снова запел:
Презирает всех лукавых,
Хвалит Вышнего рабов
И пред ним душою правых
Держится присяжных слов.
Женщины снова переглянулись и поспешили уйти от греха подальше.
Удаляясь от баньки, они то и дело оглядывались на пение.
Из баньки же разносилось:
В лихву дать сребра стыдится,
Мзды с невинных не берет…
И уже совершенно в другое время – в знойный июльский полдень:
Кто на свете жить так тщится,
Тот вовеки не падет.
– А ну, вылезай оттуда! – упершись рукой о дверной косяк, зло и рассерженно заявила худая, высокая, лет тридцати пяти, костлявая женщина, – старшая молочная сестра Ивана Яковлевича, Марина. – Хватит людей дивить. Пожировал – и будя. Ну, я кому сказала? Или мне дядю милиционера вызвать?
– Маринка, ступай домой, – вдруг донеслось из баньки. – И больше не приходи. Твой молочный брат Иван Яковлевич Корейшев умер.
– Чего?! – вытаращилась Марина. – А с кем же я говорю? Думаешь, если ты двери да окна в баньку досками позаколачивал, так я уже и голоса твоего гунявого не узнаю? Басни он мне рассказывает! В семинарии доучился б, вот и читал бы басни старухам да нищим в храме! Так нет же – сбежал, как Бобик! И с учительства – точно так же! Чаешь, в бомжах-то слаще? Да как бы не так, урод! Ты же слабенький, золотушный! Околеешь тут через месяц. А мне потом хорони! И на какие ж шиши, поганец! А от людей-то – стыдно! Ну как мне теперь в глаза соседям своим смотреть? Что ж ты меня то злыдней, то дурочкой выставляешь?! Может, и Славка мой из-за тебя, подлеца, убег-то?!
– Не переживай, – вновь донеслось из баньки. – Скоро вернется твой ненаглядный. Никуда от тебя денется.
– Да нужен мне больно твой алкоголик! – взревела от злости женщина. – Ты-то зачем ушел? Ленка ж тебя любила. Да и я ж ни единым словом ни разу в жизни не обижала. За что же ты нас позоришь?! – И она, в досаде махнув рукой, всхлипнув, стремительно отошла от баньки.
А потом был погожий июльский вечер. И, сидя снаружи баньки у заколоченного окна, тощий жилистый бомж в рваной тельняшке и старых джинсах, пьяно икнув, сказал:
– Значит, так: или ты сейчас же выматываешься оттуда, и тогда тебе ничего не будет. Или я ставлю тебя на счетчик. Даю десять секунд. Время пошло. Раз. Два. Три, – поднялся он с травы и, обойдя поросший крапивой угол баньки, остановился у заколоченной крест-накрест двери. Внизу на уровне ног бомжа зияла в двери дыра. Через эту дыру внутрь баньки можно было попасть, только встав предварительно на колени.
Ползать в пыли, да ещё на коленях, бомжу, естественно, не хотелось. Но и оставить Ивана Яковлевича в покое гордость не позволяла. Эту дилемму помогла ему разрешить щупленькая старушка. Незаметно приблизившись к двери баньки, она поинтересовалась:
– Вы крайний к юроду?
– Чего? – обалдело взглянул на старушку бомж.
К этому времени рядом с первой возникла уже и другая бабка. Обе в длинных ситцевых платьях и в белых платочках на головах, старушки переглянулись; и та, что первой подошла к баньке, сказала бомжу:
– Ладно, сынок, ступай. Пойди вон помойся. Постирушку устрой. Давай.
С недоумением косясь на бабок, Бомж отступил за кусты крапивы. Старушки же между тем дружно перекрестились и, с трудом опустившись на колени, перебрались под дверь – внутрь баньки.
– Господи, прости нас, грешных, – сказала при этом первая.
– Ой, ноженьки мои, ноженьки, – вздохнула за ней другая.
А как только они вползли на коленях в баньку, бомж в недоумении огляделся. Отовсюду, со всех сторон к баньке сходились люди. В основном это были старушки в платочках на головах и в длинных дешевых платьях. Но попадались и молодые: от реки в камуфляже и голубом берете, опираясь на костыли, ковылял безногий десантник. Со стороны же остова сгоревшего накануне дуба спускались двое влюбленных с огромной охапкою полевых цветов. А за ними с кошелкой еды в руках поспешали знакомый мужчина-дачник, толстенькая его супруга и двое детей-погодков: одиннадцатилетние мальчик в шортиках и футболке и двенадцатилетняя девочка в синем, в горошек платьице.
Видя весь этот сход, бомж почесал затылок и поспешил отойти к реке.
В баньке окруженный толпой народа, до половины погруженный в тень, а до половины высвеченный ярким июльским солнцем, бьющим через дыру в стропилах, Иван Яковлевич сказал:
– Ну да, нищета, долги. Но сердце разве вам не подсказывает? Или вам главное за электричество заплатить?
– Значит, он все-таки женат, – потупилась мать Татьяны.
– И не единожды! – привстал на локтях Корейшев. – У него таких Тань, как Ваша, – в каждом городе по невесте. Четыре сына, две дочки. Внуки уже пошли. А вы кого обмануть пытаетесь? Себя? Судьбу? Или Бога?
Густо порозовев, Татьяна и ее мать отошли к двери. А из-за голов собравшихся блеснули знакомые вдумчивые глаза той самой рыжеволосой веснушчатой девочки Лены, которая еще в школе прислушивалась к речам Ивана Яковлевича.
По беломраморному коридору, вдоль цепи пластиковых окон, из-за которых едва долетало далекое громыхание говорящего в микрофон, в сопровождении плечистых парней в белых рубашках с галстуками и с мобильными телефонами в руках быстро шагали двое: 45-летний мэр города Игорь Александрович Юциферов и его ровесник, такой же холеный, как и сам мэр, столичный предприниматель Юрий Павлович Карнаухов.
Пока они шли, слегка распахнулось одно из окон, и с улицы, многократно усиленная динамиками, внезапно донеслась фраза выступавшего:
– …в этот поистине исторический для нашего города день…
Проходя мимо, один из сопровождавших мэра небрежно прикрыл окно, и снова в коридоре стало тихо, а приближающийся холл, куда направлялись бонзы, встретил их фотовспышками удерживаемых далеко у двери фоторепортеров, а также лучезарными улыбками двух молодых гримерш, ринувшихся навстречу мэру и предпринимателю.
– Секундочку, Игорь Александрович, волосики надо. Так, – сказала одна из гримерш, поправляя прическу мэру, – и еще тут немножечко.
Другая гримерша смахнула несуществующую пылинку с хорошо отутюженной сорочки предпринимателя.
А он вдруг сквозь зубы брякнул:
– Дерьмо.
– Как вы сказали? – отпрянула от него гримерша.
– Я не вам, – отмахнулся предприниматель и, обращаясь к мэру, язвительно прошипел: – Так «ему сам Бог открывает»? С пророком вас, господин мэр! Конечно, моя шарашка, – победоносно огляделся он в холле здания, – это жалкое подобие ваших информационных возможностей. Теперь вы с этим Корешевым, глядишь, и в книгу Гиннесса попадете.
Сдержанно улыбнувшись предпринимателю, мэр сказал:
– Юра, не кипятись. Признаться, он мне тоже несимпатичен. Учитель – и вдруг в бомжи… Но, пока он знал свое место, я его терпел. Но теперь, после истории с твоей Таней, я подумаю, как нам тебе помочь.
– Так это – мои проблемы? – злорадно улыбнулся предприниматель, не обращая никакого внимания на замерших в недоумении гримерш. – А я-то думал, это у тебя выборы на носу. А тут – пророк. С информацией от самого «Бога»! И это при нашей российской дикости, среди всех этих маргинальных орд, которые ему в рот заглядывают. Ты хоть представляешь, чем это может кончиться?
Мэр побледнел. И сказал чуть слышно, отводя Карнаухова от гримерш:
– Слушай, Юра, давай уж откроем твой «Евро-центр» и сразу же примем меры.
От двери, где их поджидали работники мэрии и журналисты, плотная женщина в белом жакете указала начальникам на часы. Направляясь навстречу ей, Карнаухов с улыбкой предложил Юциферову:
– А хочешь, я тебе помогу? Мои ребята устроят все чики-чики.
– Только без крови, – брезгливо скривился мэр.
– Зачем? – беря Юциферова под локоток, ласково осклабился Карнаухов. – Мне и самому хотелось бы познакомиться с этим «чревовещателем» поближе. А вдруг в этом действительно что-то есть?
И они, понимающе улыбнувшись, плавно влились в толпу поджидавших их возле двери работников мэрии и журналистов.
А с улицы между тем из множества репродукторов победоносно разнеслось:
– И все это – наш земляк, а ныне – столичный предприниматель Юрий Павлович Карнаухов!
Толпа, собравшаяся на площади, дружно зааплодировала.
Выходя вместе с мэром на подиум перед толпами, Карнаухов приветливо улыбнулся и скромно приподнял руку, сдерживая эмоции неистово рукоплещущих земляков.
Тихим июльским вечером, когда солнце садилось за огороды и его последние закатные лучи, просачиваясь сквозь щели в рассохшихся бревнах баньки, алели на досках пола, Иван Яковлевич Корейшев лежал в углу, скорчившись под одеялом, и, весь покрытый потом, молча следил за бывшей своей ученицей, – Леной. Одетая в джинсы, тенниску и черную, с иероглифами косынку Лена сидела на корточках у двери и раскладывала по кучкам подаренные паломниками овощи и фрукты. Кроме нее и Ивана Яковлевича, внутри баньки находилась еще сгорбленная старушка Павловна. Она как раз подметала пол.
Почувствовав на себе упорный взгляд Ивана Яковлевича, Лена оглянулась на бывшего своего учителя и, встретившись с ним взглядом, порозовела и отвела глаза.
Иван Яковлевич вздохнул и тихо сказал старушке:
– Ладно, Павловна, хватит пылить. И так голова раскалывается.
– А ты бы грушку съел, – прекращая мести, предложила Павловна. – Вон нанесли сколько. Лена, а ну подай.
– Не надо, – сказал Корейшев и отвернулся лицом к стене. – Раздайте все это нищим. И уходите. Устал я. Посплю немного.
– Еще бы не устать, – отставляя под стену веник, поковыляла к двери старушка. – Народищу сколько – ужасть. И все едут и едут. Прихворнуть человеку некогда. Пойдем, Лена. Пускай Иван Яковлевич поспят.
Старушка и девочка стали на корточки у дыры под дверью. И тут, повернувшись к ним, Иван Яковлевич сказал:
– Лена… возвращайся к матери. Ей с запоем самой не справиться.
Девочка потупилась, пунцовея.
– Пожалуйста, – попросил Корейшев. – А то, что она материться будет, так ты и не замечай. Сердце-то у Марины доброе.
– Хорошо, – после секундного размышления бодро кивнула Лена и, опустившись на четвереньки, выбралась вон из баньки.
Дождавшись, пока она отойдет подальше, Павловна просопела:
– Оно, конечно, не мое это дело – но, может, и ты пошел бы мамку её от запоя спасать?
Взглянув на старушку, Иван Яковлевич спросил:
– И каким же образом?
– Обыкновенным, – сказала Павловна. – Все знают, что Маринка по тебе сохнет. А за Славку она с тоски, от безнадеги вышла. Вот вдвоем они и спиваются. А так хоть её бы спас.
– Мать, ты чего: белены объелась?! – удивленно взглянул на неё Корейшев. – Она же моя сестра!
– Так молочная ж, – возразила Павловна. – Почитай что и не родня.
– Ясно, – сказал Корешев, после чего вздохнул: – Слава Богу, телега уже в пути. А кандалы в подвале. Так что по любому годика три отдохнуть придется. А то бы совсем запарился… С вами тут. Там знают, – ткнул он вдруг пальцем под потолок, в зияющую дыру посредине крыши, – кого и как из запоя вывести. Без нас с тобой разберутся.
Павловна лишь кивнула и отступила к двери.
Иван Яковлевич прилег, укутался в одеяло и притворился спящим.
Последний луч солнца угас на рассохшейся половице.
И тут вдруг Иван Яковлевич вскочил. Дрожа и искрясь от пота, он взглянул за дыру под дверью. В раскачку, как уточка, медленно удалялась от баньки Павловна. Вдали темнела вода реки. По мелководью два мужика в майках и спортивных штанах тащили вдоль кустов сеть, а третий, загоняя в сеть рыбу, стучал по воде палкой. Тихо чирикали воробьи, поблескивала вода, зудела, летая, муха.
– Может, и впрямь ради Маринки стоит?.. – вскочил Иван Яковлевич с подстилки и подлетел к двери.
Уже опустившись на четвереньки, он вдруг взглянул на дверь. И так же внезапно, как всполошился, медленно встал на ноги. И, направляясь в угол, насмешливо усмехнулся:
– Э-э-х, студент хладных вод. Все бы тебе играться. Ложитесь, сударь. И отдыхайте, – снова улегся он на подстилку и укутался в одеяло.
На волнах реки поблескивали светящиеся дорожки. Это отражались в воде костры, зажженные тут и там собравшимися к юродивому паломниками.
Между костров, по тропинке, ведущей к баньке, поскрипывая, проехала ничем не примечательная телега с четырьмя мужиками, мирно дремавшими на облучке. Мимо женщины, полоскавшей в тазу белье, вдоль развешенных на веревках детских одежд и кед, лошадь протопала за палатку с сидящим возле костра на надувном матраце широкоплечим бородачом в штормовке.
Провожая взглядом телегу, бородач подтащил к себе толстую палку, легко разломил ее о колено и подбросил сушняк в костер.
Та же телега вновь появилась возле костра с паломниками, но уже у сидящих в метре-другом от баньки.
Один из паломников поднялся от костра и подступил к телеге:
– Здравствуйте. А Иван Яковлевич приболел. Придется вам подождать до завтра.
– Некогда нам, – сухо сказал возница и, пока трое его попутчиков спрыгивали с телеги, скомандовал: – Пошло дело!
Тотчас все четверо мужиков, выхватив из-за пазух газовые баллончики, одновременно пшикнули в лица охранникам юродивого.
Закрывая глаза руками, охранники рухнули на траву и, секунду-другую посодрогавшись, тут же оцепенели.
– В темпе, – оглянувшись по сторонам, скомандовал мужикам возница, и трое его попутчиков дружно метнулись к баньке.
Нырнув друг за другом в дыру под дверью, они вскоре вытащили из баньки спальный мешок с Корейшевым. И, погрузив мешок на телегу, снова вскочили на облучок. Возница махнул вожжами: – Но!
И лошаденка тронулась.
Охранники так и не шелохнулись ни пока телега, слегка поскрипывая, отъехала от баньки, ни уже чуть попозже, когда она покатила мимо цепи костров, отражавшихся в темной воде реки.
В темноте приоткрылась дверь. И грузный седой главврач психиатрической больницы Сысоев Кузьма Лукич, с трудом протиснувшись за порожек, нащупал пальцами выключатель.
Сырую темень захламленного подвала с трудом осветила тусклая, засиженная мухами лампочка, на длинном витом шнуре свисающая с потолка.
В дальнем углу помещения с охапки гнилой соломы привстал скованный по рукам и ногам Корейшев. Щурясь от света лампочки, он присмотрелся к вошедшим в подвал «гостям».
К нему, кроме Кузьмы Лукича Сысоева, вниз по бетонной лестнице спустился ещё и знакомый нам Юрий Павлович Карнаухов, а также гориллообразный санитар Сереня с двумя стульями в руках. Все трое были в белых халатах, а у Серени на голове белела еще и марлевая повязка-шапочка.
Поставив стулья в непосредственной близости от Корейшева, санитар отступил в сторонку, а Сысоев и Карнаухов сели.
Прикурив от импортной зажигалки, Юрий Павлович усмехнулся:
– Ну что, пророк, будем знакомиться. Хотя, если ты юрод, то и сам, наверное, догадался, кто с тобой разговаривает. Или информация от «Бога» в эту нору не просачивается? Хорошо, тогда я тебе объясню. Ты находишься в Москве, в подвале женского отделения одной из московских психушек. Перед тобою – Кузьма Лукич, главврач этого заведения. Ну и я… твой покорный слуга Юрий Павлович Карнаухов. Где-то, типа того, ученый. Изучаю нетрадиционные методы получения информации: магия, кабалистика, донос… Итак, на кого работаем? Запираться я тебе не советую, – встал он со стула и начал расхаживать по бетону, тут и там усыпанному ошметками свежих крысиных катышей, – это дело пустое. Только лишнюю порцию химии в себя впустишь, вот и все. Медицина, знаешь ли, за последнее время так далеко шагнула, что на Камо или Зою Космодемьянскую никто уже не потянет: полная блокировка воли. Все расскажешь, как миленький, – оглянулся на шорох из темноты. – А крыски тебе помогут. Так что советую поберечь себя и отвечать мне по существу. Итак, кто он, твой «Бог», умник?!
– Навуходоносор, – прохрипел Корейшев.
– Не понял? – застыл на мгновение Карнаухов.
– Ты – Навуходоносор, – ткнул Иван Яковлевич в посетителя грязным разбитым пальцем.
С явным недоумением Карнаухов взглянул направо, на тяжело, с отдышкой дышащего Главврача, и тот, смахивая с лица крупные капли пота, как мог, объяснил товарищу:
– Навуходоносор – цэ був такый в мынулому вэлыкый вавилонськый цар. Вин думав, шо нэма никого сыльнишого и розумнишого за нього в цилому свити. Та якось, так пышэ «Библия», Бог покарав царя: Вин видибрав у Навуходоносора розум, так шо вэлыкый дэспот тры рокы пасся, як вил в поли: вин ив траву и свои, звыняйтэ, гивна. Тилькы писля цього Бог повернув Навуходоносорови розум. Тоди цар покаявся и став житы тыхэнько, як и вси люды.
– О! Так мы снова пророчествуем! – осклабился Карнаухов. – Ну что ж, эта игра мне начинает нравиться. Лады, – смачно хлопнул Юрий Павлович себя по мускулистым ляжкам, – ты – пророчь, а я без лекарств, как Иисус Христос, попробую тебя вылечить. И мы посмотрим, кто из нас первый начнет, пардон, жрать свое дерьмо. Я или ты, идет?
Затем он с лукавинкой подмигнул Корейшеву и, поправив узел на черном галстуке, решительною походкой первым пошел к двери.
Главврач поспешил за ним.
– На хлеб и воду его, – зло приказал Сысоеву Карнаухов. – Только чтобы ноги не протянул.
По-прежнему вытирая лицо и шею огромным, как полотенце, клетчатым носовым платком, Главврач лишь кивнул, посапывая. И тогда Карнаухов, останавливаясь у двери на верхней ступеньке бетонной лестницы, помахал Корейшеву растопыренной пятерней:
– До встречи, Изыкиль.
С кастрюлькой в руках по грязным ступеням той же бетонной лестницы к Ивану Яковлевичу в подвал спустилась сгорбленная старушка с кружкой протухшего киселя и помойным ведром в руках. Еще на подходе к узнику она рассерженно пробубнила:
– Разлегся, как пан барон. А ты ему подавай: пои, выноси парашу. А ну поднимайся, пророк задрыпанный. Жри, чтоб тебя уже удавило.
С трудом приподнявшись на руке, Корейшев косо взглянул на кружку с поросшим плесенью киселем, – старушка поставила кружку на пол, – после чего шепнул:
– Водички б, бабушка. Пить хочется.
Сунув под нос Ивану Яковлевичу пустое ведро с разводами блеснувшей на дне воды, старушка злорадно выдохнула:
– На вот, попей, касатик! Что, не оно, смердит? Так ты же пророк, Ванюша: помолись Богу, и моча превратится в газировку. А я погляжу на чудо и тоже уверую. Ну что же ты, ну, есикай. Аль не в силах, болезный? То-то же, ешкин дрын! Я живо тебя отучу пророчить. – И она, нарочито громко грохнув ведром об пол, насмешливо усмехнулась.
Ничего не ответив на то старушке, Иван Яковлевич прилег и вновь отвернулся лицом к стене.
И снова по той же бетонной лестнице к лежащему на гнилом матраце лицом к стене Корейшеву спустилась группа медработников в белых халатах и белых крахмальных шапочках. Возглавлял делегацию щупленький, лет сорока пяти, новый главврач больницы Леонид Юльевич Саблер. Рядом с ним с толстой тетрадкою перед грудью шла полногрудая санитарка Валечка. Троица ж молодых врачей, украдкой косясь на Валечку, замыкали собою шествие.
Не успев пройти за порог подвала, санитарка прикрыла ладонью нос и, покосившись на главврача, смущенно пролепетала:
– Ну и запахи здесь, однако.
Молодые холеные психиатры, кто – чуть пораньше, кто – чуть попозже, вынули из карманов халатов чистенькие, хорошо отутюженные носовые платки и, не сказав ни слова, прикрыли носы и рты. И только один худосочный Саблер остался невозмутим. Приблизившись к темной сырой стене, у которой лежал Корейшев, дожидаясь того момента, пока, позвякивая цепями, заросший длинными свалявшимися волосами Иван Яковлевич с превеликим трудом приподнимется на руках, он поинтересовался:
– Кто он, этот несчастный? И почему на цепи? В таком месте?
– Я же вам объясняла – буйный, – прикрывая ладонью нос, досадливо пояснила Валечка. – Очень опасный тип. Его сам Кузьма Лукич вел, царство ему небесное.
– Имя? Отчество? Фамилия? Диагноз? – строже спросил главврач.
– Иван Яковлевич Корейшев, – прочитала Валечка из тетради. – Бывший учитель воскресной школы. Из Смоленска. Три года назад поступил к нам с острым приступом паранойи. В Смоленске в тот год как раз психбольница сгорела, вот его к нам и определили.
– В чем выражается паранойя? – сухо спросил главврач.
– Он возомнил себя пророком и смущал в Смоленске народ. В городе поднялась паника. Политические волнения. Бросался на людей. Орал, как бешеный. Да он и здесь месяца три орал, волосы дыбом!
– Да, но сейчас он спокоен! – мягко отрезал Саблер. – Руки вон поднять не может. Как его крысы-то тут не съели? Почему до сих пор на цепи сидит?
Главврач оглянулся на провожатых, но те лишь слегка повели плечами, а самый худой, в очках, ответил один за всех:
– Мы, в общем-то, не в курсах. Его сам главврач лечил. Ему виднее.
– Исчерпывающий ответ, – тихо ответил Саблер и, обращаясь к Ивану Яковлевичу, спросил: – Ну а вы что нам скажете, друг мой? Если, конечно, вы еще в силах хоть что-нибудь нам сказать.
Упершись рукой в бетон, Иван Яковлевич прохрипел: вначале – слишком громко, потом – слишком тихо и только после того – тихим нормальным тоном:
– Ноги сыну пропарь в крапиве. А к экстрасенсам не води. Хуже будет.
– Что? – удивленно огляделся на провожатых Саблер.
– И на домработницу не греши. Не она украла твои часы, – продолжал между тем Корейшев. – Дочь, чтобы дружка выкупить.
Саблер занервничал не на шутку, в смущении и растерянности поглядывая то на Корейшева, то на своих коллег. И тогда санитарка Валечка тихо, но веско ему напомнила:
– Я Вас предупреждала: очень опасный тип.
Едва освещенный тусклой полоской света, падающей в подвал в щель из-под входной двери, крошечный юркий мышонок подскочил к опущенной на пол руке Корейшева с зажатым в ней ломтем хлеба. Обнюхав хлеб, мышонок отщипнул от него крошку и, не отходя и не прячась, принялся пережевывать. Осторожно и бережно подняв мышонка на руки, Корейшев погладил его, жующего, по крошечной головке и улыбнулся. В это время послышался шорох ключа в замочной скважине. Отпустив мышонка на пол, Корейшев прилег на гнилой матрац и отвернулся лицом к стене. Дверь за его спиной с повизгом распахнулась, и за порог подвала вошли друг за другом двое: уже знакомый нам новый главврач больницы Саблер и прилично одетый, сорокалетний московский предприниматель Иван Афанасьевич Щегловитов. Пропустив Щегловитова первым в сырую густую темень, Саблер включил рубильник и настороженно огляделся.
Щегловитов неспешно прошел за дверь и, с любопытством взглянув под лестницу на скорчившегося в углу Корейшева, дождался подхода Саблера. И только после того уже, когда Саблер прошел за ним, оба они солидно стали спускаться вниз к привставшему на матраце Ивану Яковлевичу Корейшеву.
Иван Яковлевич был так худ и с виду настолько жалок, что Щегловитов тут же преобразился. Его тревожная напряженность, с которой он поджидал входа в подвал главврача больницы, сменилась вальяжностью и раскованностью. Так что он подошел к Корейшеву уже настоящим барином, снисходящим до разговора с тихим бездомным нищим.
– Здравствуйте, Иван Яковлевич, – поглаживая бородку, поприветствовал он Корейшева. – Вы, говорят, пророк? Может, и мне что-нибудь эдакое предскажете? Ну, скажем, подпишут ли в министерстве мои бумаги? И если «да», то кто: сам или кто из присных?
– Подстава твоя потерпит, – тихо сказал Корейшев, позванивая цепями. – А вот печень того и гляди развалится. Так что, если в ближайшие два-три месяца ты не распродашь все свои заводы, а денежки не раздашь всем тем, кого ты так лихо «сделал», кувыркаться тебе, дядя, в реке огненной. Вечно. И дружба с сестричкою патриарха там уже не поможет.
Настроение Щегловитова снова резко переменилось. От его раскованной беззаботности не осталось даже воспоминания. И он оглянулся на главврача ещё более озадаченный, чем замерший за ним Саблер.
Иван же Яковлевич продолжил:
– К врачам и целителям не ходи. Это всё бесполезно. Один теперь только Врач может тебе помочь. Послушаешься меня, лет тридцать ещё попрыгаешь. По миру попутешествуешь. Меня причащать тут будешь. А нет – пора тебя гроб заказывать, дядя. Ну а теперь ступайте. Прием окончен.
И Иван Яковлевич, повернувшись к посетителям спиной, прилег на гнилой матрац и захрапел, как спящий.
Щегловитов и Саблер, оба обескураженные, молча пошли к двери. И только уже оттуда главврач обернулся к Ивану Яковлевичу и выдавил едва слышно:
– С завтрашнего дня мы переводим тебя в общую палату.
Корейшев даже не шелохнулся. Он как лежал, чуть сгорбившись, так и остался лежать, похрапывая; и только по его изможденному, заросшему свалявшейся бородой лицу покатилась поблескивающая слеза.
У бетонной стены забора на мусорной куче два опаршивевших породистых пса, – плешивый боксер и хромая колли, – сражались за кочан капусты. Вокруг них, рычащих и клацающих зубами, кружилось, каркая, воронье.
Похрустывая снежком, от обшарпанной двери больничной кухни с ведром помоев в руке к мусорной куче не торопясь приблизилась толстая раскрасневшаяся повариха в резиновых сапогах и голубом халате.
– А ну, пшли отсюда! – окатила она обоих собак помоями из ведра.
Из-за зарешеченного окна наблюдая за этой сценкой, семнадцатилетний, одетый в полосатую больничную пижаму Алик сладко зевнул и повернулся лицом в палату.
На расстояния шага от него, сидя друг перед другом на железных, привинченных к полу койках, играли на тумбочке в шахматы пятидесятилетний рыхлый о. Самсон и верткий, лет тридцати пяти, бухгалтер Салочкин. Одетые в точно такие же, как и на Алике, пижамы, шахматисты переговаривались.
– Давай, поп, рожай уже! – подзадоривал Салочкин о. Самсона.
– Не спеши, – раздумчиво пробасил священник. – Спешка нужна при ловле блох. А во всех остальных случаях она ведет своих присных к мату, – поставил он мат бухгалтеру.
Сразу за шахматистами, до подбородка спрятавшись под теплое одеяло, насмешливо наблюдал за своим соседом плешивый, с бачками, адвокат Катышев. Двадцатипятилетний поэт Сырцов, чья кровать примыкала к катышевой, что-то упорно искал под своей кроватью:
– Где же они, сукотина?
Выбравшись из-под койки, он заглянул к себе под подушку. И тут Катышев очень быстро отбросил в сторону одеяло и спрыгнул с кровати на пол. Проскочив на цыпочках мимо крупного ядерщика Канищева, в неестественной позе роденовского мыслителя замершего у тумбочки, и по пути подтолкнув Миронку, заметавшегося в проходе между кроватями, он со всего размаху сел на краю кровати, на которой лежал уже чисто вымытый Иван Яковлевич Корейшев.
– Привет, – косясь на Сырцова, всё ещё искавшего свои тапочки, улыбнулся Корейшеву адвокат. – Илья Ильич Катышев, адвокат, – протянул он Ивану Яковлевичу пухленькую ладошку.
Лежа на кровати поверх одеяла, с глазами, устремленными в потолок, Корейшев даже не шелохнулся.
И тогда Катышев, опуская пухленькую ладошку, ловко подхватил с тумбочки ложку Ивана Яковлевича и, суя ее под пижаму, назидательно объяснил:
– Вы не бойтесь. В нашей «камере» буйных нет. Так, мелюзга всякая. Алик от армии вон косит. Салочкин – от растраты. А у меня так и вовсе ежегодная передышка. Работа, знаете ли, психическая. Все жилы порой выматывает. Вот и приходится здесь отлеживаться. А что прикажете?
Представляя обитателей палаты, Катышев так увлекся своим рассказом, что даже не заметил, как к нему подступил Сырцов.
– Ах ты, сукотина! – ринулся к ногам Катышева поэт. – Опять мои тапки стибрил! Ну, я тебя урою!
– Спокойно, спокойно! – сбрасывая с ног тапочки, улизнул от поэта Катышев. – Вообще-то – это мои тапочки. Вон – с наклеечкой. А твои я не знаю где. Может, их Алик свистнул, – метнулся он по проходу между кроватей.
– Так ты еще и брехать! – в два-три прыжка настиг его у двери поэт и, повалив адвоката на пол, принялся избивать. – Вот тебе, вот, сукотина!
Замечая начавшуюся драку, Миронка молча отбросил веник и ускользнул за дверь.
Привстав над шахматами, у тумбочки, о. Самсон примирительно пробасил:
– Братья, ну что вы делаете? Накажут же! Как скотов несмысленных!
Однако Катышев, виясь уже, будто угорь, нырнул под койку ядерщика Канищева, и, несмотря на то, что Сырцов колотил его по спине и ниже, он патетично взывал к соседям:
– Товарищи! Господа! Прошу обратить внимание: избиение среди бела дня! Мелкое хулиганство! Статья сто семнадцать «б»: от трех до пяти лет общего режима!!!
Подлетая к дерущимся, бухгалтер Салочкин подзадорил Сырцова сзади:
– Дай ему! Дай ещё! Он вчера мою кашу свистнул! А только что вон у новенького ложку увел, я видел!
Видя, что ему не спастись от тумаков поэта, Катышев возопил:
– Россия!
И тотчас стоявший до этого недвижимо ядерщик содрогнулся и грозно спросил, оглядываясь:
– Кто тут против России?!
– Вон! Вон! Бей жида! – виясь под поэтом по полу, указал на Сырцова Катышев.
Канищев занес кулак, но опустить его на приподнятый зад Сырцова ему так и не привелось. В это время из-за двери в палату влетели два дюжих малых в голубых санитарских халатах, со шприцами наготове. И, направляясь к койке, над которою замахнулся ядерщик, тот, что был чуть покрепче и поувесистей, гориллообразный Сереня, громко и злобно рявкнул:
– Утюг!
Ядерщик тотчас оцепенел. С кулаком, занесенным вверх, он так и остался стоять у тумбочки, в проходе между кроватями, тогда как два санитара, разбросав дерущихся по палате, тут же вкатили им по шприцу галоперидола в задницы.
– Это не я, не… я! – успел взвизгнуть Катышев перед тем, как его тело окаменело, а санитар Сереня одним мощным выверенным рывком подхватил адвоката с полу и отшвырнул его, оцепеневшего, на кровать.
– Фашист! – прохрипел под другим санитаром поэт Сырцов и тоже оцепенел.
Небрежно схватив поэта за воротник пижамы, менее подготовленный санитар, пыжась перед Сереней, отшвырнул и его на койку. Однако поэт, проскользнув по ней, не удержался на одеяле и плюхнулся снова на пол.
– Куда?! Не мешки, чай, грузишь, деревня! – урезонил Сереня друга и, ловко забрасывая поэта кудрявой макушкою на подушку, пригрозил санитару пальцем: – Мягче. Как мяч в корзину. Ну сколько можно тебя учить?
И, замечая листок бумаги, вывалившийся из кармана штанов Сырцова, поднимая его, сказал:
– А теперь – спать! Всем спать! Ночь на хрен!
При слове «ночь» вошедший в палату Миронка схватился руками за голову и возопил:
– Китайцы идут? Спасайся!
– День, – зло прохрипел Сереня и сплюнул с досады на пол. – Но все равно – всем спать!
При слове «день» Миронка снова пришел в себя. Он тотчас же отряхнулся и, всем улыбаясь и низко кланяясь, ускользнул на свою постель, под теплое одеяло. Там он сложил под щекой ладони и в блаженстве закрыл глаза.
– Запарили, – тихо отметил Алик и тоже прилег на койку.
Салочкин и о. Самсон прилегли на кровати тоже.
И тут, когда все больные, находившиеся в палате, за исключением, разве, ядерщика Канищева, оказалась лежащими на кроватях, со своей койки покойно встал Иван Яковлевич Корейшев. И, взяв с подоконника небольшой кусок штукатурки, отчертил мелком угол палаты в полуметре от своей кровати. После чего, опустившись там, перед пустым углом на колени, широко и размашисто перекрестился, да и принялся отбивать поклоны.
Уже находясь у двери, Сереня с трудом прочитал с листа, уроненного поэтом:
Я выше, чище, чем звезда,
Но грязь земли в меня вцепилась…
– Хм, – ухмыльнулся он своему напарнику и перед тем, как выйти, еще раз оглянулся назад на обитателей палаты.
– Э! Звезда! – замечая Ивана Яковлевича, молящегося в углу, рыкнул ему Сереня. – Ты что, меня плохо слышишь?! Я же сказал: спать!
И он потянулся уже к карману, видимо, за шприцем, да только напарник шепнул:
– Не надо. Саблер его крышует.
Сереня задумался на секунду и, переварив услышанное, сказал от двери Корейшеву:
– Ладно, звезда. Только смотри мне: одно слово услышу, живо с небес спущу!
И он вместе с товарищем-санитаром вразвалочку удалился.
По коридору шагали четверо: Саблер, Щегловитов, седой старик с окладистой бородой и санитар Сереня. Санитар докладывал главврачу:
– Как пометил кусок палаты в самом углу, за койкой, так и живет там почти безвылазно. Разве что на толчок выходит. А на кровать так даже и не садится. То на коленях торчит и молится, то лежит на полу, как труп, и ни на какие вопросы не отвечает.
– Ну, и в чем дело? – спокойно спросил главврач.
– Так, непорядок, – с трудом нашел нужное слово Сереня. – Какой пример молодежи?
Снизу вверх устало зыркнув на санитара, Саблер, уже открывая дверь, услужливо предложил гостям:
– Прошу.
И пока Щегловитов со стариком бочком проследовали в палату, главврач, замечая неподалеку санитарку Валечку, – она как раз вынесла в коридор кучу пустых банок из-под пива, – сказал Серене:
– Ваша правда, Сергей Васильевич. Дурной пример – заразительный. Еще раз увижу это безобразие, – кивком указал он в сторону пивных банок, – уволю.
Все обитатели палаты, в которой «лечился» Иван Яковлевич, каждый со своего места, провели взглядами Щегловитова, старика с окладистой бородой и Саблера.
Приблизившись к застывшему на коленях, лицом к пустому углу Корейшеву, Саблер откашлялся и сказал:
– Доброе утро, Иван Яковлевич.
Оглянувшись на посетителей, Иван Яковлевич встал с колен и, обращаясь к Щегловитову, поинтересовался:
– Ну как, дядя, проверил печень?
Щегловитов кивнул в ответ, и Иван Яковлевич продолжил:
– И какое же будущее ты выбрал? Под патриаршую тюрю в реку огненную или еще пожить?
– Пожить, – тихо, но твердо ответил предприниматель, и тогда Иван Яковлевич, улыбнувшись ему, сказал:
– Вот это правильно! Продашь, значит, все свое ничего, раздашь денежки всем обиженным и – в Иерусалим. Тут я тебе чертежик вычертил, – достал он из бокового кармана больничной пижамы свернутый вчетверо лист бумаги и, развернув его, протянул Щегловитому: – Вот. Сядешь в Одессе на пароход – и до Бар-града. Поклонишься Николаю Угоднику и прямиком на Святую гору. А оттуда до Иерусалима – рукой подать.
– Любопытный план, – пряча листок в карман пальто, сказал Щегловитов.
– Да это уж какой Господь тебе начертал, – улыбнулся в ответ Корейшев. – Главное, в Бар-граде бананов не переешь. Вспучит. А на цирроз свой наплюй. Рассосется. Ну, а тебе чего? – обратился он к старику с окладистой бородой, стоявшему рядом с предпринимателем и важно кивавшему на каждую фразу Ивана Яковлевича.
Явно не ожидая, что к нему обратятся, старик стушевался и отступил за спину Щегловитому.
– Это мой повар Артем, – представил его Щегловитов. – Я уезжаю, его рассчитываю. Вот он и хочет в деревню к себе вернуться. А его старый отцовский дом, пока он у меня служил, вроде бы рухнул, что ли? Вот он и хочет построить новый, а какой именно – сомневается: то ли со шлакоблоков, то ли бревенчатый, пятистенку. Чтобы им вместе с внучкой было бы в нем покойно.
– Приляг, – предложил старику Корейшев и указал на пол за своей кроватью: – Вот тут.
Старик затравленно глянул на Щегловитова, но тот с улыбкой сказал ему:
– Ложись, коль уж вызвался попросить совета у Божьего человека.
Старик покряхтел и лег.
– На спину. Так, – склонился над ним Корейшев и вымерял рост старика вершками: – Два аршина, десять вершков. Подушка, чтоб покойно. Ну вот, поднимайся. – И как только старик встал с пола, спокойно сказал ему: – Дом советую фанерный: два аршина двенадцать вершков. Или метр девяносто пять на семьдесят.
– Так мы же с внучкой в него не влезем, – напомнил Ивану Яковлевичу старик.
– А зачем с внучкой? Внучка тут ни при чем, – отмахнулся от старика Корейшев. – Она сама себе дом построит. Ты лучше вот что: как приедешь на родину, все свои сбережения в банку отложи да прикопай её где-нибудь в саду. Ну, и план какой-никакой составь: где, мол, копать и сколько. Положи план в конверт и конверт тот снеси соседке: внучке, мол, передашь, когда она из мест не столь отдаленных на побывку домой заявится.
– Да нет, вы что-то путаете, – возразил старик. – Она же у меня учительница. В Самаре.
– Ты слушай, коли пришел. Вдругорядь повторять не буду, – урезонил старика Корейшев. – Деньги – в банку, письмо – соседке. А с домом не торопись. Внучка сама построит. И вот еще что, – обратился Корейшев вдруг к главврачу. – Сюда скоро один человек поступит, большая шишка, из новых русских, так нельзя ли его ко мне, на мою кроватку прикомандировать. Пригляжу за ним честь по чести, можете даже не сомневаться.
– А что за человек? – извлек из бокового кармана халата ручку и записную книжку главврач.
– Карнаухов Юрий Павлович, – продиктовал ему Иван Яковлевич. – Шестьдесят второго года рождения. Бесноватый.
– Хорошо, – спрятал главврач записную книжку и авторучку обратно в карман халата.
– Да, и кирпичиков бы сюда, – вновь попросил его Корейшев.
– Кирпичиков? – переспросил Саблер.
– Ну да. Щебеночки. Бутылочек битеньких. Черепички. А то люди пойдут, надо будет их привечать. Да и по стуку скорей отыщут.
– Хорошо. Я распоряжусь, – согласился Саблер. – Санитар принесет, сколько там Вам понадобится.
– Зачем санитар? – возразил Корейшев. – Миронку вон обязуй. Он у нас по хозяйской части.
С дальнего конца палаты, со своей койки, за разговором Ивана Яковлевича и Саблера внимательно следил о. Самсон. Поэт же, склонившись к тумбочке, писал на листке стихи; а адвокат Катышев улыбался, глядя туда-сюда, высматривая поживу.
Под грохот разбивающихся камней, из глухой непроглядной темени, на свет одинокого фонаря, мерно раскачивающегося над грязью, валила толпа китайцев. Медленно, неприметно фонарь превратился в желтый, расплющенный под рукой лимон, которым Иван Яковлевич, повторяя движения фонаря, натирал пред собою стену.
Рядом с ним, перед кучей мусора, которым была завалена часть пола в углу палаты, сидел на корточках краснощекий вспотевший мужик в длиннополом вязаном свитере и с усердием бухал одной половинкой красного огнеупорного кирпича о точно такую же запыленную, разваливающуюся в руках – другую. После каждого грохота кирпичика о кирпич половинки в руках мужика раскалывались, и на огромную кучу мусора перед его ногами сыпались вместе с кирпичной пылью красные разнокалиберные осколки.
Прекращая тереть лимоном стену, Иван Яковлевич обернулся к сидящему мужику и тихо сказал ему:
– Ладно. Хорош пылить. Ну, что ж ты из кирпичей так мало песку насеял?
– Так песок же – скипелся весь, – объяснил Корейшеву посетитель.
– А жена твоя не скипелась разве с выводком-то твоим, пока ты по заработкам мотался?! Что же ты из неё побоями истерики выбиваешь? Разумно ли это, а? Ну, угробишь жену, а дальше – сам загремишь на нары. И детям сразу покойней станет. Где-нибудь в спецприемниках. Нетушки. Истерит жена – так ты её лаской исправить пробуй, личным примером, кротостью. Тогда и детишкам наука будет. Да и жена исправится, на доброго мужа-то глядучи.
– Ну, это вряд ли, – пробурчал себе под нос Краснощекий.
– А, – досадливо отмахнулся от него Корейшев и просопел затем: – Ладно, ступай уже. Завтра договорим.
И пока Краснощекий, вытирая ладонью разводы грязи на своем угревато-мясистом лице, приподнимался с пола, словно почувствовав на себе чей-то упорный взгляд, Иван Яковлевич оглянулся на толпу народа, безмолвствующую за его кроватью.
Там, среди старых тщедушных бабок в разноцветных платочках на головах и пары суровых мужчин в тулупах, стояла молоденькая монахиня. Это была та самая симпатичная девушка из Смоленска, из-за которой Ивану Яковлевичу пришлось столько выстрадать в психбольнице.
Завидев её, Корейшев радостно улыбнулся и двинулся ей навстречу:
– Таня!
– Таисия я, – порозовев, поправила Ивана Яковлевичи монахиня.
– Ну да, конечно! Экий я балбес! – стукнул Корейшев себя по лбу и поясным поклоном поздравил монахиню с пострижением. – С пострижением Вас, матушка Таисия. Вот видите, а чудо-то – свершилось. Теперь вам и за квартиру платить не надо, да и матушка всегда рядом, напоена и накормлена. Как просили.
– Слава Богу, – ответила монахиня. – Спасибо Вам, Иван Яковлевич.
– Мне-то за что? Бога благодари. Это же Он вам устроил всё.
– И все равно – спасибо.
Иван Яковлевич кивнул. И вдруг настороженно оглянулся.
Из-за двери в палату донеслось все усиливающееся похрюкиванье.
Все, находившиеся в палате, тоже взглянули в ту же сторону.
– Держись, мать, – сжал руку монахине Иван Яковлевич. – Сейчас мы увидим, как свершаются суды Божии.
В палату вошел главврач, а сразу за ним два санитара в белом вкатили за порог коляску, на которой, спеленатый по рукам и ногам в смирительную рубашку, сидел недавний богатый предприниматель Юрий Павлович Карнаухов. Пуская слюни, бывший вершитель судеб, весь как-то скрючась, дергался и громко, истошно хрюкал.
– Гость к тебе, Иван Яковлевич, – представил его главврач. – Как просил.
С грустью взглянув на умалишенного, Иван Яковлевич отвернул одеяло на своей койке и кивнул:
– Укладывайте.
– Только предупреждаю, – сказал Саблер. – Он безнадежен. Под себя ходит. Ест экскременты. Ну и визжит, как видишь. Тут такое начнется. И навсегда.
– Все в руках Божиих, – сказал Корейшев и прикрикнул на санитаров: – А вы что уставились на него? Укладывайте, укладывайте.
Санитары взглянули на главврача, а тот лишь развел руками. Тогда Сереня кивнул напарнику, и они уже быстро и слаженно отвязали Карнаухова от коляски и, уложив его на постель к Корейшеву, пристегнули руки и ноги умалишенного к спинкам кровати резиновыми ремнями.
– Ну, нет! Это уж чересчур! – срывая со лба мокрое полотенце, вскочил с постели адвокат Катышев. – Леонид Юльевич, я выписываюсь!
– Э-э-х! – потрепал себя за остатки волос бухгалтер Салочкин и тоже метнулся к Саблеру. – Уж лучше тюрьма, чем с этими! – указал на Корейшева с Карнауховым. – Я тоже здоров. И меня выписывайте.
– Очень хорошо, – улыбнулся Саблер и повернулся к Алику. – А вы, молодой человек, не хотите ли в армии послужить?
Всё время стоявший у подоконника Алик из-за плеча посмотрел на Саблера и вновь отвернулся лицом к окну.
– Ну и дура! – крикнул ему бухгалтер, но даже Алик не шелохнулся.
Тогда Саблер спросил у оставшихся обитателей палаты:
– Больше никто выписаться не хочет? Толя? Отец Самсон?
Поэт лишь пожал плечами и снова склонился к тетрадке с записями:
– Мне не мешает.
О. Самсон потупился.
– Ну, хорошо, – сказал Саблер. – Будь по-вашему, – и кивнул желающим выписаться: – Пойдемте.
В тот день посетителей в палате не было. Больные (а их оставалось всего семеро) находились каждый в своем «углу». Алик, как и обычно, поглядывал за окно, во двор; поэт сочинял стихи; физик-ядерщик памятником стоял возле своей кровати; Миронка подметал пол; и только о. Самсон, перебирая четки, молча следил от тумбочки за склонившимся над безумцем Иваном Яковлевичем.
– Спокойно, не крутись, – отмыв Карнаухова от фекалий, протер его влажной тряпкою Корейшев.
Между тем Карнаухов дернулся и, сбив ногой с табурета таз, повизгивая, захрюкал.
Иван Яковлевич привстал и, глядя, как растекается лужа воды под его кроватью, устало позвал Миронку:
– Миронка, тащи тряпку.
Миронка отбросил веник и поспешил к двери.
– Как тебя бесы-то скрутили, – наблюдая за корчами Карнаухова, с грустью сказал Корейшев. – Неужто не отобьемся? – И, осенив себя крестным знамением, начал безмолвно шевелить губами.
Видя, как от молитв Корейшева Карнаухова начинает выворачивать все сильнее, о. Самсон встал и подступил к кровати, на которой неистовствовал бесноватый.
– Давай помогу, – накрыл он огромными руками ноги умалишенного.
– Только молитесь, батюшка, – предупредил Корейшев. – Иначе не он Вас замучает.
И теперь уже они оба, – бывший священник на пару с Иваном Яковлевичем, – крепко стягивая простынями брыкающегося безумца, молча зашевелили губами.
Взглянув на них, поэт привстал со своей кровати:
– Может, и я чем могу помочь?
– Да ты уж пиши, пиши, – улыбнулся ему Корейшев. – Жги сердца, если Богом призван. А с какашками мы и сами как-нибудь разберемся.
Порозовев, поэт положил исписанный лист под подушку и не спеша подошел к кровати с похрюкивающим безумцем.
– У меня бабка так же орала перед смертью, – сказал он, поглядывая на Карнаухова. – У нее рак был. Матки.
– А у него – души, – ответил Корейшев. – Ну да не беда, отмолим.
– А это возможно? – спросил поэт.
– У Бога все возможно, – сказал Корейшев. – А ну сходи за Миронкой. Что-то он там пропал.
Поэт лишь кивнул и вышел.
В последний раз выгнувшись в пояснице, Карнаухов вдруг рухнул на спину и, прекращая хрюкать, тотчас же захрапел – уснул.
Заканчивая пеленать его, Иван Яковлевич спросил у о. Самсона:
– Говоришь, проверка закончилась?
Несколько удивившись заданному вопросу, о. Самсон лишь повел плечом и опустил глаза.
– Ну правильно, правильно, – привязывая больного к койке, утвердительно кивнул Корейшев. – В таких делах лучше не торопиться. А как насчет баньки, а, о. Самсон? Сегодня – пятница; может, вместе попаримся?
– Можно и вместе, – рассудительно ответил о. Самсон.
Вечером в бане, упершись руками в скамейку, Корейшев покрикивал на о. Самсона, который стегал его веничком по спине:
– Крепче бей, крепче. Вот так. Ну, хватит.
Распрямившись, Иван Яковлевич окатил себя шайкой воды близ душа. И, потряся головой, сказал:
– Ну и здоров ты, батюшка. Что же в дурке-то прохлаждаешься, старец божий?
– Лечусь, – сел на скамейку о. Самсон.
– И от какой же хвори?
– От уныния, сын мой.
– А я слышал, что уныние – это грех. От недостатка веры душа помрачается и тоскует, – сняв с гвоздика полотенце, принялся вытираться Иван Яковлевич.
– Может, и так…. – взглянул в покрашенное окошко о. Самсон.
– Тогда при чем тут дурка? – отбросив полотенце на скамейку, принялся одеваться Иван Яковлевич. – Молиться надо. Посты блюсти. Жить по Евангелию. Что, забыл?
С трудом поднявшись на ноги и направляясь уже под душ, о. Самсон досадливо усмехнулся:
– И какой же ты умный, Ваня. Видно, в прошлом году крестился? Что, угадал, пророк?! Советы мы все горазды. А вот как с собой справиться – это уже вопрос! Ничего, поживешь с моё – тогда и поговорим.
И о. Самсон, подняв руку ладонью к Ивану Яковлевичу, дал понять Корейшеву, что он разговаривать не намерен.
Натягивая рубашку, Корейшев понимающе кивнул.
За окном, в конусе света одинокого фонаря, с трудом освещавшего часть больничного палисадника с мусорной кучею у забора, падали крупные хлопья снега.
Наблюдая за их полетом, Алик вздохнул, потягиваясь:
– Тоска.
От кровати со спящим над уткою Карнауховым, Миронка, ссутулившись, предложил:
– Цветы вон полей. Или пол подмети. Послабит.
Полупрезрительно покосившись на сидящего в уголке Миронку, Алик снова выглянул за окно.
Глаза Карнаухова приоткрылись. Сквозь щель в едва приоткрытых веках он внимательно проследил за тем, как, поднявшись с кровати, поэт Сырцов обратился к Алику:
– А хочешь, я стихи тебе почитаю? – и он пошагал к окну.
– Тихо вы там, – зашипел на ребят Миронка. – А то Юрика разбудите, – и, в тревоге взглянув на дверь: – Как же долго они там моются.
И тут спеленатый по рукам и ногам в смирительную рубашку Карнаухов привстал с подушки, сладко зевнул, оглядываясь, и, цокнув зубами, вдруг весело рассмеялся:
– Оба-на! Я что, буянил, да? – оглядел он себя, спеленатого.
В ужасе отшатнувшись от подопечного, Миронка застыл на месте, в проходе между двумя кроватями, и в трепетном онемении покосился на Карнаухова.
Обращаясь к замершим у окна и с тревогой взирающим на него поэту Сырцову и призывнику Алику, Карнаухов доверительно прояснил:
– А я их, между прочим, предупреждал: нельзя смешивать дурь с «Текилой». Крышу снесет на раз! А они – наливай, нищак. Вот тебе и нищак. А ну-ка, пацанчики, развяжите меня…
– Куда?! Нельзя! – растерянно замахав на ребят руками, отпрянул к двери Миронка. – Я лучше Сереню вызову.
– Сереню? Дежурный доктор? – глядя на Алика и поэта, доверительно поинтересовался Карнаухов.
– Санитар, – первым направившись к Карнаухову, лениво отметил Алик.
За ним проследовал и поэт.
С улыбкой взглянув на молодых парней, привыкших всё делать в афронт начальству, Карнаухов высокомерно сказал Миронке, замявшемуся у двери:
– Ну, чего стал! Быстрее зови Сереню! Некогда мне прохлаждаться с вами. И так миллионов тридцать из-за этой гребаной презентации потерял.
Натягивая пижаму, о. Самсон сказал:
– Все мы по молодости романтики. Подвига душа жаждет. Да только жизнь, сынок, по мелочам всё больше раскручивает тебя. Оглянуться, брат, не успеешь, как ты уже не с Христом, а с Иудой в паре. А как оно так вот вышло, сразу и не понять. Вроде ж хотел как лучше. Ан предал и себя, и всех. Без всяких серебренников. Лавируя между кесаревым и Божьим.
Разглядывая дырку в своем носке, Иван Яковлевич сказал:
– Если ты имеешь в виду твои писульки в органы, так никого ты не предавал. Так, ерунду пописывал. Да и за ту покаялся. Господь тебя давным-давно простил.
Вначале несколько удивившись, о. Самсон вдруг побагровел и ударил себя кулачищем в грудь:
– Зато я себя не прощаю!
– А вот это – гордынька! – пригрозил ему пальчиком Иван Яковлевич. – Кто ты такой, чтобы суды вершить? Паства без пастыря пропадает. Душа по делу изнылась. А он, видишь ли, окопался тут и – унывает. Скажите, пожалуйста, какой совестливый попался! Прямо тургеневская барышня! Да ты забудь про себя, про свои болячки и к людям ступай, паси! И все как рукою снимет!
В это время, пока в палате поэт Сырцов и призывник Алик услужливо освобождали Карнаухова от смирительной рубашки, сам Юрий Павлович повелительно объяснял Серене, застывшему перед ним с сотовым возле уха:
– Снимешь с карточки штуку баков. Коньячку прикупи, бананчиков, шампанского, шашлычков, – подмигнул он поэту с Аликом. – Ну и девочек не забудь. Лучше звони с Пихатовной. У ее красоток хоть и ноги не от ушей растут, зато они понежнее. А то с этими моделями – одни кости. А дай-ка я лучше сам, – выхватил он телефон из рук замершего Серени и деловито заметил в трубку: – Так, Валерьян Лукич, сейчас к тебе Сергей, – и, прикрывая рукою сотовый, обращаясь к Серене: – Как там тебя по батюшке?
– Васильевич, – млея от благодарных чувств, с трудом просопел Сереня.
– Сергей Васильевич на тачке подрулит, обслужи уж его по полной! В долгу потом не останусь. Ага! Хорошо! Хоккей, – и вновь обращаясь уже к Серене: – Ладно, беги, родной! Валерьян тебе всё устроит!
В бане о. Самсон, повертев головою туда-сюда, просопел, растирая слезы:
– Поздно, сынок. Нет больше о. Самсона. Был да весь вышел. Труха одна. Тут мне жаба и цыцки даст. Да и тебе – тоже! Га-га-га! – рассмеялся вдруг, но, видя участливый, полный сострадания взгляд Корейшева, устремленный на него, тотчас же сник и спросил растерянно: – Что, обмельчал? Уязвляю, да?
– Неважно, – ответил Иван Яковлевич и принялся собираться. – Пойдемте, батюшка. А то там Юрик. Как бы Миронку не напугал.
– Прости, – вдруг рухнул о. Самсон на колени перед Корейшевым.
– Ну что Вы! Вставайте, батюшка, – попробовал Иван Яковлевич приподнять о. Самсона.
– Виноват. Прости, – настоял тот, даже не шелохнувшись.
– Бог простит, – опустился Корейшев на колени перед о. Самсоном. – И Вы меня, батюшка, простите.
– Спасибо, – обнял Корейшева о. Самсон и смачно поцеловал в щеку. – А я грешным делом думал, что ты колдун. А ты вот он какой, оказывается.
В ожидании возвращения отъехавшего за девочками Серени, Юрий Павлович разлил по кружкам спирт и усмехнулся уже хорошо подвыпившим поэту Сырцову и Алику:
– Жизнь, она, братцы, единожды нам дается. И прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно. Правильно? Мироныч, друг, – вдруг обнял он старика и чмокнул его в залысину. – Ну что, пацаны, вздрогнули? За удачу!
Поэт и Алик чокнулись кружками с Карнауховым, в то время как тот, прищурившись, менторским тоном спросил Миронку:
– А ты почему отлыниваешь? Не уважаешь?
– Мне нельзя, – в тоске объяснил Миронка. – Китайчики одолеют.
– Ерунда! – подлил ему в стакан спирту Карнаухов. – Пей. Лекарство.
Миронка поежился и в ужасе заморгал.
– Ну! Я кому сказал! – поддавил его Карнаухов.
Испуганно замигав глазами, Миронка тем не менее потянулся рукой к стакану:
– Ну, если вы считаете…
– Да! Считаю! – уверенным тоном выдохнул Карнаухов и оглядел собравшихся. – Ну, за нашу команду! Вздрогнули!
Пугливо оглядываясь на всех, Миронка поднес стакан к губам.
И тут дверь в их палату со скрипом приотворилась, и на пороге выросли вернувшиеся из бани о. Самсон и Иван Яковлевич Корейшев.
Увидев их, Миронка испуганно встрепенулся и спрятал стакан за спину:
– А мы тут выздоровление товарища отмечаем, – оправдался он перед Иваном Яковлевичем. – Вот Юрий Павлович пришли в себя.
– О! Пророк! – с ухмылкою поприветствовал Корейшева Карнаухов. – Алик, а ну-ка, плесни пророку! Давайте, отцы честные, присоединяйтесь. Хлебните спиртку за моё здоровье.
Растерянно покосившись на Корейшева, о. Самсон потупился:
– У меня – печень… – И он неуверенно, как-то боком, осел на свою кровать.
Корейшев молча прошел в свой угол, уселся на куче щебня и, подняв повыше два самых грязных и увесистых кирпича, принялся громко стучать булыжником о булыжник. Клубы пыли и битого кирпича, смачиваясь о влажные после бани волосы, тут же усеяли ему голову тонким налетом красно-багровой грязи. Струйки пота и липкой грязи поползли по щекам и по лбу Корейшева, в то время как его губы бесшумно что-то нашептывали.
– Колдует! – подмигнул Карнаухов товарищам по попойке и поднял повыше стакан со спиртом. – Ну что ж, за твоё здоровье, пророк! – И он одним махом выпил стакан со спиртом.
Занюхав выпитое рукавом халата, Карнаухов хотел уже было что-то сказать Корейшеву, но тут вдруг, сам того, видимо, не желая, растерянно огляделся. Судорожно схватился рукой за горло. И снова истошно, навзрыд захрюкал.
Поэт Сырцов и Алик в испуге отпрянули от больного.
Миронка растерянно замигал.
А от двери, где за секунду до этого как раз появились четыре густо нафабренные девицы в коротких кожаных юбках и в белых полупрозрачных блузах с выглядывающими из-под них пупками, послышался громкий девичий визг. Испуганно завизжав, путаны рванулись назад, к двери, прямо навстречу входящему вслед за ними, с двумя огромными свертками с продуктами в руках, улыбающемуся Серене.
В палате поднялась кутерьма: содрогаясь всем телом в шаге от Ивана Яковлевича, по-прежнему громко бухавшего камнями, Карнаухов истошно хрюкал; путаны визжали, пытаясь вырваться в коридор; под их напором пакеты в руках Серени с треском разодрались, и на пол высыпались продукты. Бутылки с шампанским, бананы, яблоки, апельсины раскатились по всей палате и даже по коридору. Натыкаясь на них и падая, убегающие за дверь девицы громко, на все голоса визжали. Алик и поэт Сырцов в недоумении и растерянности озирались по сторонам. И только один Иван Яковлевич сохранял спокойствие. Аккуратно положив кирпичи на пол, он размашисто перекрестился на иконы, развешанные в углу, после чего встал на ноги и, приближаясь к содрогающемуся в судорогах Карнаухову, спокойно сказал Миронке:
– Тащи ведро с водой. Да тряпок побольше – чистых.
А как только Миронка метнулся к двери, из-за которой всё ещё доносились взвизги и топот ног убегающих коридором женщин, обращаясь к Алику и к поэту, Корейшев сказал спокойно:
– Алик, где его смирительная рубашка? А ты – ноги его держи. Да «Отче наш» читайте. Или хотя бы: «Господи, помоги»! Иначе ведь – не удержите.
А потом вся палата, включая поэта, Алика, Миронку, о. Самсона и даже растерянно озирающегося Сереню, устало и тяжело дыша, молча сидела над затихающим, снова спеленатым по рукам и ногам в смирительную рубашку Юрием Павловичем Карнауховым, в то время как Иван Яковлевич, застыв за мусорной кучей, встал на колени перед иконами и, прижавшись лбом к полу, прошептал чуть слышно:
– Господи, что я делаю? Может, это не он, а я – настоящий тут бесноватый?!
Утром следующего дня в белую дверь кабинета Саблера постучались.
– Леонид Юльевич, можно? – заглянула в комнату санитарка Валечка, одетая в шубку, шапку и зимние сапожки. – Зашла вот проститься.
В глубине кабинета спиной к окну, по белым шторам которого бегали солнечные зайчики, сидел за столом главврач.
Напротив него на стуле сидела спиной к двери женщина в стареньком пальто и вязаной шапочке.
– Извините, – сказал ей главврач и прошел к санитарке Валечке. – Ну, всех благ тебе, Валечка. Надеюсь, в другом месте тебе будет легче.
– И я надеюсь, – с любопытством поглядывая на женщину, сказала Валечка и не выдержала, спросила: – А это что – на моё место новенькая?
– Да, – спокойно ответил Саблер.
Женщина, сидящая за столом, на мгновение обернулась. Это была Лена, та самая бывшая ученица Ивана Яковлевича, которую он в свое время отправил помогать матери выходить из запоя. Повзрослевшая лет на пять, она мельком взглянула на Валечку и вновь повернулась лицом к окну.
Саблер объяснил:
– Елена Владимировна мать свою привезла сюда. Из Смоленска. Специально к Ивану Яковлевичу.
– Это что, ту самую скандалистку из тридцать пятой?
Саблер кивнул: ту самую.
– Ну ладно, Леонид Юльевич, я пойду, пожалуй. Всего вам доброго, – сказала Валечка – и в спину сидящей на стуле женщине: – И вам тоже – всего хорошего. Главное, Вы не бойтесь. Сумасшедшие тоже люди. Как Вы к ним, так и они к Вам. За редким-редким исключением.
– Спасибо. Я поняла, – через плечо посмотрев на Валечку, улыбнулась в ответ Елена и вновь повернулась лицом к столу.
В палате Алик и о. Самсон кормили из ложечки похрюкивавшего Карнаухова, а Миронка переодевал в чистую пижаму ядерщика Канищева, в очередной неестественной позе замершего у тумбочки.
В то же время, отвернувшись в угол к развешанным там иконам, Корейшев молился Богу. И только один поэт вольно разгуливал между коек, помахивал ручкой и шевелил губами.
– Подержи штаны, – попросил его Миронка, и поэт ринулся помогать ему:
– Давай.
Держа на руке штаны, он посмотрел на ядерщика Канищева и сказал:
– Странная болезнь у этого ядерщика. Одно слово слышит и оживает. А вся остальная жизнь, выходит, ему до лампочки?
– Ничего, отмолим, – автоматически сказал Миронка и взял у поэта из рук штаны. – Спасибо.
В палату вошли Лена и Саблер.
– Доброе утро, – улыбнулся главврач больным и, направляясь в угол к Ивану Яковлевичу, поинтересовался: – Ну, как дела, Миронка? Что снилось?
– Слава Богу, ничего не снилось, – ответил Миронка. – За день намаешься. Не до снов.
– А мы тут как, сами кушаем? – проходя мимо койки Ивана Яковлевича, на которой кормили Карнаухова, спросил Саблер.
– Нет. До этого не дошло, – ответил о. Самсон и заключил: – Пока.
Главврач кивнул и, сопровождаемый санитаркой, остановился у самой линии, очерчивавшей угол с коленопреклоненным перед иконами Корейшевым.
– Иван Яковлевич, доброе утро! – обратился к Корейшеву главврач.
– А, Леонид Юльевич. Присаживайтесь, – поднимаясь с коленей, указал Иван Яковлевич на стул. – Вот вам конфетка. К чаю. И вашей новой помощнице, – протянул он другую конфетку Лене. – Держи, Леночка.
– Спасибо, Иван Яковлевич, – взяв конфетку, потеребила её в руке новая санитарка, после чего, глядя в глаза Корейшеву, сунула конфету в карман халата.
– Иван Яковлевич, – уселся главврач на стул. – Я тут пронаблюдал тебя и никаких психических отклонений не обнаружил. Может, мы тебя выпишем? Ступай себе с Богом и живи, как знаешь. Что ты на это скажешь?
Услышав это предложение, все обитатели палаты, за исключением невменяемых, дружно насторожились.
Иван же Яковлевич подергал пуговицу на своей пижаме и сказал:
– Ты смотри, отваливается. Где у нас нитки? Надо бы пуговицу пришить.
– Сейчас подам, – поспешил Миронка за катушкой с нитками, в то время как Саблер, разворачивая конфетку, переспросил:
– Ну так как, Иван Яковлевич?
– Так… я и живу, как знаю, – улыбнулся в ответ Корейшев и, взяв у Миронки катушку с нитками, поблагодарил мужчинку: – Благодарю.
– Но на свободе лучше, – жуя конфету, продолжил Саблер.
– С Богом – везде свобода, – оторвав пуговицу, принялся Иван Яковлевич пришивать ее на себе. – Ыш ты, какая верткая. Не поймаешь.
– Значит, отказываешься выписываться? Хорошо, – после секундного размышления встал со стула Саблер. – Неволить тебя не стану. Тем более что благодаря тебе мы больных тут кормим. Да еще и на лекарства кое-что остается. А если вот, как Елена Владимировна, из других городов к нам народ поедет, то к осени, я надеюсь, мы и больницу отремонтируем. Так что живи себе на здоровье. А надоест – выпишем. Пойдем, Лена. Да, кстати, Лена мать свою специально к тебе привезла лечить. От алкоголизма. В медицину не верит, а в тебя вот верит.
– В Бога надо верить, – улыбнулся Корейшев Лене. – Он лечит.
– Знаю, – ответила санитарка. – Только не всякая молитва до Него доходит.
Застыв в туалете у приоткрытой форточки, мать Лены, – постаревшая лет на десять молочная сестра Ивана Яковлевича, – высохшая, обрюзгшая, с огромными синяками под выцветшими глазами, – нервно куря папиросу, поинтересовалась:
– Ну и как: он тебя «узнал»?
– Да, – кивком головы подтвердила Лена. – Вот конфетку мне подарил.
– Негусто, – сказала мать. – Для любимой племянницы мог бы что-нибудь и посущественней припасти.
– Я ему не племянница, – напомнила Лена матери.
– А я – сестра? – выпуская колечко дыма, поинтересовалась мать.
– Сестра. Молочная, – прояснила Лена. – Впрочем, это уже не важно. Сейчас он просто «божий человек».
– Божий ли?! – сузились в злобе глаза у матери.
– Божий, божий, – уверенно подтвердила Лена, – скоро сама увидишь. И убедишься.
– И он меня, значит, вылечит? – с ехидцей спросила мать.
– Мама, ну что ты все время злобишься? – с досадой спросила Лена. – Порадовалась бы за брата. В наше время не спился и не искололся. Родиной не торгует. Живет себе потихоньку, людям вот помогает.
– Так я и радуюсь, – пыхнула дымом мать.
– Ты что, до сих пор его ревнуешь? – вдруг догадалась Лена. – К Богу ревнуешь, мама?!
– Да больно он мне впал! – зло огрызнулась мать и, сплюнув окурок в ведро с окурками, первой пошла к двери. – Ладно, пошли уже. К твоему «божьему человеку».
Проходя с матерью по длинному больничному коридору со множеством выходящих в него дверей, приближаясь с потоком людей в цивильных одеждах и больных в пижамах к палате Ивана Яковлевича, строго шепнула матери:
– Только ты не груби ему.
– Больно надо, – сказала мать. – Может, я и вообще разговаривать с ним не буду.
Поправив на матери воротник пижамы, Лена примирительно попросила:
– Расслабься, мама. Вот увидишь, всё будет нормально.
Вздернув одним плечом, мать раздраженно пыхнула:
– Так, может, мне вообще к нему не идти? Чтобы как-нибудь не задеть «божьего человека».
И тогда Лена, молча взяв мать за руку, ввела её, едва-едва упирающуюся, за белую дверь, в палату.
В палате собралось так много народа, – посетителей в цивильной одежде и больных в форменных пижамах, – что в первый момент как Лена, так точно и мать её несколько растерялись. С трудом протиснувшись за порог, одетая в белый больничный халат и в белую крахмальную шапочку Лена увлекла мать за руку, за собой. Просачиваясь за дочерью в угол к Ивану Яковлевичу, мать с любопытством огляделась по сторонам.
В глубине палаты, у окна, крепкий красивый священник Иван Афанасьевич Щегловитов, бывший московский предприниматель, а теперь вновь испеченный батюшка о. Иоанн принимал исповедь. К нему выстроилась целая вереница больных в пижамах и просто паломников к «божьему человеку» в самых разнообразных зимних одеждах. В этой очереди находились и Алик вместе с о. Самсоном и Миронкой.
Поэт Сырцов, сидя на стуле возле кровати Ивана Яковлевича, ухаживал за похрюкивающим безумцем.
Из угла же, куда сквозь толпу присутствующих Лена тащила мать, доносился знакомый голос Ивана Яковлевича:
– Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света, хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес.
Оглядываясь в толпе, Марина шепнула дочери:
– А народищу! Ни фига себе. И все к нему на прием лечиться?
– По-разному, мама, по-разному, – расталкивая больных, пробивалась Лена всё ближе и ближе к кровати Ивана Яковлевича. – Кто лечиться. Кто просто так – поглазеть да послушать.
– Круто! – сказала мать. – Если он хотя бы по рублю с брата берет, так это ж озолотиться можно. Действительно, хорошо устроился.
– Мама! – одернула Лена мать. – Ну что ты паясничаешь всё время? Зачем тебе это, мама?!
– Ну хорошо, молчу, – потупила глазки мать. – И всё ж таки кто бы мог подумать, что наш Ивасик в такого вот Кашпировского превратится! С ума сойти!
Чем ближе Лена и ее мать пробирались в угол к Ивану Яковлевичу, тем отчетливей и яснее, хотя и не очень громко, звучал голос Корейшева; а лица людей вокруг становились все вдумчивей и серьезней. Здесь находились все те люди, которым когда-либо помог Корейшев: Саблер, старушки в платочках на головах, монахиня Таисия, одноногий десантник на костылях, его веснушчатая подружка. В толпе отирался и краснощекий мужик в кожане с миниатюрной худенькою женой и двумя дошкольниками-детьми, одетыми по последней моде, во все новое и кричащее. А рядом стояла толстая больничная повариха в синем халате и полинявшей косынке на голове. И тут же два «новых русских» в длинных черных пальто до пят.
Обойдя кровать с похрюкивающим безумцем, Лена и ее мать оказались прямо перед меловою линией, полукругом вычерченной вокруг угла с Корейшевым.
Только теперь за линией открывалось сравнительно пустое пространство пола. Гора мусора, на стене – иконы. А между мусором и иконами, прямо на досках пола, лежал постаревший, высохший, с некрасивой клочковатой бородой, но со все еще молодыми и ясными голубыми глазами – Иван Яковлевич Корейшев. Одетый во все темное: в рубашку, халат и тапочки, с белым вафельным полотенцем вместо пояса, он смотрел вверх, под потолок, и тихо, проникновенно молился Богу:
– Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры.
Молитва Корейшева многих тронула: две старушки в разных концах палаты всхлипывали в платочки; краснощекий мужик в кожане бережно прижимал к себе щупленькую супругу и радостно улыбался. Супруга его снизу вверх поглядывала на мужа и тоже трепетно улыбалась. Их дети, – те просто радовались, с любопытством следя за бородатым дядькой, так лихо при всем народе разлегшемся на полу.
Тронула молитва и мать Лены, – Марину. Пришедшая вся на взводе, пряча свою взволнованность за напускной бравадой, женщина постепенно оттаивала душой. Вот она рассмотрела побитого жизнью Ивана Яковлевича – и несколько успокоилась, даже прониклась к нему, лежащему, жалостью и сочувствием. Но вот она присмотрелась к его улыбке – и тоже взглянула под потолок. Но ничего, кроме белизны, так там и не обнаружив, взглянула на «молочного брата» уже с нескрываемым любопытством, несколько удивленно. Чувствуя, что с ней происходит нечто незапланированное, что она поневоле втягивается в какой-то таинственный круг людей, несмотря на свои социальные и возрастные различия связанных чем-то важным и… радостным, – женщина вдруг поежилась и попыталась улизнуть из палаты вон. Однако, со всех сторон зажатая посетителями, она поневоле осталась стоять на месте. И тихо шепнула Лене:
– Я… хочу писать.
– Писай, – ответила Лена матери, неустанно следя за Иваном Яковлевичем.
– Что, прямо здесь? – прикусила нижнюю губу мать.
И тут вдруг запели бабушки. Началась церковная служба.
Иван Яковлевич встал с пола и вместе со всеми присутствующими в палате повернулся лицом к иконам. Щегловитов же в священническом облачении встал у окна со стула и, пройдя сквозь расступающуюся толпу к иконостасу, подал первый возглас:
– Благословен Бог всегда: ныне и присно и во веки веков!
– Аминь! – грянул хор из старушек и старичков, собравшихся в палате.
По мере начала службы похрюкивавший на кровати Карнаухов явно активизировался. Хрюканье становилось все громче, злее. Больного начало всё сильней сотрясать и дергать, выворачивая на подушках.
– Молитесь. Иначе не удержите, – шепнул поэт Сырцов пятерым дюжим мужикам, помогавшим ему удерживать Карнаухова, и первым безмолвно зашевелил губами.
Мужики тоже принялись молиться, однако едва-едва справлялись с бесноватым.
Видя эту сцену, Марина поневоле отпрянула назад, к меловой черте.
– Спокойно, сестра, – положил ей Иван Яковлевич ладони на плечи. – Сейчас ему станет легче.
И действительно, продолжая службу, о. Иоанн прикоснулся к неистовствующему больному золоченым священническим крестом:
– Вот имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Карнаухов истошно взвизгнул, в последний раз содрогнулся и, истекая потом, рухнул в беспамятстве на подушку. А как только священник продолжил службу, Юрий Павлович содрогнулся и впервые после его кутежа во время банного дня, когда в палате не было ни Ивана Яковлевича, ни о. Самсона, членораздельно и сдавленно прошептал:
– Пить.
Марина, как ошалелая, смотрела то на него, то на священника, чинно и благородно продолжавшего службу в непосредственной близости от икон.
– У него что, малярия? – кивнув в сторону Карнаухова, спросила она у дочери.
– Малярия, – вздохнула Лена.
А потом был погожий весенний день. Мартовская капель стучала по подоконнику.
Внизу во дворе больницы по искрящимся на солнце лужам Миронка перепрыгивал с камня на камень: он нес к больнице ведро со щебнем.
А у окна, сбив в открытую форточку пепел от сигареты, Марина сказала дочери:
– Что-то я не пойму. Вроде бы он, а вроде бы и не он. Далекий какой-то, чужой. Хотя глаза и добрые.
– Ладно, мама. Пойдем, – сказала Лена. – Бери, – взялась она за огромный тюк с выстиранным бельем.
Мать подхватила тюк с дугой уже стороны, и они вместе с дочерью вынесли тюк из прачечной.
Оказавшись опять в знакомом больничном коридоре, Марина сказала, волоча вместе с дочерью белье вдоль цепи белых дверей с табличками:
– А еще эти молитвы. Неужто он в Бога верит? В двадцать-то в первый век!
– От Рождества Христова, – напомнила Лена матери и принялась заворачивать вместе с тюком за угол.
Как и обычно, Иван Яковлевич находился в своем углу. Он стоял у стены и прислушивался к чему-то, а группа собравшихся посетителей, затаив дыхание, благоговейно за ним следила.
Внезапно отскочив от сидящего на постели Карнаухова, поэт Сырцов ринулся прочь от привставшей за ним пожилой женщины в сером пальто и пуховом платке:
– Не хочу я домой! Мне и здесь неплохо! Тепло, кормят, и никто тебя не трахает!
Следя невинными, как у младенца, глазами за убегающим от матери Сырцовым, Карнаухов болезненно сморщился и едва-едва не заплакал от страха.
Иван же Яковлевич, потирая апельсином стену, процитировал:
Ну, так живи: страдай, и до могилы
Покорно крест неси, учись терпеть,
Молись Творцу, проси любви и силы
Для Бога жить, за братьев умереть!
Услышав свои стихи, поэт растерянно оглянулся. Он взглянул на Ивана Яковлевича, потом – на мать. И примирительно просопел, вздыхая:
– Ну, хорошо. Давай попробуем.
– Давай, сынок, – обрадовалась мать. – А то от людей стыдно!
– У-у-у! – закатив глаза, поэт был готов снова бежать от матери, однако Иван Яковлевич напомнил:
– …проси любви и силы: для Бога жить, за братьев умереть! Хорошие стихи, не правда ли? Вы со мною согласны? – спросил он у матери поэта.
– Что? Вы – меня? Ну, конечно, – видя устремленные на нее взгляды дюжины посетителей и самого Корейшева, с улыбкой кивнула мать.
– А ведь это ваш сын их сочинил! – поднял Корейшев палец. – Ему их Сам Бог открыл. Какая премудрость: «проси любви и силы для Бога жить, за братьев умереть!»
Открылась дверь. Вошли Лена и Марина. Они внесли тюк с бельем.
– Так, обмен белья, – сказала Лена, и Алик первым метнулся на помощь женщинам.
Проходя за дочерью к койке о. Самсона, Марина покосилась на Корейшева.
– Доброе утро, сестрица, – помахал ей тот из угла. – Как спалось?
– Хорошо, – растерялась женщина. – А чего не так?!
– Да нет, всё так. Просто поинтересовался, – улыбнулся в ответ Корейшев, и Марина, пожав плечами, прошла за Леной к койке о. Самсона.
Женщины принялись стаскивать с постели о. Самсона грязные простыни и наволочки, а в это время Иван Яковлевич со своего угла запел вдруг молитву к Пресвятой Богородице. Он пел так тихо и проникновенно, что Марина поневоле занервничала: движения ее стали резче, лицо – злее.
– Мама, наволочку порвешь! – предупредила ее Лена.
– Не порву, – отрезала мать, и тут у нее сломался ноготь.
Лизнув окровавленный палец, Марина скривилась и вдруг ощерилась:
– Ну хватит тебе уж выть! Что жилы-то из меня вытягиваешь?! Чего ты от меня хочешь? Чего добиваешься?!
Прекращая петь, Иван Яковлевич сказал:
– Нет, родненькая, это не я – это Господь тебя призывает.
– У-у-м, Иисусик! – зарычала Марина вдруг и, отбрасывая окровавленную наволочку на пол, бочком поспешила к двери. – Ненавижу! Эту твою улыбочку! Всю жизнь мою исковеркал! Дочку в дурочку превратил! А теперь распелся! Не-на-ви-жу!
И она понеслась к двери ещё стремительнее и резче.
Правда, дверь распахнулась раньше, чем до нее добежала женщина. И прямо в дверном проеме Марина столкнулась лицом к лицу со щупленьким, сгорбившимся Миронкой, который вносил как раз со двора очередное ведро со щебнем.
Налетев на ведро, Марина отпрянула от Миронки. От столкновения с женщиной ведро с мусором опрокинулось и с грохотом полетело на пол. Марина тоже упала рядом. И, схватившись руками за ногу, скривившись от боли, простонала:
– У-у-м!
Взглянув на нее, скорчившуюся под дверью, Иван Яковлевич отступил к иконам, опустился перед ними на колени и начал безмолвно молиться Богу.
К Марине же со всех сторон сбежались Миронка, Лена, Алик, поэт Сырцов и даже о. Самсон.
– Мама! – склонилась к Марине Лена. – Больно?! Миронка, Алик, перенесите её в палату.
– Нет, я – сама! – зарычала Марина, вскакивая.
И тотчас, кривясь от боли, рухнула прямо на руки подхватившим ее мужчинам.
И привиделся Марине лес, – первозданный, девственный, весь залитый солнцем и птичьим щебетом. По тропинке вдоль бурной речки шли с удочками двое: десятилетние Марина и Иван Яковлевич.
Вот мальчик остановился и показал девочке, куда им надо перебраться через лежащее в речке поваленное дерево. Он первым влез на скользкий влажный ствол и поманил за собой Марину.
С тревогой взглянув на воду, девочка проследовала за мальчиком.
– Только не смотри вниз, – предупредил Марину пятнадцатилетний Иван Яковлевич, делая шаг по стволу вперед. – Давай руку.
Взволнованная Марина протянула руку Ивану Яковлевичу, и они уже вместе, Иван Яковлевич впереди, а Марина – сзади, пошли над бурлящим лесным потоком, по мокрому скользкому стволу.
Дойдя до середины речки, Марина не удержалась и посмотрела вниз. Тут же нога ее поскользнулась. И девочка закричала, падая.
Обернувшись на её крик, Иван Яковлевич сказал, протягивая ей руку:
– Не смотри вниз! Держись!
Хватаясь за руку мальчика, девочка все же свалилась в воду.
Бурная река подхватила девочку. Еще чуть-чуть – и она унесла бы Марину на камни.
Отбросив удочки в воду, мальчик одной рукой схватился за ветку дерева, а другой из последних сил стал удерживать тонущую Марину. А когда силы мальчика иссякли, он поднял глаза к небу и безмолвно взмолился к Богу.
И тогда, неизвестно откуда взявшись, прямо над мальчиком вырос седенький старичок в белом подряснике и в белой же камилавке на голове. Ободряюще улыбнувшись Ивану Яковлевичу, он протянул девочке посох. Марина схватилась свободной рукой за посох и подтянулась.…
…дернувшись, повзрослевшая лет на тридцать Марина вскочила с подушки и растерянно огляделась.
Она находилась в больничной палате. Вокруг располагались койки и такие же, как сама Марина, серолицые, побитые жизнью женщины в форменных пижамах, сидя на койках: одни – разговаривали, другие – играли в карты.
Понемногу придя в себя, Марина по привычке протянула руку к тумбочке, к стоявшему там стакану с водой. Дотягиваясь до стакана, она и сама посмотрела в ту сторону. И от неожиданности едва-едва не опрокинула стакан.
Прямо перед Мариной, у тумбочки, стоял мокрый посох, – тот самый, из ее только что закончившегося виденья.
– Откуда взялась эта палка? – после секундного замешательства спросила Марина у своей соседки.
– А пока ты спала, твой дедушка приходил, – объяснила та. – Посидел и ушел. А палку, видать, забыл. Ничего, он сказал, что скоро опять зайдет.
Марина кивнула только и опустила голову на подушку. Полежала секунду-другую, глядя перед собой, и снова скосила глаза на посох.
Он по-прежнему стоял у тумбочки, – реальный, отбрасывающий густую тень на часть стены и пола, весь покрытый капельками воды, с единственным зеленым листиком, едва-едва трепещущим на сквозняке.
– Может, убрать? – потянулась к посоху соседка Марины.
– Не надо, – твердо сказала Марина.
1999 год
*Иван Яковлевич Корейша, московский блаженный. (1783 – 1861 гг.).
1
Иван Яковлевич Корейша, московский блаженный. (1783 – 1861 гг.)