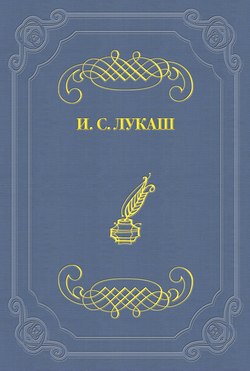Читать книгу Сны Петра - Иван Лукаш - Страница 2
Сны Петра
ОглавлениеЧерный токай, огнистая искра, глотки всем пережег. Денщики ковшами носили винище господам ассамблее. Князюшка Ромодановский ослюнявился, сел под стол и терся о колени шершавым паруком, сивыми коконами, пес смокший.
– Амператор, превеликой, всемощной, горазд кровушка в осударстве хлещет, уйми.
– Черт, кат, сам кровищи нажрался, так тошно.
Тупоносым башмаком Князя-Черта в блевотину оттолкнул. Звякнула на башмаке шведская пряжка.
А граф Толстой, опухший гнусавец, в морщины серая пудра затерта, левантийским табаком его потчевал, под локоть совал табакерку, а на ней отчеканены в червонных гроздьях срамные потехи амуровы и кадуцеи. Граф сопьяна непотребное плел о Флоренции-городе. Сказывал, как был захворавши во Флоренции упокойный царевич Алеша простудного коликой, почасту в огневице бредил: дворцы, гроты, каскады, сады.
Паруком Толстого по лицу хлестнул. Понеже об Алексии Царевиче молчание отныне и во веки веков. Аминь.
Снятся сны. Была вечор ассамблея, а то будто не было. Еще снились сны: плыл корабль во флагах зеленых, на корабле лев и бобр в человеческий голос кричат. На реке волн темных волнение, ветр, и нет корабля, а башни высокие, на башнях турки бьют в барабаны. А с барабанов осыпается жемчуг. Падет где жемчужина, там воззовет ясный голос:
– Алексий, Алексий, Алексий…
Сбил ногами овчинный тулуп к дубовой спинке постели. Сел, оперши ладони в пуховики. Тихо позвал:
– Катерина.
Спит. Ее пальцы удлиненные, чуть припухшие, на грудях с дыханием подымаются, и белеются груди в потемках.
– Катерина.
– Питер, а, – влажно пожевала губами со сна.
Он зашептал жалостно:
– Ночь ли, свет, не понять… Сны снятся… Мерещится, будто Толстого за парук таскаю… Была вечор ассамблея?
– А то нет. Знамо была, до свету шумели.
Повернулась к нему разогретой спиной, закачала постель.
Уже светает в узком голландском покойчике. Петр стал на половицы, босой, в холщовой долгой рубахе. На цепких ногах от холода пошевелились пальцы. Петр потянулся, вытягивая кверху все смуглое сжатое тело. Напряглись коричневые сухие ноги. В острых локтях и у сухой шеи хрустнули-перещелкнулись косточки-жилки. Заскреб ногтями в жестких волосах, падавших на глаза. Тошно ломит голову. От токая.
Он пошарил шерстяной красный колпак в изголовьях. От синей куртки табачная и потная вонь. Не мог попасть в рукав кулаком, в досаде рванул, треснуло в подмышке морское сукно. Быстро оглянулся на Катерину.
А та не спит и на него смотрит, темно, пытливо. Тусклые, с красниною волосы разметало по полным рукам. Неверно улыбнулась ему:
– Жонка шьет, а капитан Питер порет…
Подложила ладонь под теплую щеку. Теперь красноватые пряди мягко легли по белому крутому плечу.
– Мне сон, батя, снился… Вижу, будто сильный ветр мачты качает, а мы в Монплезир гуляем.
– И мне ветр снился. Токмо на реке. И волн темных волнение, – хмуро сказал Петр, подтягивая на долгую ногу чулок.
– А вот, батя, смехи… В Монплезир мы гуляем, а ветр-охальник дунь-подунь и робы на голова нам воздынул, фуй.
Зевнула, похлопала мягкой рукой по открытому рту:
– Смотрю, стемнелося, дам со мной нету, одна стою, а по берегу белые медведи идут, в лапах церковные свещи. И слышу окрест неведомое слово кричат: сальдореф, сальдореф.
– Сальдореф?
Петр стоит у окна, прижимая к стеклу лоб: остужает голову прохладою:
– Сальдореф… А мне нынче клики снились. Турки на барабанах играли. Гулко зело. С барабанов жемчужины осыпались. Падет жемчуг, и воззовет голос: Алексий, Алексий, а-а-а…
Судорога свела губу. Дрогнул угол острого плеча. Петр прижался к стеклу лицом, нос расплющился в белый пятак.
В невский туман сквозь окно смотрит выпуклыми глазами лик серый Петров, притиснуты к стеклу кошачьи усы.
Катерина подхватила на затылке красноватые гривы, заячий шугай упал с плеча, – волочит нечистую сорочку, – навалилась сзади на спину Петра. Затряслись полные, с ямками, руки:
– Светик, батя, Петрушь, опомнись, герр капитан… Она толкнула окно:
– Гляди, Пасха, людству радость, Христос Воскресе, – опомнись.
Сырой свежестью повеяло из окна. Над Невой, по обрывам, ползет туман. Влажно шуршат темные березы.
Петр втянул сквозь ноздри свежесть березняка, сырого песку, сосновых бревен. Над земляными кронверками крепости хлопает на высокой мачте желтый штандарт с черным орлом. Не оглядываясь, Петр пошарил за собою руку Катерины. Взял ее, мягкую, точно бескостную:
– Катерина… Помощника нету… Государству наследника… Один… А нынче в ночь, слышу, зовет, слышу, зовет…
Отбросил ее руку с силой. Об Алексии Царевиче молчание отныне и во веки. Тихо повернул к ней серое лицо, под кошачьим усом дергает губу:
– Выдь, Катя, душа… Мне одному быть надлежит… Нынче в ночь он меня сызнова звал, сын, Алексий, казнь моя…
Катерина словно не слышит, торопится, голос неверно звенит, осекается:
– Герру капитану гродетуровый камзол севодни подать, щетину дочиста обрить, сенаторов расхристосуешь, корабельщиков, гвардею, – из пушек пальба, виват инператеру… Смехи, каков сальдореф!
Петр медленно, трудными толчками, повернул к ней голову. Засохшие губы жалобно шевельнулись, точно он хотел что-то сказать, но потерял голос, и вдруг дрогнула в лице Петра серая молния, вздулись жилы на смуглом лбу, ощерился, крикнул гортанно:
– Курва окаянная, тебе сказано, сгинь!
Ахая, срывая с дубовой постели вороха тугих роб, епанчи, бархаты, Катерина ловит носком ноги башмак с красным каблуком. Поймала. Уже за дверями, тише, тише, дробный стук каблуков. Петр еще шепчет:
– Сгинь, сгинь, сгинь…
Передохнул. Цепкой пястью ударил в окно.
Желтеет песчаная коса в тумане под обрывом, и там видны бурые штабели кирпича, мачты, реи. На Неве по высокому заднему борту фрегата студено запылали червонцы корабельной оконницы. Ружье к локтю, ходит по песчаной косе солдат в зеленом кафтане с красными отворотами. Постоит, расставя ноги, круто повернет, ходит.
В выпуклых глазах Петра засветилась солнечная мгла. Под глазами подрожали мешки.
Звон сонный, отсыревший, плавно дохнул за Невой.
– Слободка Преображенская, – пошептал Петр и мелко закрестил угол груди.
По торопливому и жидкому звуку он узнал пленный шведский колокол, на котором по светлой меди выбиты латинские литеры: Soli Deo Gloria[1] Перекрестился. А в лицо зычно дунуло звоном, повеял холодный ветер. Ударила Троица.
Петр, кряхтя, осел на колени, припал головой к подоконнику. Он крестился, крепко вдавливая пальцы в покатый лоб и царапал ногтями по нечистой рубахе.
Звонари ходят по колокольням за Невой и на Троице, в крепостце и в полках. На Красную Пасху и сам прежде по московским звонницам лазал ударить в Набатные и Палиелей. Усладителен звон на Святителе Николае, перезыв Вознесения, а то Симонов Воскресенский, а то Саввы Сторожева на Звенигороде. К колоколам и Алексий Царевич, млад-отрок, с ним жаловал. На колокольную доску ножками вспрянет, погонится за веревкой, летит, кафтанишко хлебещет по ветру, русый волос воздынут крылом и лик худенький светел-пресветел.
– Батюшко, глянь, голубей, голубей, страсть помчало от звона…
Невнятен, горяч и порывист сиплый шепот Петра:
– Аще наказуеши мучительское сердце мое, изглодал душу мне окаянному, лютою стрелою припек… Алексий, сын, отыди, Алеша…
1
Славен един Господь (лат.).