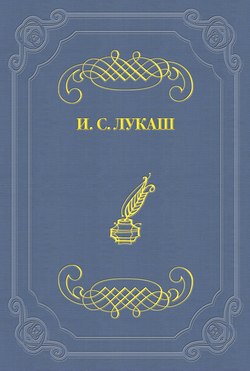Читать книгу Сны Петра - Иван Лукаш - Страница 3
Петр в Версале
ОглавлениеУ сине-золотой решетки Версальского дворца крутило вихрями пыль. Красные каблуки версальских кавалеров, персиковые и бланжевые чулки посерели, а с париков, крученных в шестьдесят лошадиных прядей, надобно было стряхивать версальскую пыль, как облако серой пудры.
Царь Петр Московский шагал ко дворцу пешим, впереди всех, без шляпы и парика.
Теплый ветер отбивал его жесткие черные волосы на впалую щеку. Отбрасывая пряди с лица, он кликнул раза два Преображенского денщика:
– Треуголку, Никита, подай, ветрит знатно…
За царем гремели красные, с золочеными спицами, колеса версальских карет, его денщик шагал в толпе французских придворных, жарко блистающих в пыли шитьем кафтанов, и не слышал.
Петра догнал арапчонок Агибук, на бегу красные шальвары раздулись шарами. Негритенок запыхался:
– Зачем кричишь, Питер?
– Шляпу, диво, подай: волос бьет.
На огромном дворе перед розовато-серыми крыльями дворца Петр, заслоняясь ладонью и остро щуря глаза, с четырех углов обошел медную статую в зеленоватых подтеках. Постучал по медному копыту смуглым перстом:
– Подобное мастерство отменно натуру преукрашает.
Московский царь в пыльных шведских башмаках с медными пряжками, в штанах желтоватой лосины, – на левой коленке, над самым чулком, сальное темное пятно, – головой выше денщика Никиты и версальских придворных, которые, впрочем, так склонились в поклоне, что пали гривы их париков до самой земли.
Арапчонок Агибук держит под мышкой камышовую трость Петра с обтертым набалдашником слоновой кости, а денщик несет дорожный погребец царев, обитый сафьяном. Рослый денщик выступил вперед, широко улыбнулся:
– Статуй, осударь, точно знатный. Меди одной, почитай, пудов до ста пошло. Когда бы истукана сего в наши московские пятаки перелить…
Петр быстро и весело прищурился на алый, с парчовыми узорами, кафтан денщика, шитый в Париже. Кафтан топорщился на спине преображенца, из рукавов с раструбами свисали желтоватые валансьены. Никита шевелил в них пальцами, точно красноватыми раками в сетях.
– Вырядился, – сказал Петр. – В-точь шут Педрилло. Тебе ли, бесстыжая харя, о сих искусных затеях рядить. Отойди от статуя, застишь.
Пышущий золотом денщик отступил, стряхнул рыжеватой гривой и ловко, вбок, сплюнул. По его румяному московскому лицу плыла улыбка, оставляя на щеках ямки…
А вечером того дня, при свече, царь Петр Московский писал нечто, скрипя пером, во дворцовом покое.
Черные волосы Петр подобрал на лоб, под ремешок. Он сам снимал нагар со свечи. Из глиняной трубки насыпал горку пепла на мраморный стол. Поплевывал на гусиное перо.
При свече был виден его покатый, в крепких морщинах лоб, исчерна-сивая прядь у впалой щеки.
А писал царь Петр, выдыхая табачный дым из ноздрей, кривыми, как острые царапины, буквами о затеях и дивах королевских другу сердешному герру Меншикову в свой Парадиз, в славный городок Санкт-Питербурх.
Агибук свернулся по-щенячьи у ног на засаленном плоском матраце-блинце, что возят за негритенком от самой Московии. Денщик Никита, уместивши ноги на пышной, в точеных гроздьях, спинке постели, полег в чем был: в алом французском кафтане и пыльных башмаках.
Сузивши глаза, денщик смотрел на огонь свечи, слушал проворный скрип государева пера, чесался, зевал, потом от скуки проковырял дырочку в шелковой шпалере, выбрал из камзольного кармана приключившийся там свинцовый карандаш, долго мусолил его и по шпалере, наискось, стал писать московской тесной вязью:
– Господи Сусе Христе помилуй ны…
Тут царь Петр сильно дунул на свечу. Денщик вспрянул, сел на тюфяк.
Его Царское Величество изволит молиться у окна. Мерно склоняется огромная и тощая Петрова тень, слышит денщик крепкий шепот, и, как при поклонах, сухо отхлестывают жесткие царевы волосы.
– Пошто, Никита, не спишь?
Из темноты, уже с постели, сказал Петр, стукая о паркеты отстегнутым башмаком:
– Сымай, сказываю, дурацкое кафтанье твое, да ложись. Денщик вздохнул, повозился.
– Сызнова ты, осударь, забранишься. А токмо кафтана сего, воля твоя, како стянуть, не умею. Почитай, полный вечер с красной сатаной бился, так и лег в окаянном: потянешь, он треск в плечах подает, ворот узкой на камзоле сзаду петли понашиты, распутать невесть, а брюхо, прости Господи, жерновом жмет…
Петр коротко рассмеялся, подозвал денщика. Он поворачивал его перед собой, как куклу, перекусил на камзоле неподатливый шнур, что-то рванул. Кафтан трещал, Никита тяжело дышал под руками царя.
– Не кафтанье парижское, московское охоботье тебе таскать, чтобы рукава до полу, да бородой ошерстеть. Не Преображенский ты вовсе солдат, а сущая баба…
– Бабой да бородой ты, осударь, не замай… Тоже под Нарову ходили… А к сему тесному уряду заморскому непреобыкши, точно. И зело оно жмет, а скинуть без сноровья не ведаешь. Спасибо, Твое Величество пособило…
– Ладно, дурень, поди.
Арапчонок расчихался во сне, надобно думать, от пыли, растрясенной Петром с замысловатого денщикова наряда.
А ранним утром по первому птичьему щебету, когда прохладное солнце еще низко ходило по стриженым стенам дерев, царь Петр Московский шагал один Версальским парком.
Облокотясь на серый край фонтана, он долго смотрел на медного, длинногривого и мокрого от росы Нептуна. Он постучал указательным перстом по медным ногам смеющихся фавнов, что веселой толпой несут на рожках мраморные омофоры, еще розоватые от росы.
Петр стремительно шагал, опираясь на камышовую трость. На смуглом лбу Московского царя билось прохладное солнце.
Его Христианнейшее Величество, короля Франции, маленького Людовика, будили очень рано.
В парчовом кафтанчике, прыскающем снопом золотых лучей, Людовик в то утро сбежал с террасы в парк вприпрыжку, посвистывая, впереди толпы придворных, что семенили за ним, придерживая шпаги и оперенные шляпы. По загнутым тульям стучали сивые пряди париков.
У бассейна Марны и Сены столкнулся король Французский Людовик с Московским царем Петром. По правде сказать, Людовик с разбега пребольно стукнулся о колено московита. Бледное королевское личико сморщилось от боли. Его Христианнейшее Величество готово было заплакать, но царь Московский проворно сел на корточки, забавно хлопая о гравий ладонями. Черная прядь, лоснясь, косо пала Московскому царю на глаза. Людовик близко увидел жесткие стриженые усы, выпуклые глаза с желтыми искрами и светлые капельки пота на носу московита.
– Никак зашиб, Ваше Величество? – Петр смеялся, обдавая мальчика запахом пота, табаку и солдатского сукна. – Сохрани Боже, сохрани Боже…
Огромным московским крестом он перекрестил маленького короля от головы до ног, звучно поцеловал в лоб и высоко поднял на руки.
Людовик доверчиво обхватил узкой, как у девочки, рукой жилистую шею московита и прижался нежной щекой к его жесткой щеке.
Петр прыжками побежал с ним вверх по мраморной лестнице.
Мальчик весело завизжал, глотая свежий ветер. Толпа придворных спешила за ними: кто поручится, не уронит ли короля московский гигант, не окунет ли в бассейн, да и возможно ли, чтобы царь Татарии поднял в охапку и понес на руках все лилии Франции?
В Зеркальной галерее стояли на узких столах вдоль стен стеклянные вазы с вареньем, любимое развлечение покойного короля-Солнца: в час прогулки по галерее золотой маленькой ложечкой он пробовал из многих ваз душистые и прелестные вымыслы придворных кондитеров.
В галерее царь Петр внезапно и довольно небрежно поставил на паркеты маленького короля, поднял палец и вдруг, в два прыжка, кинулся в другой конец залы. От бега зазвенели стеклянные вазы.
Надобно сказать, что арапчонок Агибук с утра забрался в Зеркальную галерею. Он уже успел окунуть под многие стеклянные крышки свою черную горсть. Его тонкие бровки и кончик плоского носа блестели от варенья. Он ел его горстями.
Агибук только что сунул нос в вазу с абрикосами в розах, как бы полную влажного золота, когда Петр поймал его за ухо и тут же, на глазах Королевского Величества, многократно и звонко отхлопал арапчонка по красным шальварам. Агибук вертелся, царапался. Он вырвался и проворно понесся по узким столам, опрокидывая вазы и печатая на зеркалах свою крошечную пятерню.
О точных событиях пребывания царя Петра в Версале хорошо осведомлены историки, но надобно сказать, что арапчонок Московского царя забрался тогда в самый дальний угол галереи, под стол. Арапчонок плакал в голос, растирая кофейными кулачками варенье и слезы, а красные его шальвары прилипли к паркетам.
И был вечер, когда Преображенский денщик Никита вошел в царев покой. Лицо денщика ярко горело.
Он сел на тюфяки, стал заплетать на ночь свои рыжеватые пряди, не доплел, поднялся, шатаясь, смахнул со стола глиняную цареву трубку. Трубка разбилась.
Никита усмехнулся, неверно пошарил осколки, сунул их под королевскую подушку, уже измятую и в сальных пятнах. Лег, шумно вздыхая. Вдруг запел диким голосом. Послушал себя, с укоризной покачал головой:
– Пьян ты, пьяница, захмелел… Осударю что скажешь? А скажу осударю: зело крутит вино королевское…
Отвернулся к стене, сплюнул вбок, на шпалеры:
– Вино и вино, а вить когда скушно мне в ихних землях… Таскаешься, прости Господи, ровно витютень, чтобы их вихорь пробрал, эва, папежство, фонтанен, мальвазии, державы заморские…
Он провертел пальцем дырку в шпалере, поискал свинцовый карандаш и под косой вязью, что писал от скуки вечор, стал теперь писать непотребные московские слова…
На сером мраморе версальских ступеней есть розоватые пятна, как бы отсвет дремлющей, уже потускневшей зари.
Заря догорает над засиневшей стеной стриженых дерев. Померк Большой канал, дорога стройных вод, розовато-серыми зеркалами спят округлые бассейны. Медные изваяния, отдыхающие у серых окаймлений фонтанов, вычеканены в воздухе вечера. Румяные капли зари на покатых медных плечах и на самых кончиках медных пальцев.
Царь Петр Московский стоит один у окон дворца, уже прикрытых изнутри белыми с позолотой ставнями. Петр стоит на террасе, над просторной и гармонической далью Версаля.
Тогда-то Агибук подполз и припал к его ноге, молча обнял каштановыми горстями. Так ли все это было или не так, но Петр опустил руку на жесткую и курчавую голову арапчонка. Петр и не видел, что у его ног сидит арапчонок, грустно скосивши белки на зарю.
Царь Петр Московский слушал гармоническую тишину отдыхающего Версаля. Его ноздри расширились, он побледнел.
Петр думал о том, как из сосновых срубов, из тесноты и грязей московских, со ржавых болотин, из дремучих лесин, из медвежьих охабней, сваленной шерсти бород, из глухоты нощи московской плавно воздвигнется, как заря, прекрасная и просторная земля, его новая держава российская, осененная лаврами.