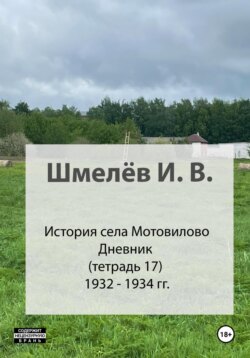Читать книгу История села Мотовилово. Тетрадь 17 (1932-1934 гг.) - Иван Васильевич Шмелев - Страница 2
Пропаганда Фёдора. Учёт в колхозе. Клички лошадей
ОглавлениеНе смотря на Фёдорову пропаганду против колхоза, а он среди временно вышедших из колхоза, говаривал: «Птичке выпорхнувшей из клетки, вряд ли захочется снова в неё попасть, какой бы ни соблазнительной была приманка!» И всё же, в колхоз вернулись не только те, которые временно вышли из него, а наоборот, где по осознанию, где по нужде, в колхоз вступили все хозяйства села, кроме, как было сказано, пяти, которые остались единоличными. Планы партии осуществились, коллективизацию сельского хозяйства по всей стране, почти полностью завершена. Партия, взяв курс на построение социализма, объявила боевой лозунг «Пятилетку в 4-е года!». Было выпущено следом ещё два государственных заёма под названием «Третий решающий» и «Четвёртый завершающий». Трудовой народ за досрочное выполнение пяти лет, взялся со всем рвением и энтузиазмом. На производстве, на стройках и в колхозах появилось боевое ударничество. Особо отличившихся в труде заносили на красную доску, отстающих с позором, заносили на чёрную. На промышленных предприятиях и в учреждениях на видном месте, вывешивались красочно оформленные показатели, кто какими темпами строит социализм, кто со скоростью самолёта, кто со скоростью паровоза, а кто едет на черепахе. У самых же отстающих в конторах на стене красовалось рогожное знамя, которое показывало позорное отставание данного коллектива. Для трудового подъёма среди колхозников был лозунг: «Сделаем колхозы большевистскими, а колхозников – зажиточными!» А также был выдвинут общий для всего народа лозунг: «Социализм – это, прежде всего, учёт». Ликвидируя обезличку, и полный хаос, в колхозе дружно взялись за наведение порядка и всё, вплоть до мелкого инвентаря, взяли на учёт. Более того, в животноводстве, по указаниям свыше, в колхозе навели строжайший учёт. Коровам, разгруппированным по местам, присвоили каждой свою кличку, тут были: «Жданка», «Вечёрка», «Умница», «Ведерница», «Сиротка», «Майка», «Бездонная», «Хрипуша», «Луна», «Зорька» и прочие, которые строжайше учитывались по масти, характеру и надою молока. Среди коров была рекордистка, недаром и кличка ей – «Бездонная». И по заслугам эту корову прозвали так, сколько её ни дои, и всё в её вымени молоко есть, но чтобы её не изнурить доением и не испортить, доярка Анна больше надоя полуторных дойниц за один раз «Бездонную» не изнуряла. «Ведерница» – доит по ведру и почти круглый год с молоком ходит. «Жданка» – долго ждала, когда её мать отелится, и ей, телёночку, присвоили это имя. «Вечёрка» – народилась вечером. «Зорька» – на заре. «Луна» – в лунную ночь. «Сиротка» – когда она появилась на свет, от натуги мать её издохла. Доярка Марья выкормила и выпоила её, вырастила до взрослой коровы. «Хрипуша» – эта корова по-коровьи мычать не умеет, а только громко хрипит. В коневодстве учёт лошадей завели ещё более подробный, чем по коровам.
Лозунг: «Лошадь в колхозе – основная сила!» – заставлял беречь колхозного коня. По штату, в колхозе полагалось иметь главного, двух старших (две бригады) и рядовых конюхов. Недаром в народе сложилась шуточная поговорка: «Старший помощник младшему конюху!» В колхозной канцелярии специальный счетовод по коневодству Ромка с помощью целой плеяды конюхов, навёл идеальный порядок в учёте конского поголовья. Он ни только знал лошадей по кличкам, среди которых были: «Громолей», «Вятель», «Неугомонный», «Голиаф», «Вагон», «Трактор», «Силач», «Буран», «Осёл», «Орёл», «Верблюд», «Трезвон», «Ветер», «Лягач», «Пягинай», «Лихой», «Упрямый», «Норовистый», «Бегун», «Резвый», «Оглобля», «Шорка», «Малышка», «Лестница» и знаменитая «Савельевская Вертеха», о горячем характере которой уже говорилось несколько раз. А вот почему другая кобыла называется «Лестницей», спрашивали счетовода в райколхоз-управлении, когда его вызывали туда для уточнения классификации конского поголовья по мастям.
– А потому, – отвечал счетовод, – когда была ожереблена, то была ростом очень маленькой, мы её назвали «Малышкой», а когда стала вырастать к хомутовой поре, выдула с колокольню, так что верхом на неё без лестницы не залезешь! Мы её перестали называть «Малышкой», а прозвали «Лестницей». Хотя и «Голиаф» – лошадь огромного роста, а всё же пониже «Лестницы». А вот мерин «Вагон» – лошадь неимоверной длины, как «пульман». «Верблюд» – имеет непомерно высокую холку, как горб у верблюда, и верховая езда на нём одно мученье, всю ж… изотрёшь и три дня раскорякой ходишь! Мерин «Упрямый» – в работе упрямится: встанет в борозде или в воде и, блаженствуя, ногами бурлит воду, одним словом, с норовом. «Пягинай» – при надевании на него хомут, назад пятится, иногда на немалую дистанцию. «Лягач» – имеет обыкновение лягаться задними ногами вскидывает, между передними у него хоть ребёнок проходи, не тронет, а к задним ничем лучше не прикасайся – лягнёт сразу обеими наотмашь! «Вятель» – вялый, как тюлень, едва его скопытишь, когда обротав, вздумаешь повести из стойла, ни один оборванный повод на его вялого счёту. «Громобой» – огромного роста, карий мерин, когда игогочет, как гром гремит. «Трактор» – неимоверной силы, гнедой масти мерин, ему любой воз нипочём! «Галоп» – выложенный жеребец, бегать рысью не может, с места берёт в галоп. «Буран» – ожереблён в такую непогодь, буранило – свету божьего не видать! «Осёл» – прозван за большие уши, как у осла. «Норовистый» – меренок с норовом, вздумает – любой воз повезёт, не вздумает – с малым возом остановится, и хоть весь кнут об него изхмыщи, с места не тронется! «Трезвон» – на свет появился, когда на колокольне трезвонили. «Орёл» – жеребец-производитель. «Оглобля» – кобыла из оглобель не вылезает, и устали не знает на ней, и днём и ночью ездят – безотказная лошадь. И опять же насчёт «Вертехи», при запряжке не постоит спокойно, так и просится в путь и только рысью бежит сломя голову, седоки только держись, а то из телеги вылетишь или шапку обронишь. Расписывая достоинства и пороки колхозных лошадей перед работниками райколхоз-управления, счетовод надолго задерживался в разговоре с ними, его хвалили за постановку такого идеального учёта, а на совещаниях ставили в пример другим счетоводам, которые отвечали за аналогичный учёт в других колхозах. А однажды его даже премировали, выдали ему уздечку и именную плётку, которая очень понравилась председателю колхоза, который впоследствии вызудил эту плётку у счетовода. Наведение подробнейшего учёта в колхозе на всякий мелкий инвентарь и в животноводстве, некоторых удовлетворял и радовал, а узнал об этом Фёдор Крестьянинов, высказался: «Нет смысла отыскивать пустых голов, их у нас хоть отбавляй и так!»