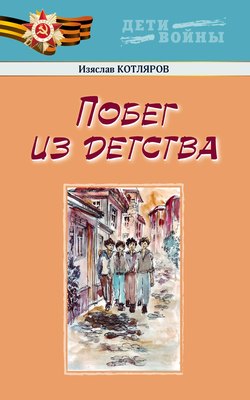Читать книгу Побег из детства - Изяслав Котляров - Страница 12
Лешка принимает решение
Оглавление– Ну, Леха, будешь и ты сыт, – Венька стоит, едва не по самые локти засунув руки, наверное, в бездонные карманы, будто хочет отыскать в них вчерашние пряники. Потом он недоверчиво вглядывается в лежащее посреди дождевой лужи бревно, приноравливаясь присесть, и не решается. – Смотри, как размокло, – вслух удивляется он, – а вчера здесь ничего себе было: и сухо, и солнышко, и пряники.
Венька привычно сыплет словами, а сам сдирает набухшую влагой кору.
– Вот уже почти сухо. Садись, Леха, я тебя учить буду, – Венька, видно, с утра настроился на покровительственный лад, но Лешка почему-то не чувствует на него вчерашней злости. И молча садится, неловко поджимая ноги.
Сколько помнит он Веньку – тот всегда был таким же. Другие менялись – толстели, худели, хромели, темнели, рыжели… А Венька оставался прежним – низеньким, юрким. Все так же цвело веснушками его светлое лицо, на котором беспокойно как-то сами по себе жили всегда готовые прицелиться хитроватым, понимающим взглядом серые, почти бесцветные глаза. Да, он никогда не менялся. Разве только заплат на нем становилось больше. И еще одно никогда не менялось. О чем бы ни говорил Венька, он всегда упоминал о еде. Вот и теперь.
– Ну, Леха, будешь и ты сыт, – уже в который раз повторяет он. – Значит, так. Сегодня в час дня идешь в сороковой дом, а я топаю в тридцать пятый. Главное, Леха, не робей. Зашел себе, скромненько поздоровался – и за стол. Начнут что выпытывать – тоже не робей. Скажи им, как меня мама учила: мол, не забуду вашей доброты и когда вырасту… А после «спасибо» – и все труды!
Венька, что-то вспоминая, неожиданно грустно прицеливается взглядом куда-то поверх сарая, и голос его на мгновение теряет поучающую уверенность:
– Ну, сначала стыдно будет, а потом обвыкнешь. Мама правильно говорит: стыд не дым – глаза не выест… Будь спок!
Лешка пытается уследить за Венькиным взглядом и тоже рассматривает крышу сарая. Еще вчера ветер золотистым вихрем ввинчивал в небо труху, а сегодня крыша лишь чуть-чуть дымится, подставляя солнцу черные расплывчато-влажные пятна. И земля дышит. Вьются над ней белесые клубы пара и, раскачиваясь, незаметно исчезают, растворяются в сияющей голубизне утра. Вот это да! Лешка удивленно рассматривает землю: темно-серую, усыпанную золотистыми щепками, густо истоптанную коровьими копытами.
Венька вдруг весело швыряет прутик на крышу сарая, и тот замирает на самой крутизне. Всего лишь на мгновение, а потом соскальзывает снова к его ногам. Ну и фокусник!
– А еще! – просит Лешка.
И Венька, скрывая самодовольную улыбку, небрежно подкидывает гибко изогнутый прутик. Теперь он лежит на крыше чуть дольше, словно не решаясь падать, но все-таки послушно летит к самой кромке лужи.
– Бог троицу любит, – повторяет Лешка где-то слышанные слова.
И Венька швыряет в третий раз. Может быть, чуть-чуть сильнее. Прутик перелетает дощатую вершину крыши и, уже невидимый, падает по ту сторону сарая.
– Не любит, – громко вздыхает Венька.
– Кто не любит?
– Ну, этот… Бог… троицы, – Венька смеется, а Лешка поспорить готов, что он здорово огорчен тем, что не удалось удачно забросить прутик в третий раз.
– Чтой-то жрать хочется, – уже совсем иначе вздыхает Венька. – Не люблю, когда жрать хочется. Ни о чем другом думать нельзя. Скорей бы обед! Ну и наедимся мы с тобой, Леха…Слышь, а тетя Феня, когда я ей о тебе сказал, так обрадовалась, что даже палочку свою уронила. Пришлось поднимать, – неожиданно вспомнил Венька.
– И что она тебе сказала? – нехотя поинтересовался Лешка.
– Это хорошо, говорит, что он не в мамочку свою пошел, что о себе подумал. Ну, и всякие другие слова… Но главное, обтяпала все быстро. Утром сказал ей, а в обед – топай, Леха, в гости! За бульбочкой с мясом или за картофельными оладьями с салом…
Но, увидев, что Лешка все так же молча сидит, не шелохнувшись, удивленно спросил:
– И чего ты ерепенишься? Тебе хотят как лучше, а ты…
– «Лучше, лучше», – передразнил его Лешка.
Нет, на Веньку он не мог долго сердиться. На Серегу Шивцева мог, на Борьку Сорокина тоже. Даже на маменькиного сынка Фимку Видова. Но не на Веньку. И в самом деле, чего он ерепенится? Жрать хочется так, что даже живот судорогой сводит. Тот кусочек жареного леща, который он проглотил утром с долькой хлеба, только сильнее напомнил о голоде. Думать ни о чем нельзя. Все жратва в глазах мерещится. Всякие там куски мяса с тушеной картошкой да оладьи, плавающие в жиру среди шкварок сала… Вот Венька и хочет ему все это подарить. Не надо будет притворяться сытым в душной, укутанной коврами и скользкими шелковыми занавесками Фимкиной комнате, стыдливо ожидая, когда Раиса Семеновна, по-вороньи картавя, произнесет: «Вот видишь, догогой, Лешка голодный, а учится на пятегки». А, убирая со стола всякие там блюдечки и мисочки, точно ошпарит словами: «И на здоговье, Фимочка! Если не учиться – так хоть есть он тебя, может, научит…» Нет, уж лучше, как Венька. Все ясно. Они знают, зачем пришел. И он тоже знает. Никакого притворства. Ходят же люди в столовую. И не расспрашивают их там – зачем пришли. Правда, там кормят за деньги, а у него никаких денег нет. Ну и что?! Вырастет и отдаст. Рассчитается. Привезет целый грузовик подарков и будет их развозить. «Это вам! Помните, вы меня пшенной кашей с салом кормили? А вам за мясо тушеное, за оладьи картофельные!» Вот это да! Ну и веселое будет время! И тете Фене какой-нибудь самый хороший подарок. Небось, удивится так, что снова свою палочку уронит.
Что-то смутное и ярко-радостное, как просветленные солнцем облака, всплывает в самом Лешке. И видит он себя высоким, крепкотелым, в кожаной, на «молниях» куртке, в новеньких черных брюках, заправленных в небрежно сдвинутые голенища хромовых сапог. И подарки в коробочках, перевязанных разноцветными ленточками, видит. Нет, за ним ничего не пропадет. Пусть не боятся!
Лешка взволнованно пригладил иссиня-черные кудряшки, потрогал рубаху, перешитую недавно из отцовской гимнастерки, глянул на покореженные сандалии… Нет, ни кожаной куртки, ни черных брюк, ни хромовых сапог на нем пока не было. Но это пока. Теперь Лешка был убежден, что будут. Обязательно! И машина с подарками тоже будет! Важно только очень этого захотеть. А он хочет. Да еще как! Вот только бы тетку Степаниду не забыть. Здорово она его тогда в магазине семечками одарила!
Лешка весело глянул на обиженно нахохленного Веньку.
– Значит, я иду в сороковой, а ты – в тридцать пятый? Отлично! – и весело предложил: – А может, махнем? Где лучше кормят?
Венька точно отряхнулся от чего-то наседавшего на него, выпрямился и, все еще не веря Лешке, начал радостно сыпать словами:
– Давно бы так. А то тебя не поймешь – хочешь ты жрать или нет… Кормят везде хорошо. В голодный дом нас, Леха, не пошлют. Будь спок!
Даже веснушки на Венькином лице засияли. А глаза держат прицельным взглядом, не отпускают от себя Лешкино лицо. «Ага, и ты такой же – ничем не лучше меня. Согласился. И чего только выпендривался зря? Ничего, голод не тетка. Будешь и ты, как я, по хатам ходить. Будь спок!» – читает Лешка в этом Венькином взгляде. Сказать ему или не говорить о кожаной куртке, черных брюках, сапогах да машине с подарками? Нет, не стоит! А то сам тоже захочет. Куда им две машины с подарками?! Многовато. Да и трудно Лешке представить Веньку не в этих заплатах, а в одежде, которую для себя наметил… В сороковой дом он пойдет. Теперь уже точно. Будет брать в долг. А там со всеми рассчитается. Пусть только не важничают. За ним не пропадет.
Наконец-то Венька отводит свой ликующий взгляд от Лешкиного лица. Наверное, не меньше торжествовала и тетя Феня. Что там плела Веньке? Похвалила его, Лешку. «Не в мамочку пошел…» И чего она все к маме вяжется? Лешка хмурится, снова мысленно вглядываясь в тот перечеркнутый дождем горестный день. Видит притихшую толпу, которая как-то испуганно расступилась, пропуская их с Фроськой к подводе с гробом… И опять как бы слышит сердитый шепот Фроськи: «Не буду я жить у Фени! Лучше в детский дом пойду!»
Вот это да! Не успел про Фроську подумать, а она тут как тут! Стоит себе в коротком цветастом сарафанчике, надетом поверх бабкиной батистовой кофточки. Сдувает кудряшки со своего хитрющего лица и еще улыбкой их с Венькой одаривает. Ну и нарядилась! Лешка уже собрался крикнуть ей: «Воображала – первый сорт…» – но Фроська опередила его:
– Ну что, старички? На солнышко выбрались? А я воду таскаю. Бабка опять стирку затеяла. Так что приказано откомандировать Алексея Колосова в мое распоряжение!
«Вот и Фроська! Что в ней осталось от той, которую только что вспоминал? – растерянно думает Лешка. – Сияет! Все забыла, наверное. И лицо будто отмылось от угрюмости. И глаза смеются. Может, и впрямь та долговязая девчонка в протертом пальтишке, в чулках, которые он ей тогда здорово заляпал грязью, была вовсе не Фроська? Изменилась! Постой, может, и он… так изменился? Только не замечает этого?» Лешка даже вздрогнул от этой неожиданной мысли.
– Лешень-ка-а! Я кому говорю, Лешень-ка-а! – изо всех сил копирует Фроська бабушкин голос и требовательно ведром позванивает.
Надо идти. Не отвяжется.
– Я пошел, – оборачивается Лешка к Веньке, словно тот сам не видит, что он уходит.
Поднимается и Венька, но медлит, что-то обдумывая. Мнет в руках кепку. Потом, то ли позевывая, то ли вздыхая, растягивает слова:
– Что-то есть хо-о-чет-ся-я!
А может, это он так намекает ему, чтобы не забыл сороковой дом? Ну и ладно! Другая мысль теперь не дает Лешке покоя. Раньше он думал, что меняется, и то незаметно, лишь все вокруг него. Но вот и Фроська совсем не та. Значит, и он меняется? Но как?
Лешка бороздит корявым носком сандалии песчаную тропинку. Но пыли совсем нет. Песок еще не просох, не отогрелся на весеннем солнышке. Да и поливают его. Каждый, кто воду несет, обязательно сколько-нибудь да расплещет.
– Ты там не буксуешь? – Фроська оглядывается и как будто передразнивает бабушку: – Лешенька, я кому говорю? Ле-шень-ка! Ты там не забуксовал в песочке?
Она хохочет, беззаботно машет руками, так, что рукава батистовой кофточки пышно полнятся ветром. Кажется, что вовсе и не несет зеленоватое ведро, а жонглирует им. Взмах – и оно взлетает над самой головой, два – и стремительно падает, показывая черное, давно потерявшее краску донышко… Фроська не идет, а приплясывает.
– Фрось, – наконец, решается Лешка, – здорово ты изменилась! А я изменился?
Ведро, словно передумав летать, почти волочится над самой тропинкой. Но Фроська еще не может остановить ни себя, ни своего веселья. И сражает Лешку наповал:
– И ты изменился… Вон как уши обвисли… Точно лопухи!
Да, с ней не поговоришь. А приплясывать перестала, напряглась. Ждет, что он ответит, чтобы потом поспорить уже всласть. Но Лешке спорить не хочется. И он молчит. Фроська совсем теряется от этого его молчания.
– Растем мы, Леша, растем, – наконец слышит он совсем другой – рассудительный – голос сестры. И кажется ему, что прилетел этот голос откуда-то издалека, из того времени, когда они жили вдвоем в холодной комнате, на стенах которой угрожающе расползались, будто пытались дотянуться к нему, причудливые влажные пятна.
Но Фроську снова захлестнуло веселое настроение, и она заторопилась танцующей походкой, забренчала летающим ведром:
– И э-то да-аже о-очень хо-ро-шо! И э-это да-аже о-очень хо-ро-шо! – распевает Фроська.
Лешка уже не смотрит на нее. Значит, все верно. Он думал, что изменится только потом, когда станет таким, как отец, как дядя Сеня. Оказывается, меняется и теперь. Может быть, каждый день, незаметно. И кто-нибудь вдруг обнаружит в нем это, как он во Фроське.
Тропинка скромно прижалась почти к самому забору, и они идут, окунаясь в ласковую, рябящую тень сада. Где-то здесь должен быть тот самый сороковой дом. Может, вот этот? Окна и двери его украшены, словно деревянными кружевами, золотистыми наличниками. Лешка торопливо отводит глаза. Ему почему-то кажется, что Фроська сейчас обо всем догадается.
А вот и серое пятно бетонированной площадки, и черная чугунная труба колонки над ней. На конце трубы бугрится крючковатый выступ. Фроська подцепила на него ведро, а Лешка нехотя взял в руки короткий, отшлифованный ладонями рычаг. Качнул раз, второй – ни капли не показалось. Только где-то в глубине колодца сухо перекатывался металлический лязг и почти неуловимым эхом слышалось далекое бульканье воды. На пятом качке Лешка почувствовал, как по спине покатились капельки пота. Стало жарко… А Фроська? Вот это да! Стоит себе и глазеет на шелковые занавески в окнах Фимкиного дома. Всем своим независимым видом как бы хочет ему сказать: «А ну, поспытай, братец, чего стоило мне одной и качать, и таскать воду!» А в трубе сухо. Это всегда так бывает, если долго воду не брали. Пока раскачаешь… Хорошо бы передохнуть, а то левую руку свело. Но об этом и думать нельзя. Передохнешь – все начинай сначала: вода опять убежит в колодец. А так уже скоро. Лязга почти не слышно, бульканье перешло в солидный переплеск. Он все ближе, ближе… Ага! Наконец-то! Тугая струя, разлетаясь брызгами, ударила по дну ведра. Теперь главное – качать, качать! Лешка всем телом тянет вверх ускользающий рычаг, а потом тоже всем телом падает, гнется вслед за ним к земле. Но зато вода прет вовсю! Даже захлебывается ею труба. Теперь и Фроська не прочь уцепиться за рычаг. «Подвинься!» – просит. Нет уж, поздно. Смотри себе на Фимкины занавесочки. Любуйся! «Давай помогу», – сквозь назойливый гул в ушах слышит он, но заставляет себя улыбнуться:
– Без соп-ли-вых обой-дем-ся!
Фроська мстительно вздрагивает от Лешкиных слов. А потом сама визгливо кричит ему:
– Да хватит качать, дурак полоумный! Вода переливается!
И вправду переливается с полнехонького ведра. Течет по бетонному желобку в пыльный кювет мостовой. Лешка отпускает рычаг, но вода все бежит и бежит – никак остановиться не может. А ведь сколько впустую качал! И вот сама льется. Может, так не только вода? Очень хочешь чего-то, стараешься. А потом уже не очень и хочешь, но оно само является… Лешка, тут же забыв обо всем, решает поделиться этой неожиданной мыслью с Фроськой, но та и не смотрит на него. Только выразительно за левую сторону ручки ведра держится. Хорошо, что хоть за левую ухватилась. Правая рука у него еще ничего, правда, тяжелая какая-то сделалась… Ну и пусть, если ей неинтересно, то и рассказывать не стоит.
Лешка берется за ручку ведра, и они совсем легко снимают его с выступа трубы. Фроська и не собирается опускать ведро на землю. Не устала, небось, наблюдая за Фимкиными занавесочками. Но ничего, нести не качать. Это проще. Особенно вдвоем. Но чего ведро вдруг так плеснуло? Фроська отскакивает, точно ужаленная.
– Ну ты, умник, не брызгайся!
Край Фроськиного сарафана мокро темнеет. Лешка напрягает руку, стараясь выровнять ведро, но вода в нем не унимается, словно ветер по ней рябь гонит. И Фроська уже боится – вон как руку оттопырила. Теперь холодный выплеск настигает его. Лешка вздрагивает, дергая ведро, и вода снова обдает Фроську.
– Ну все! С меня хватит! Пусти, я сама! – пищит она.
Ей, конечно, жалко сарафана. Но Лешка и не думал обливать. Да и воду расплескали. Хоть возвращайся опять к колонке.
– Пусти, я сама понесу! – уже кричит Фроська.
Ясное дело – хочет перед бабушкой покрасоваться. То, как она одна ведро притащит, бабушка, конечно, увидит, а то, как он один качал, и знать не узнает. Ну и хитрая сестра!
– Пусти! – требовательно тянет Фроська ведро в свою сторону, а Лешка – в свою. Они уже и не идут вовсе, а топчутся на мокрой тропинке.
– На, бери! – первой не выдерживает Фроська. – Тащи сам, если тебе хочется…
Он едва удержал ведро, вода в котором так и рванулась через край. Хорошо, что хоть успел левой рукой подхватить, а то бы вся на песке была. Теперь и отдохнуть можно…
По мостовой мчалась трехтонка. Лешка заметил в кабине за приопущенным стеклом дядю Колю в обычной кожаной куртке. Отца рядом с ним, кажется, не было. Выбитая колесами пыль все еще бежала за грузовиком, а когда улеглась, Лешка обнаружил, что Фроськи и не видно вовсе. Вот это да! Ну и сеструха! Пускай бы сама тащила. И чего он, дурак, заупрямился? Так и на званый обед опоздать можно…
А Фроськи не видно. Ни за тем забором с зияющим пустотой проломом, ни за кирпичной стеной Фимкиного дама. А еще топать и топать. Лешка нехотя берет ведро за деревянную ручку. Одному, конечно, тяжелее. Но мешает ему идти не тяжесть, а обида на Фроську. Сбежала! Небось, играет где-то в классики да еще посмеивается над ним. И Лешка так явственно представил Фроську, скачущую на расчерченном мелом тротуаре, что больше и шага ступить не мог. Пусть это ведро здесь остается! Ей не нужно, а ему тем более!
И тут кто-то будто толкнул или окликнул Лешку, заставив оглянуться вокруг. Но никого. Напрасно он ощупывал взглядом шелушащиеся кирпичной пылью стены Фимкиного дома, у подъезда которого стояла тачка с рыжим проржавленным колесом. Напрасно пытался заглянуть за ветхий забор с темным от яблоневых стволов проемом… Правда, на мгновение ему показалось, что в этом проеме кто-то испуганно отпрянул, когда он обернулся. Фроська? Ну, тогда посмотрим, кто первый не выдержит. Лешка оставил ведро и сбежал с косогора.
Еще недавно здесь, наверное, журчал ручей, а теперь от него остался только устоявшийся запах сырости да надежно утонувшие в засохшей грязи валуны. Лешка выбрал валун покрупнее и сел. Отсюда хорошо просматривалось голубоватое ведро с так и не опущенной, торчащей ручкой. И до чего тихо! Лишь где-то в бездонной синеве, совсем невидимый, захлебывался песней жаворонок. Когда-то Лешка видел его, маленького, чуть больше воробья, и удивительно похожего на этого птичьего забияку – такого же землисто-серого, только у самого горлышка и на груди украшенного густо рассыпанными темными пятнышками. А сейчас и не разглядеть. Вон там, кажется, барахтается, купается в облаках серый комочек. Но голосок и здесь звучит. Гулко, требовательно, задорно…
Лешка спохватился, услышав рядом на тропинке глухие, шаркающие шаги. Вначале он увидел темную, с широкими оборками юбку, прикрытую еще более темным пятном передника, а потом уже бахромчатый серый платок и восковое, морщинистое лицо старушки. Вот она заметила ведро, заслонилась от солнца ладонью и подслеповато по сторонам посматривает. Вот это да! Небось, думает, что ведро само воды набрало и по щучьему велению домой топает. А если захочет прихватить с собой это сказочное ведерко? Вон как нацелилась! И, опережая события, Лешка выразительно кашляет:
– Кхе! Кхе! – А потом на всякий случай и в третий раз повторяет еще громче: – Кхе-е!
Кто ее знает, эту старушку, может, она чуток глуховата? Но нет, слышит, видать, что надо! Вздрогнула вся – испуганно опустила руку и так зашуршала по песку, что даже пыль поднялась.
Лешка нехотя взбирается по косогору. Стоит ли приманивать прохожих своим ведром? Да и время не ждет. Может, в том сороковом доме уже за обедом косточки мясные обгладывают? Ждать его там будут, что ли? Лешка торопится – топчет поросший ершистой травой косогор. Ну и лопух же он! Сидел бы себе сейчас за столом… А здесь, наверху, оказывается, и ветерок есть. Вовремя он, однако, вылез из своего укрытия. Вон сразу несколько человек с пустыми ведрами к колодцу спешат. А это кто? Ну конечно, Фроська! Несется к нему со всех ног. Даже кудряшки на голове подпрыгивают.
– Ой, напугала меня та бабка! Упрет, думаю, наше ведро! – Фроська хохочет, нетерпеливо притопывая ногами. – Леш, а как бабка на ведро смотрела… Глазам своим не верила… Не могу! – снова заходится смехом Фроська и, словно юла, вертится на месте, раздувая сарафан.
– Значит, видела? – вслух думает Лешка.
– А как же?! Я там за забором сидела. Ну, думаю, упрет бабка наше ведро! И побежала…
Лешка даже не замечает, что они уже давно несут воду вдвоем. И ничего не разливается. Наверное, вылилось, сколько надо, а теперь ни капли не выплескивается. Давно бы так! И в сторону никто из них не шарахается. И не тяжело вовсе.
– Может, устал, передохнем? – заботливо спрашивает Фроська, и лицо ее сочувственно-доброе. Наверное, точно такое, каким и должно быть у сестры, когда она разговаривает с братом.
– Нет, что ты! Ничуть не устал, – торопливо откликается Лешка. И они дружно вышагивают по краям тропинки, великодушно уступив ее ведру, которое плывет, чуть-чуть покачиваясь над ней, как над извилистым ручейком.
Дома бабушка встретила их хорошо знакомой сердитой фразой:
– Ну, знаете, милые, вас не за водой, а за смертью посылать надо. Тогда можно не беспокоиться – долго жить будешь.
Она замолчала, удерживая в губах черную проволочную заколку, привычно укладывая на затылке серебристый жгут волос. Цветастый передник ее был почему-то завязан наизнанку – так, что белые нитки виднелись.
– Ба, а что это у тебя передник по новой моде надет? – не удержался Лешка.
Бабушка еще чаще заморгала ресницами и даже руками всплеснула:
– И правда! Ну, теперь жди сюрприза! Примета есть такая в народе. Я не раз убеждалась в ней, – бабушка не на шутку расстроилась и стала развязывать непослушными скользкими пальцами тесемки передника. – Замаешься тут с вами: чуть не каждый день – стирка.
Будто лохматое облако, висит над корытом пар. Бабушка почти тонет в этом тумане, но Лешка все же отчетливо видит ее руки, которые сердито комкают, трут на ребристой стиральной доске отцовские брюки. «Сколько же у нее зла на всю эту грязь, – думает он, – если чуть ли не каждый день стирает!» И ему вдруг жаль становится своей худенькой бабки, столько пережившей и перевидевшей, но так и не уставшей, удивленно моргая, всматриваться во все вокруг. А она уже кричит ему, не поднимая головы:
– Ле-шень-ка! Ты там возьми на кухне хлеб с подсолнечным маслом. Солью посыпь. Кипяточек в кастрюле. – Бабушка с наслаждением выпрямляется и повторяет одну из любимых пословиц: – Хлеб да вода – богатырская еда! Вот так-то, внучек.
Лешка приоткрывает фанерные двери своей комнаты и почти испуганно смотрит на часы, угрюмо тикающие над колченогим, устланным все той же пожелтевшей газетой столом. Без пяти минут два! Обождет его эта богатырская еда, от которой еще больше жрать хочется! Осталось пять минут, а этого времени хватит не только добежать до сорокового дома, но и по всей Березовке промчаться… Однако Лешка еще медлит, цепляясь взглядом за гири, свисающие с часов, за бамбуковую этажерку с книгами, а потом гулко хлопает дверями, будто обрубая свою нерешительность.