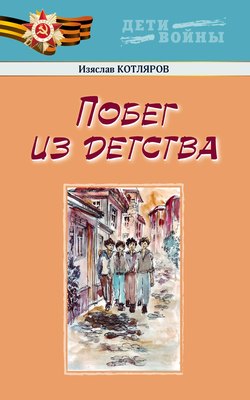Читать книгу Побег из детства - Изяслав Котляров - Страница 2
Взрыв
ОглавлениеПронзительный свист раздался за окном. Лешка вздрогнул, торопливо прикрыл промокашкой недописанное упражнение и толкнул раму. Ветер будто ждал этого: гулко хлопнул створкой окна, дохнул запахами цветущего сада. Лешка ослеплено щурился, вглядываясь в дымчатое сплетение ветвей. Но увидел чубатого Сеньку лишь когда свист повторился. Тот, оседлав забор, весело раскачивался, и рыжая шевелюра его словно горела под ветром.
Лешка выпрыгнул из окна, едва не угодив в любимые бабушки цветы, которые тянулись почти к самому подоконнику. Сенька, птицей слетев с забора и поджидая друга, выковыривал из серого ствола сливы янтарную смолу.
– Вкусно? – Лешка тоже отколупнул золотистый шарик.
– Ага, – Сенька облизал корявые пальцы.
Высоко над садом плыли пенисто-белые, пронизанные солнцем облака. Вокруг цвел, шелестел, жужжал неутомимыми пчелами облачно-белый сад. Пчела, наполовину утонув в лохматом пестике цветка, качнула веточку над взъерошенной головой Сеньки.
– Во дает! – светлое, всегда удивленное лицо Сеньки еще больше округлилось в улыбке. Он привстал на цыпочках, ловко щелкнул пальцем, словно выстрелил пчелой. Но тут же, чертыхаясь, прислонился к забору: – Гляди-ка, опять тесемка лопнула. А еще парашютная!
– Каши просят твои ботинки, – посочувствовал Лешка, наблюдая, как тот перевязывает тесемкой носки ботинок.
Но Сенька не расслышал этих слов. Закончив ремонт, облегченно выпрямился и, растягивая слова, произнес:
– Ни-че-го, ско-ро солн-це под-жа-рит, так не толь-ко эти ко-ло-ды, но и порт-ки сбро-сим! – Он шутливо подтянул подвязанные все такой же парашютной тесемкой полотняные штаны и процедил сквозь зубы: – Порядок в танковых частях… Идем, что ли?
– Куда? – недоумевая, спросил Лешка.
А Сенька, ловко подтянувшись на руках, снова оседлал забор.
– Вот так и за яблоками, и за сливами к вам лазить буду. Только созреют – не устережешь!
Лешка гордо оглядывал пенистые кроны яблонь, слив и груш. Он сам еще никак не мог поверить, что все это теперь принадлежит им, Колосовым. Переехали они совсем недавно, в феврале. Разделили со Щегловыми все пополам: и дом, и сад, и огород. Правда, бабка Щегловых – Матрена Яковлевна – до сих пор с этим дележом смириться не может. Каждое утро, сталкиваясь с ней в темных сенцах, Лешка вежливо сторонится и бодро выкрикивает:
– Здравствуйте, Матрена Яковлевна!
А та только отворачивает свое сухонькое, исчерканное морщинками лицо и бормочет в ответ что-то невнятное. Но Лешка поклясться готов, что бормочет она те же самые слова, которыми встретила их в день приезда: «Принесла вас нелегкая!» Тогда бабка Матрена здорово поразила их этими словами… И еще тем, как презрительно протопала мимо трехтонки, в кузове которой громоздились их некогда никелированные кровати, истертые, обесцвеченные матрасы, колченогий стол и жестяные кастрюли, миски, особенно ярко надраенные по случаю переезда… Да, Матрена Яковлевна – бабка с характером! На отцовскую бумажку, которую он гордо назвал ордером, и смотреть не стала. Так, спрятав руки под серый брезентовый передник, и ушла, оглушительно хлопнув без того перекошенными дверями.
– Послушайте, дорогая, мы ведь переселяемся на законном основании. Мы понимаем, что вам это неприятно. Понимаем, но…
Бабушка в зеленом чуть выцветшем жакете, в темной довоенной юбке, которая тоже, наверное, незаметно состарилась вместе с нею, еще недавно так торжественно сидевшая в кабине рядом с шофером дядей Колей, вконец расстроилась и задыхалась словами:
– Я понимаю… Я понимаю… Но нельзя ведь так…
Она обнимала изрядно потрепанную темную сумку, зачем-то трогала уложенные на затылке серебристым жгутом волосы и часто-часто моргала, удерживая слезы.
– Да будет вам, Вера Семеновна! – дядя Коля решительно выпрыгнул из кабины. – Чего там церемониться! Старая карга только о себе и думает. А то, что людям жить негде, ей наплевать! – он снял и бросил на сидение черную шоферскую кожанку, деловито скомандовал Лешкиному отцу:
– Давай, Викентьевич, откидывай борта!
Бабушка совсем обиженно заплакала.
– Успокойся, мама, – отец расправил под широким офицерским ремнем гимнастерку, – дом ведь не ее собственный, а государственный, – он так и не договорил, раздраженно махнув рукой…
Лешка снова мысленно увидел и тот ослепительно белый морозный день, и ту машину, опушенную колким игольчатым инеем, и отца, и дядю Колю, и заснеженные деревья. Вспомнил, как представлял уже тогда эти ветви в ярких солнечных бликах яблок и груш, радостно думая о том, что теперь не придется, стыдясь самого себя, тайком поднимать на улице кем-то недоеденный огрызок…
И вот сейчас, нетерпеливо ерзая на заборе, Сенька удовлетворенно хохотал:
– Во дает! Небось, сдрейфил, что в сад ваш дорогу знаю, а?
– Да ладно, чубатый! Выдумал! Пусть только созреют – всем хватит, понял? А цветут здорово. Ты глянь. Вот это да!
Но Сенька никак не хотел разделять Лешкиного восторга. Он снова презрительно сплюнул сквозь зубы и переспросил:
– Так идешь, что ли?
– Куда?
– Во дает! Не знаешь разве? Темный ты человек, Леха! Мы вчера во рву во-он какую мину нашли. И круглая, как твоя башка, только ушей не хватает. Айда со мной. Сейчас ба-бах-нем! Там уже и Витька сипатый, и Ромка…
Лешка на мгновение заколебался, оглядываясь на распахнутое окно, у которого его ждала тетрадь с недописанным упражнением.
– Надо бы дописать… Уроки не сделал, понял? – нерешительно проговорил он.
– Ну и чудик ты, Леха! У-уроки! Завтра ведь последний день – учиться лень… Я и не брался. Во дает! У-уроки… Скажи лучше, что сдрейфил!
Последние слова Сеньки будто подтолкнули Лешку. Он подпрыгнул, ухватился за высокие доски и повис на заборе.
– Ле-ша! Ле-ша! Ты куда это? – голос бабушки точно ударил по спине. – А уроки?! Я кому говорю? Немедленно в комнату!
Лешкины пальцы как-то сами собой разжались. И надо же – совсем забыл, что бабушка грядки вскапывает. А Сенька презрительно колет взглядом:
– Будь здоров, маменькин…
Он замялся, видно, вспомнив, что у Лешки нет матери, и повторил:
– Будь здоров, бабушкин сынок! Делай уроки!
… Лешка уже укладывал в старенький рыжий портфель учебники, когда бабахнула, наконец, Сенькина мина. Только теперь Лешка понял, что все время напряженно вслушивался, ожидая этого взрыва, жадно завидуя тем, кто сейчас во рву. А взрыв огненно полыхнул в окне, сердито пошатнул бревенчатые стены дома. Да так, что жалобно забренчали стекла, а пол как-то сразу стал серым от пыли.
Лешка выскочил в полумрак сенцев, едва не сбив с ног Матрену Яковлевну, и, не слушая ее сердитого бормотания, толкнул двери. Меж деревьями, высоко над стадионом густо стоял черный дым. Он все еще рос, заполняя небо, этот едкий, нескончаемый дым. Было тихо, и оттого особенно слышно, как где-то бился о зловещую тишину болезненный визг собаки. И вдруг тоже нескончаемо-протяжный, душераздирающий крик. Он ударил в небо с такой яростью, что даже черные облака над стадионом испуганно раздались, обнажая ломкие, как молнии, голубоватые просветы.
Но Лешка ничего этого не видел. Он бежал, задыхаясь, чувствуя, как тревожно трепыхается сердце под набитой ветром рубахой. Ноги его гулко и больно стучали по тротуару, потом по еще мокрой, осклизлой глине сырого оврага, по мягкому и теплому, как зола, песку. Зеленые стены церкви, черная чугунная ограда, ржавые столбы ворот стадиона… Лешка с разбегу ворвался во все еще вязкий, удушливый дым, в запах горелого железа, обожженной земли, в истошный крик какой-то растрепанной женщины, в надрывные гудки машины скорой помощи… Он уцепился за гибкую ветку вербы и судорожно глотал, будто обжигаясь, все эти запахи, крики, гудки, не чувствуя и не слыша своего испуганного голоса. Лешка никак не мог оторвать оцепенелого взгляда от розовато-белой кости и старенького ботинка, туго подвязанного парашютной тесемкой.
– Сень-к-а! Сень-к-а! Сень…
Кто-то бережно обхватил его за плечи:
– Пойдем, малый, нет больше твоих дружков. Догулялись…
Небо раскачивалось. Голоса и звуки становились тише, приглушеннее. Жесткие руки все так же грузно лежали на Лешкиных плечах.
– Пойдем, пойдем, малый… Насмотрелся уже…
Лешка почувствовал, что упругая властная сила чужих рук все дальше отводит его от извилисто ниспадающей в ров тропинки, и еще крепче уцепился за липкую вербовую ветку, ломая ее, сдирая длинную, как хлыст, кору.
Он так и шел, слепо сжимая в онемевших пальцах эту ветку. Только во дворе дома, у самой калитки устало ткнул ее в податливую, перепаханную землю.