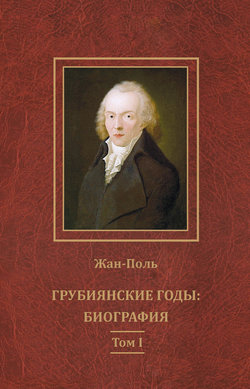Читать книгу Грубиянские годы: биография. Том I - Жан-Поль - Страница 12
Первая книжечка
№ 11. Желтинник
Радостный хаос
ОглавлениеПфальцграф немного разрядил атмосферу всеобщей неловкости, сгустившуюся после стремительного побега Вальта, сказав: мол, ваш sansfagon не заслуживает того, чтобы быть упомянутым в важном завещании, на оглашение которого он, пфальцграф, собирался его пригласить и которое как раз не очень согласуется с рифмоплетством. Теперь будто повернулось колесо, обеспечивающее удар молоточков в башенных часах, будто законным образом была снята заглушка с учительской души, полнящейся звуками и словами, – и учитель смог наконец ударить во все колокола: он ведь знал и теперь пересказал самые приятные клаузулы завещания, а фискал только подтвердил правдивость рассказа, когда дополнил его неприятными подробностями. Кандидат обычно так долго проявлял необычную мягкость после любой нанесенной ему обиды, пока его не просили эту обиду простить. Лукас уже – прислушиваясь лишь наполовину – звал, точно обезумев, Вальта, потому что не находил никаких других слов.
Наконец появился молодой человек, с нежным румянцем стыда на щеках; на него, однако, не обратили внимания: все, за исключением Кнолля, заглядывали в завещание. Этот последний с момента, когда Вальт начал читать вслух свои стихи, испытывал к молодому человеку настоящую ненависть – ведь если у соловьев музыка вызывает желание петь, то собак она провоцирует на вой; ибо то обстоятельство, что столь плохой, увлекающийся поэзией юрист должен унаследовать больше, чем он сам (эта мысль неотступно грызла ядро фискаловой личности), расстраивало его больше, чем утешало другое: что при всем своем корыстолюбии он не нашел бы наследника, больше, чем Вальт, предрасположенного к тому, чтобы проворонить собственное наследство.
Вальт растроганно слушал повторение и продолжение рассказа о наследственных обязанностях и частях наследства. Теперь, когда до ушей Лукаса донеслись слова об «11 000 георгдоров, вложенных в берлинскую лавку заморских товаров», а также об «обоих барщинных крестьянах в селе Эльтерляйн и соответствующих земельных участках», лицо шультгейса, на которое вдруг повеял южный зефир счастья, от изумления как бы растаяло, и он переспросил: «Пятнадцатого числа? Одиннадцать тысяч?» – А потом отбросил прочь через всю комнату свою шапку, которую прежде держал в руке, и спросил еще: «В этом месяце?» – А потом запустил пивной кружкой в дверь комнаты, едва не угодив в голову Шомакеру.
– Судья, – прикрикнула на него жена, – да что это с вами?
– Я так проявляю свою Gaudium, – сказал он. – Пусть теперь какая-нибудь собака из города попробует вякнуть, что я хочу украсть ее блох: эта скотина получит от меня хороший пинок. Нас всех, сидящих сейчас здесь, возведут в дворянское достоинство, и я по-прежнему буду судьей, но уже в дворянском звании, – или я стану судебным управляющим и смогу получить образование. А на земельных участках, доставшихся мне от Кабеля, я буду сажать исключительно рапс.
– Мой друг, – с досадой перебил его фискал, – вашему поэтичному сыну – прежде, чем всё это исполнится, – предстоит раскусить несколько твердых орешков, ведь наследником-то является он.
Тут нотариус со слезами радости на глазах шагнул к обделенному наследством фискалу и потянул на себя его неподатливую руку, говоря:
– Поверьте, посланец радости и евангелист, я сделаю всё, чтобы получить это наследство, всё, чего вы потребовали («Чего вы от меня хотите?» – прошипел в этот момент Кнолль, отдергивая руку): ибо я буду делать это ради людей (продолжил Вальт, обведя глазами всех прочих), которые, со своей стороны, сделали для меня еще больше; может, и ради брата, если он еще жив. Разве условия не очень просты, и разве не прекрасно последнее из них – требующее, чтобы я стал пастором? – Как же добр этот ван дер Кабель! Почему он так добр к нам? Я живо помню его, но раньше мне казалось, что он меня недолюбливает. Но я, кажется, читал ему свои длинностишия. Так разве могут наши мысли о людях быть слишком хорошими?
Вульт засмеялся и сказал:
– Едва ли!
Вальт совершенно по-дурацки, стыдясь себя, подошел к Шомакеру со словами:
– Не исключено, что я обязан этим завещанием именно поэтическому искусству – а уж знанием поэтического искусства я определенно обязан своему учителю, который пусть простит мне недавние неприятные минуты!
– Забудем же, – откликнулся тот, – что вы только что даже не назвали меня господином учителем, чего требуют обычные правила вежливости. Но теперь пусть царит радость! – Что же касается вашего господина брата, о котором вы вспомнили, то он все еще жив и даже процветает. Некий бойкий господин ван дер Харниш не так давно заверял меня в этом, но потом втянул в непозволительную болтовню о вашем семействе, из-за чего я так же мало заслуживаю вашего прощения, как вы – моего!
Тут нотариус крикнул на всю комнату, что его брат, оказывается, жив.
– Упомянутый господин встретил вашего братца в рудных горах, в городке Эльтерляйн, – сказал Шомакер.
– О Господи, тогда он наверняка появится здесь еще сегодня или, на худой конец, завтра, дорогие родители! – восторженно крикнул Вальт.
– Пусть только попробует! – возмутился шультгейс. – Я этого бродягу на порог не пущу: скорее сам подрежу ему ноги косой и заставлю насмерть подавиться диким яблочком!
Но Готвальт уже шагнул к Гольдине, которая, как он видел, заплакала, и сказал:
– О, я знаю, о чем вы думаете, моя хорошая. – После чего тихо прибавил: – О счастье вашего друга.
– Так оно и есть, клянусь Господом! – ответила девушка и подняла на него еще более восторженные глаза.
Мать не смогла удержаться от короткого замечания: что ее душа уже очень часто обманывалась подобными слухами о возвращении славного дитятки; после чего обратилась к раздосадованному фискалу и принялась дружелюбно расспрашивать его обо всех неприятных клаузулах, содержащихся в завещании. Но пфальцграфа настолько раздражал этот праздник радости (оплаченный, как он считал, его собственной наследственной долей), что в конце концов он поспешно поднялся с места, потребовал, от имени чиновника ратуши, полагающуюся в таких случаях пошлину и лишил ликующих мужчин надежды разделить с ним праздничный ужин: потому что, как он выразился, он лучше поужинает напротив, у трактирщика, который задолжал приличную сумму еще его отцу, из-за чего пфальцграф уже много лет – всякий раз, когда приезжает по судебным делам в это село, – старается побольше съесть и выпить в счет старого долга, чтобы таким образом мало-помалу ликвидировать задолженность.
Когда он ушел, Вероника поднялась на свою женскую кафедру и обратила к мужчинам пламенную проповедь, или инспекционную речь: они, дескать, проявили неучтивость, когда фискал объявил им о предстоящем получении капитала, – ведь их ликование наверняка раздосадовало пфальцграфа, который сам исключен из числа наследников.
– Но сейчас-то кто получил выгоду, он или я? Он! – сказал Лукас.
Шомакер же стал рассказывать, что воскресный проповедник Флакс уже получил целый дом на Собачьей улице, ранее принадлежавший Кабелю, – оплатив это приобретение всего лишь недолгим плачем.
Тут опечаленный шультгейс вскочил с места и заверил всех, что упомянутый дом, можно сказать, украден у его сына: потому что плакать умеет каждый; Вальт же сказал: дескать, его утешает – и помогает смириться с обрушившимся на него счастьем – то обстоятельство, что еще один бедный наследник тоже хоть что-то получил. Вероника оборвала его:
– Ты сам еще ничего не получил. Хотя я всего лишь женщина, но и от меня не укрылось, что по всему тексту завещания разбросаны какие-то подвохи. Еще с позавчерашнего дня чужие господа, понаехавшие из города, распространяли в нашем селе слухи о завещании; но я решила ничего об этом не говорить своему судье. Ты, Вальт, слишком неопытен в житейских делах; и вполне может получиться так, что незаметно пролетят десять лет, а ты и не получишь ничего, и останешься никем; что тогда будет, а, судья?
– Я его своими руками прибью, – сказал Лукас, – до смерти: если окажется, что он настолько глуп: хуже скотины; а с твоей стороны, Вронель, тоже было не очень умно не поставить меня в известность.
– Я готов поручиться, – сказал Шомакер, – что господин нотариус обладает утонченным умом. Поэты – хитрые лисы, которые держат нос по ветру. Некто Гроциус, философ, был дипломатическим посланником – некто Данте, поэт, был государственным деятелем – Вольтер же был и философом, и поэтом, а в своей деятельности тоже объединил то и другое.
Вульт засмеялся – но не над словами учителя, а над добросердечным Вальтом, который мягко прибавил:
– Я, может, почерпнул из книг больше жизненного опыта, чем вы, дорогая матушка, готовы поверить. – Но что нас ждет через два года, о всемогущий Боже! – Давайте сегодня хотя бы мысленно нарисуем себе это благословенное время, когда все здесь присутствующие заживут свободно и радостно; сам же я ни в чем не буду нуждаться и ничего для себя не буду желать, поскольку и без того стану чрезмерно счастливым, обосновавшись сразу на двух старинных священных высотах: на пасторской кафедре и на горе Муз.
– Ты тогда, – сказал Лукас, – наверняка будешь сочинять длинностишия целыми днями, потому что ты помешан на них не меньше, чем я, твой отец, – на юриспруденции.
– Но теперь я буду очень усердно, – сказал Вальт, – заниматься нотариальной практикой: тем более, что это и есть первая предписанная мне наследственная обязанность; зато об адвокатуре отныне можно не думать.
– Гляньте-ка! – крикнула его мать. – Он опять думает только о своих длинных стихотворных строчках; он недавно и соответствующую богохульную клятву принес – я, Вальт, этого не забыла!
– Так я ведь этого и хотел, разрази меня гром! – возопил Лукас (хотевший, чтобы ничто сейчас не мешало его чистой радости). – Неужели нужно из каждого слона делать муху, как поступаешь ты? – Он собирался сказать прямо противоположное. Но все-таки, как супруг, не удержался от обидного: «Молчи!» – Вероника тотчас подчинилась, решив про себя, что после еще возьмет свое.
Все расселись за праздничным столом, кто в чем был; Вальт – в своем длинном плаще с прилипшими к нему соломинками, поскольку хотел поберечь парадный сюртучок из китайки. У Гольдины вино радости было сильно разбавлено слезами, пролитыми в связи с предстоящей – уже на следующий день – разлукой. Нотариус же бесконечно восторгался восторженностью своего отца, который мало-помалу, немного переварив ее, пришел в более мягкое расположение духа и начал гоняться с транширным ножом и вилкой за жареной голубкой наследства, пока еще летающей в небе; Лукас даже впервые в жизни сказал сыну: «Ты мое счастье!» Эти слова Вульт еще услышал, сидя на дереве. Но когда его мать захотела прижать к своей теплой груди все подробности, которые Шомакер знал о беглом флейтисте, он поспешно слез с яблони, чтобы ничего не слышать: поскольку упреки казались ему более горькими, чем хвала – сладкой; и вообще он был уже достаточно осчастливлен встречей с повзрослевшим братом, чье простодушие и приверженность поэтическому искусству опутали Вульта столь крепкими любовными узами, что он охотно утопил бы ночь в вечернем багрянце: лишь бы поскорей увидеть новый день и обнять поэта.