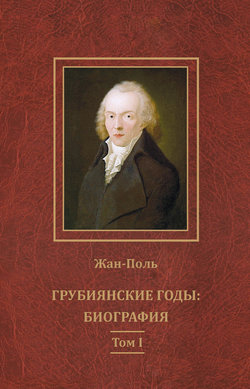Читать книгу Грубиянские годы: биография. Том I - Жан-Поль - Страница 8
Первая книжечка
№ 7. Фиалковый камень
Сельцо детства. – Великий человек
ОглавлениеВульт ван дер Харниш отправился из пригорода Хаслау в Эльтерляйн, когда половинка солнца еще сияла, свежо и горизонтально, над росистым луговым миром. Солнце как раз перешло из знака Близнецов в знак Рака; Вульт находил в этом сходство со своей ситуацией и думал, что из четырех близнецов он тот, кто пылает жарче всех прочих, и как второй Рак – тоже. В самом деле, еще в горняцком городке Эльтерляйн у горы Аннаберг началась его тоска по одноименному родному селу, и тоска эта усиливалась с каждой пройденной улицей; ведь даже человек с таким, как у нас, именем – насколько же сильнее одноименное место! – согревает нам сердце. На оживленной Хаслауской улице – напоминавшей удлиненный рынок – Вульт достал свою флейту и навстречу, как и вослед всем путникам стал кидать флейтовые мелодии, кусочки концертов; правда, он часто прерывался на хороших колоратурах или плохих диссонансах и искал носовой платок либо спокойно оглядывался по сторонам. Ландшафт то бодро поднимался на горку и потом спускался с нее, то растекался широким и ровным растительным морем, где хлебные нивы и межи изображали волны, а группы деревьев – корабли. Справа, на востоке, словно высокий окутанный туманом берег, тянулась далекая горная гряда Пестица, слева, на западе, мир мало-помалу стекал вниз, как бы следуя за вечерним красным заревом.
Поскольку Вульт хотел добраться до места лишь ближе к ночи, он очень часто останавливался. Его песочными часами в тот июльский день были скошенные луга, то бишь Линнеевы цветочные часы, но выполненные из одних только трав: стоящая трава указывала на 4 часа утра; лежащая – на время от 5 до 7; собранная граблями в кучки размером с муравейник – на 10 утра; холмы из сена – на 3 часа пополудни; горы, опять же из сена, – на вечер. Но он в тот день впервые видел на таком циферблате рабочую идиллию: потому что прежде долгие пешие прогулки делали его пресытившиеся глаза слепыми.
Именно когда холм на этих песочных часах достиг наибольшей высоты: тогда-то и потянулись, словно вечерние тени, вишневые и яблоневые деревья – чаще стали попадаться круглые зеленые плоды – в одной долине уже бежал темной линией ручеек, который скачет и через Эльтерляйн, – перед Вультом зеленела на пригорке, позлащенном вечерним солнцем, круглая разреженная рощица елок, из которых когда-то делали доски для его колыбели, а из рощицы, сверху, уже открывался, как он знал, вид на село.
Вульт углубился в рощу и в ее текучее солнечное золото, которое для него было чем-то вроде детской Авроры. Теперь ударил хорошо знакомый ему маленький деревенский колокол, и звук этого часа так глубоко проник в ткань времени и в его душу, что ему показалось, будто он опять мальчик и сейчас конец рабочего дня; и еще прекраснее звенели коровьи бубенчики, будто сзывая сельчан на праздник роз.
Отдельные красно-белые домики уже раз или два качнулись впереди, меж освещенных солнцем древесных стволов. И наконец Вульт увидел издали, у подножия холма, родной Эльтерляйн: – прямо перед ним оказались колокола белой, крытой шифером башни, и похожее на флаг майское дерево, и высокий замок на округлой земляной насыпи, поросшей деревьями, – ниже неогороженное село пересекали почтовые улицы и ручей, по обеим сторонам ручья стояли по-отдельности дома, каждый с собственным почетным караулом из фруктовых деревьев, – вокруг сельца раскинулся потешный военный лагерь из похожих на палатки стогов, окруженных повозками и людьми, а еще дальше приятно обжигали глаза насыщенно-желтые поля рапса, выращиваемого ради пчел и масла.
Спускаясь с этого пограничного холма обетованной земли детства, Вульт услышал, как на лугу, за кустами, знакомый голос произнес: «Люди, люди, не надо так туго спутывать ноги коровам; не говорил ли я вам об этом уже тысячу раз? – Малыш, передай своим домашним: судья, мол, распорядился, чтобы завтра двое непременно вышли работать на монастырский луг». То был отец Вульта: человек с матовыми глазами, тщедушный, бледнолицый (теплый сенокосный день только посеял в борозды его лица еще одну горсть белых цветовых зерен), который тут же и вышел из-за кустов на дорогу, со сверкнувшей косой на плече. Вульт шагнул в сторону, чтобы остаться незамеченным, и пропустил отца вперед. Потом атаковал его со спины созданными с помощью флейты звучащими парадизами, а именно – поскольку он знал, как любит отец хоралы, – этими самыми хоралами.
Лукас шагал с ленцой, чтобы подольше слышать доносящуюся сзади музыку, – и весь мир был прекрасен. Загорелые крестьянские девушки, черноглазые и белозубые, подносили к бровям серпы, чтобы, несмотря на слепящее солнце, разглядеть проходящего мимо флейтиста-студента, – пастушки, с их бродячими колокольцами, попадались по обеим сторонам дороги – Лукас высморкался, растроганный хоралом, и только строго взглянул на пасущуюся туго стреноженную лошадь – из труб замка, пасторского и отцовского домов поднимались в безветренную прохладную синеву позлащенные столбики дыма…
Так Вульт спустился в уже осененный тенями Эльтерляйн, где когда-то начиналась эта шутовская, закамуфлированная, сновидческая игра, известная всем под названием «жизнь»: этот долгий сон; и где он, укладываясь в постель вместе с этим сном, еще не скрючивался всем телом, поскольку сам в то время был всего лишь мальчишкой-недомерком.
В селе всё прежнее так и оставалось прежним. Большой родительский дом стоял по ту сторону ручья, не изменившийся; белая, выложенная кровельным шифером надпись на фронтоне обозначала год постройки: 1784. Вульт прислонился к гладкому стволу майского дерева и заиграл на флейте, вплетая ее звуки в молитвенный гул: «Тот, кто готов, чтоб Бог решал…» Отец очень медленно – оправдываясь перед собой тем, что нужно, мол, смотреть по сторонам и под ноги, – перешел по мосткам через ручей, вошел в дом и повесил косу на деревянный колышек под лестницей. Мать, еще вполне крепкая, вышла на крыльцо в мужской куртке-безрукавке и, не слыша флейту, вытряхнула из миски ободранные с салата плохие листья; оба, как это принято в деревенских семьях, не перекинулись ни единым словом.
Вульт отправился в ближайший трактир. От хозяина он узнал, что пфальцграф Кнолль с Харнишем-младшим сейчас осматривают поля, поскольку посвящение в нотариусы должно состояться лишь вечером. «Превосходно, – подумал Вульт, – к тому времени совсем стемнеет, и я, встав у окна комнаты с хлебной печью, смогу заглянуть внутрь и всё увидеть». Старый Лукас, уже теперь напудренный и в дамастовом цветастом жилете, показался на крыльце и, засучив рукава, принялся точить нож, необходимый для приготовления праздничного ужина в честь важного гостя, который посвятит его сына в нотариусы.
– Само по себе это не спасет парнишку от нужды, – прибавил трактирщик, который был левым. – Старик продал мне свое право производить брантвейн, и сын учился на деньги от перегонного куба. Но лучше бы шультгейс уступил весь дом, и именно разумному шинкарю; черт возьми! туда бы стали стекаться любители пивка, пивной кран процветал бы, как петух в курятнике, и всё происходило бы совершенно естественно. Потому что через большую горницу дома пролегает граница, и там можно было бы устраивать потасовки или заниматься контрабандой, имея при этом крышу над головой.
Вульт не слушал хозяина с тем участливым удовольствием, какое обычно испытывал, внимая подобным рассказам; он сам удивлялся, что столь сильно соскучился по родителям и брату, но особенно по матери: «Такого, – подумал он, – я не замечал за собой на всем протяжении путешествия». Он обрадовался, когда трактирщик схватил его за рукав, чтобы указать на пфальцграфа, который в этот момент как раз входил в дом шультгейса, но – без Готвальта; Вульт поспешил покинуть дом, где находился сам, желая увидеть всё, что будет происходить в доме напротив.
Выйдя, он обнаружил село настолько наполненным сумерками, что ему показалось, будто он сам перенесся в светло-сумеречную пору детства, – и его ощущения, относящиеся к тому времени, запорхали среди ночных мотыльков. Старый любимый ручей Вульт перешел не по мосткам, а вброд, вспомнив, что когда-то собственноручно натаскал туда широкие камни, чтобы ловить с них бычков. Он сделал крюк через другие крестьянские дворы, чтобы приблизиться к родительскому дому сзади, со стороны сада. Очутившись наконец возле окна с вытяжкой от печи, он заглянул в просторную, подвластную сразу двум господам пограничную горницу – там не было ни души, если не считать исходящего криком сверчка; двери и окна стояли распахнутые; но всё казалось вытесанным из камня вечности: красный стол, красные скамьи; выпуклые ложки на специально прибитой к стене деревянной планочке; вокруг печи – каркасы для сушки одежды; низкие потолочные балки, с которых свисают календари и селедочные головы; всё, хорошо упакованное, в целости и сохранности выдержало переправу через Море Долгого Времени и выглядело теперь как новенькое – даже старая бедность.
Он хотел было подольше побыть возле этого окна, но вдруг услышал над собой человеческие голоса и увидел на яблоне отблеск света из верхней комнаты. Он залез на дерево, к которому отец еще много лет назад пристроил лестницу и балкончик, – и теперь мог заглянуть в комнату как бы из собственного гнезда.
Внутри Вульт увидел: свою мать Веронику, в белом кухонном фартуке, – крепкую, несколько располневшую, но здоровую и еще цветущую женщину, которая стояла, устремив безмятежный, проницательно-вежливый женский взгляд на придворного фискала – этот спокойно сидел, с будто прилипшим к круглой голове длинным черенком трубки, – и отца, напудренного и в праздничном сюртуке; отец беспокойно расхаживал по комнате: отчасти из-за почтительного страха перед гостем, этим внушительным corpus juris во плоти, сидящим сейчас в его комнате и в такой же мере надменным по отношению к князьям и вообще всему миру, в какой сам шультгейс всегда отличался робостью; отчасти же – потому что тревожился, как бы упомянутый corpus не счел за обиду, что Вальт все еще отсутствует. У того окна, что было ближе всего к яблоне и к Вульту, сидела Гольдина: красивая, как картинка, но горбатая еврейка, опустившая глаза на красный клубок, из которого в данный момент вязала красный же, овечьей шерсти, чулок; Вероника приютила у себя совершенно нищую, но умелую и работящую сироту, потому что Готвальт необычайно любил и хвалил эту девушку, даже называл ее «маленьким драгоценным камнем, нуждающимся в оправе, чтобы не потеряться».
– Я уже послал батрака за своим шалопаем, – поспешно пробормотал Лукас, когда фискал заметил с неудовольствием, что Вальт даже не показал ему отцовские поля, не говоря о полях покойного ван дер Кабеля, а просто поручил это дело одному из Кабелевых барщинных крестьян, сам же с ними не пошел.
Вульт понял, что о таком радостном событии, как завещание, фискал пока не проронил ни слова.
Неожиданно в комнату вошел Готвальт, в плаще-рокероле; он угловато и поспешно поклонился фискалу, после чего застыл посреди комнаты, словно онемев, и только светлые слезы радости катились из его голубых глаз по пылающему лицу.
– Что с тобой? – спросила мать.
– Ах, дорогая мама, – ответил он мягко, – это ничего. Я готов прямо сейчас сдать экзамен.
– И поэтому ты ревешь? – спросил Лукас.
Теперь Вальт поднял глаза и заговорил громче.
– Отец, – сказал он, – сегодня я видел великого человека.
– Да? – холодно полюбопытствовал Лукас. – И что же, этот великан поколотил тебя, одержал над тобой верх? Поделом!
– Ах, Господи! – воскликнул Вальт; и повернулся к внимательной Гольдине, чтобы поведать свою историю не только ей, но заодно и экзаменатору. Он, мол, обнаружил на холме, в еловой рощице, остановившийся экипаж; и недалеко от него, на том же поросшем лесом холме, – пожилого человека с больными глазами, который рассматривал красивую местность в лучах заходящего солнца. Готвальт без труда установил сходство этого человека с известной ему гравюрой на меди, изображающей великого немецкого писателя – чье немецкое имя он здесь переведет на греческий, то бишь заменит на имя Платон.
– Я, – пламенно продолжал Вальт, – снял шляпу и, всё еще молча, смотрел на него, пока от восторга и любви на глаза мне не навернулись слезы. Если бы он предложил меня подвезти, я бы мог много говорить о нем с его слугами и задавать вопросы. Но он проявил еще большую любезность и приятнейшим голосом обратился ко мне, стал расспрашивать обо мне и моей жизни, о вас, родители; я бы хотел, чтобы моя жизнь была более долгой, и тогда всю ее открыл бы ему. Но я говорил очень коротко: хотелось слушать, что говорит он. Слова, словно медоточивые пчелы, слетали с его цветочных губ; они ранили мое сердце стрелами Амура, но тут же заживляли эти раны медом. Какой чудесный человек! Я чувствовал, как он любит Бога и каждое дитя. Ах, я хотел бы, спрятавшись, смотреть на него, когда он молится; и еще – когда он сам готов заплакать от какого-то большого счастья. – Я сейчас продолжу, – перебил себя Вальт, который так сильно растрогался, что не мог продолжать; однако он все-таки принудил себя говорить – с тем большей легкостью, что, оглянувшись вокруг, никаких особых врагов не нашел.
– Он говорил, – вернулся Вальт к своему рассказу, – самые лучшие вещи. Бог, сказал он, дает через природу ответ, как оракул, – еще прежде, чем прозвучит вопрос; и еще, Гольдина: дескать, то, что нам представляется серным дождем наказания и ада, в конце концов оказывается просто желтой пыльцой, предвестницей будущего цветения. А еще одно очень хорошее высказывание я совершенно забыл, потому что слишком пристально смотрел в его глаза. Да, ведь вокруг нас мир полнился волшебными зеркалами, и повсюду в небе стояло одно и то же солнце, и на Земле для меня не существовало никакой боли – кроме боли его глаз, столь дорогих для меня. Милая Гольдина, я в тот момент, прямо там же – так я был воодушевлен, – сочинил полиметр: «Двойные звезды являются на небе, как одна звезда; но ты, единственный, расточая себя, превращаешься в целое небо, полное звезд». Тогда он взял мою руку своей очень мягкой, нежной рукой и попросил показать ему наше село; я же набрался дерзости и произнес еще один полиметр: «Смотрите, как красиво всё связано одно с другим: солнце следует за цветком подсолнечника». Тогда он сказал: мол, так же поступает и Бог по отношению к людям, обращаясь к ним чаще, чем они к Нему». Потом он поощрил мое желание заниматься поэзией, но изысканно пошутил по поводу излишней пылкости, от которой, по его словам, я уже завтра отвыкну: чувства, сказал он, это звезды, по которым можно ориентироваться, когда небо безоблачное; разум же – это стрелка магнитного компаса, способного повести корабль еще дальше, даже если звезды скрылись и больше не светят. Так, наверное, звучала последняя часть фразы; но я услышал лишь первую часть, поскольку испугался, что он сейчас сядет в экипаж и мы расстанемся. Тут он дружески посмотрел на меня, как бы в утешение, – и мне показалось, будто откуда-то из вечернего багряного зарева полились звуки флейты.
– Это я вдувал их внутрь зарева, – сказал себе Вульт, но слова брата его растрогали.
– Под конец – верьте мне, родители, – он прижал меня к груди и к своим милым устам, а потом коляска покатила прочь, вместе с этим небожителем. —
– И что? – спросил старый Лукас, который до сих пор, учитывая высокий должностной статус Платона, каждую минуту ждал, когда же сын покажет ему туго набитый кошелек, вложенный в его руку великим человеком. – Он так и уехал, не подарив тебе ни пфеннига?
– Ах, как вы можете, отец? – воскликнул Вальт.
– Вы ведь знаете его деликатный нрав… – вмешалась мать.
– Я такого писаку не знаю, – сказал пфальцграф. – Но думаю, что вместо бессмысленных историй, ни к чему хорошему не приводящих, нам следовало бы, наконец, заняться экзаменом, который я просто обязан провести, прежде чем производить кого-то в нотариусы.
– Я готов, – откликнулся Вальт, в своем плаще-рокероле делая шаг вперед-и-прочь от Гольдины, чью руку он прежде взял, на глазах у всех, чтобы девушка тоже причастилась к недавно испытанному им блаженству.