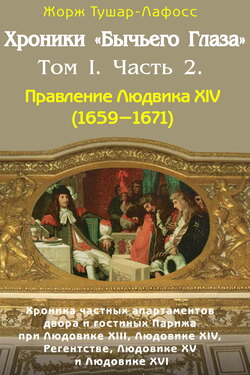Читать книгу Хроники «Бычьего глаза» Том I. Часть 2 - Жорж Тушар-Лафосс - Страница 2
Глава I. 1659–1660
ОглавлениеДвор без хлеба. – Статс-дамы, спящие на соломе. – Бархатные шапочки и кардинальская шапка. – Епископ-полковник. – Графини генерал-майоры. – Людовик XIV присутствует при царствовании Мазарини. – Кардинальские мушкетеры. – Великий Конде на коленях. – Вольная мысль госпожи Шеврез. – Пышность Мазарини и простота двора. – Неловкость этикета перед пиренейскими конференциями. – Итальянское шутовство кардинала. – Пышное шествие уполномоченных. – Позолоченное рагу. – Инфанта умирает со скуки. – Костюмы придворных в Сен-Жан-Люз. – Мария-Терезия: ее глаза, талия, корсет. – Церемония вступления молодой королевы в Париж. – Парламент верхом. – Описание тогдашней иллюминации. – Черная дама: кто была она.
Пиринейский трактат возвратил нам мир и принца[1]; Конде, пожал руку Тюренну, своему победителю при Дюнах, и примирение этих двух великих людей освобождало нас от страха за междоусобную войну[2], которую могло возжечь только их разъединение. Значит не будет более ни баррикад, ни фрондеров, ни мазариниевской партии. Вдовствующая королева со своим двором не будет блуждать вне столицы без денег, без белья, без хлеба. Статс-дамы не будут более спать на соломе в окрестностях Парижа; придворные ее величества не станут рубить дрова своими шпагами, чтобы не дать замерзнуть Анне Австрийской и ее дамам.
Кардинал вступил в Париж более могущественным, чем когда бы то ни было. Парламент принял его отлично: большие парики этого учреждения склонились перед ним. Вот и бархатные шапочки наших президентов покорились кардинальской шапке его эминенции. Стоило делать столько шума с 1648 по 1653 г., убивать столько честных людей, очернить столько репутаций для того, чтобы выказать кардиналу больше покорности, чем он требовал, прежде того, как парламент выслал против него подворотную кавалерию[3] и Коринфский полк[4], командиром которого был коадъютор Риза, несмотря на свою митру, посох и фиолетовые перчатки. Что касается меня, я проводила целые часы в моленной, прося Бога избавить от Фронды; я никогда не желала быть в числе графинь-генералов находившихся под командой герцогини Лонгвилль.
После всех этих передряг Мазарини сделался опять как бы королем; Людовик XIV только присутствует при царствовании своего первого министра. По улицам то и дело, что сталкиваешься с мушкетерами его эминенции: это все красивые молодые люди, платье которых вышито золотом; между тем, как у королевских гвардейцев часто бывают разорваны штаны так, что опускает глаза иная фрейлина королевы – а эти фрейлины, как известно, не робкого десятка.
Великий Конде не может утешиться, что согнул колено перед кардиналом, когда его светлость являлся ко двору в Амьене. Действительно было жестоко выказать подобное уважение тому, кого принц третировал прежде так бесцеремонно и называл il signor faquino даже в письмах. Но победитель при Рокруа, Фрибурге, Ленце, Нордлингене воевал с Францией во главе испанской армии; кардинал, положим, и бездельник, – не может ни в чем упрекнуть себя. Необходимо было смирить перед ним гордую отвагу, привыкшую все покорять, и которая до тех пор еще никому не покорялась. Первый министр повел принца к вдовствующей королеве, где находился король, перед которым великий Конде стал на колени и просил прощения. Когда знаменитейший из наших генералов склонил увенчанное чело к ногам короля, Людовик XIV мало помнил о том, что его родственник прежде сделал для славы; но воин отомстит ему: он снова разобьет его неприятелей.
В ожидании, Конде является в Лувр с нахмуренным челом, и никто не старается утешить его, потому, что он в немилости. Впрочем, госпожа Шеврез утверждает, что одной только госпоже Лонгвиль удается развеселить брата… Она прибавляет при этом странные вещи, но герцогиня видит везде и во всем одни любовные стремления: в ее глазах любовь – всеобщий двигатель, и я не удивляюсь, если в этом главную ноль играет ее воображение.
Наконец у нас есть молодая королева; два месяца как совершился брак Людовика XIV с инфантой Марией Терезией Австрийской, единственной дочерью Филиппа IV; но двор прибудет в Париж только завтра.
Мазарини выехал из Фонтэнебло в июле 1669 г.; его сопровождали шестьдесят знатных особ: в том числе архиепископы Лионский и Тулузский, маршалы Граммон, Клерамбо и Виллеруа. Конвой его эминенции состоял из ста мушкетеров и двухсот пехотинцев, а свита из шестнадцати пажей, тридцати оруженосцев, полутораста ливрейных слуг и восьми фургонов, запряженных шестерками. Семь карет предоставлялось для особы первого министра; кроме того вели сорок лошадей без особого назначения.
В то время, когда этот поезд шумно направлялся в Сен-Жан-Люз, принимая на пути всевозможные почести, двор, настолько, же скромный, насколько была пышна кардинальская обстановка, следовал в Бордо малыми переходами. Прибыв в этот город, двор остановился в древнем замке Тромпетт, где дул повсюду сквозной ветер и обои висели в лохмотьях.
Когда Мазарини прибыл в Сен-Жан-Люз, дон Люис Гаро остановился в Фонтараби. Оба эти уполномоченные были горды и ревностны к достоинствам своих дворов. Дело шло о первом визите; целый месяц прошел в обмене нот, в спорах о разрешении важного вопроса о первенстве. Мазарини пытался выйти из щекотливого положения посредством итальянской хитрости: он слег в постель в надежде, что по случаю его нездоровья, дон Люис примет на себя инициативу дипломатической вежливости, приедет к нему, а его эминенция, приняв испанца в постель, избавится от необходимости, провожать его. Действительно это была бы большая победа над церемониалом. Но кастильская гордость не пошла на эту приманку, и публичные переговоры начались на острове Фазанов[5], не быв предшествуемы никакими частными посещениями.
Кардинал хотел по крайней мере отличиться преимуществом пышности, в которой не мог сравниться с ним соперник: на свидание он поехал в карете, сопровождаемый тремя французскими маршалами, генерал-фельдцейхмейстером, двумя архиепископами и двадцатью другими прелатами. Ему предшествовали четыреста гвардейцев с офицерами. За рядом двенадцати карет следовало двадцать великолепных верховых лошадей, покрытых попонами, на которых были вышиты гербы его эминенции, и ведомых конюхами в пышной одежде. Потом ехали кардинальские пажи и слуги в богатейших ливреях.
Люис Гаро со своей стороны приближался с двумястами пятьюдесятью конных телохранителей в шлемах, обнаженными мечами и что всего удивительнее – в ливрее испанского первого министра. Офицеры, которых его превосходительству хотелось выделить из ряда слуг, были одеты в зеленые бархатные кафтаны с золотыми галунами, на которых резко отделялись красные шарфы. За ними следовал – Люис в носилках, предшествуемый восемью трубачами в зеленом же бархате, в руках у которых были блестящие, серебряные трубы. Шествие замыкалось пятнадцатью каретами с дворянами и прелатами.
Когда оба министра вступили на остров, строжайший этикет рассчитал число вельмож, пажей, конюших и телохранителей, их сопровождавших. Зала для конференции была устроена наполовину из ковров испанского первого министра, наполовину из кардинальских; для каждого из них поставили по креслу и маленькому столику; двери обе их галерей, по которым они вошли, вверены были охране капитанов французскому и испанскому. Только два государственных секретаря присутствовали при уполномоченных для написания статей: при Мазарини находился Лионн, при дон Люисе Колома.
Таковы были предварительные распоряжения, длившиеся четыре месяца; все хитрости, все тонкости извилистой политики обоих дворов были исчерпаны при этих продолжительных свиданиях. Мазарини употреблял тысячу и одну уловку своей итальянской хитрости, чтобы ловчее обмануть; дон Люис настойчиво держался своей осторожности, характеризующей его нацию, чтобы не поддаться обману. Наконец мир был подписан и брак условлен, но торжество отложено до 7 июля.
По закрытии конференции герцог Граммон отправился в Мадрид просить руки инфанты; эскуриальский двор принял этого посланника с особенной пышностью, ибо на пире, данном ему кастильским адмиралтейством, подали семьсот золоченых блюд, к которым никто не мог прикоснуться, так как французский посланник должен был ужинать у себя.
Испанский король немедленно отправился с дочерью в Сен-Себастиан, куда и прибыл 27 мая 1660 г. на праздник Тела Господня. Когда по окончании вечера дворянин, вручивший письмо Людовика XIV Марии-Терезии, спросил у этой принцессы, которая велела передать много любезностей вдовствующей королеве, – не имеет ли она чего сказать королю, инфанта отвечала: – Боже мой, разве же я не просила вас три раза передать королеве моей тетушке, что я умираю от нетерпения ее видеть. Скажите только это. – Трудно более тонким образом скрыть нетерпение выйти замуж; но вероятно то, что посланник, отдавая отчет о нетерпении, от которого умирала испанка, не адресовался к тетке.
На другой день оба двора съехались в Сен-Жан-Люз; они соперничали в роскоши и великолепии. Испанцы выказывали больше драгоценных камней, но французы превосходили их в щегольстве и изяществе костюма. Плащи и кафтаны придворных испанского короля отличались массивным тяжелым шитьем, а шляпы кастильских вельмож были плоские, перья жидкие. Одним словом все в костюмах этого двора обличало отсутствие грации и вкуса. Наши же дворяне, напротив, соединяли с блеском и богатством щегольство и изящество. У молодых людей из свиты короля, как Сен Тьерри, Бриен, Кавоа, Вард, Гишь, Пегиллен серые моаровые плащи обшиты были золотыми кружевами или из черной венецианской материи с серебряными кружевами в шесть рядов и подбиты золотой или серебряной тканью, смотря по наружному украшению. Под этими плащами виднелись кафтаны из серебряной или золотой парчи с черными богатейшими кружевами. Шляпы их украшались белыми перьями, схваченными алмазной петлицей.
Молодая королева, как сказывал мне Сувре, была прекрасна, но немного бледна; в больших ее глазах много выражения; как бы там ни говорили, но они совсем не лишены того испанского красноречия, которое обещает много, а обыкновенно дает больше. Талия Марии-Терезии стройна, но теряет от дурно сшитого платья и излишества украшений, которые государыня отбросит, когда ее туалетом займется французская гофмейстерина. Все наши молодые люди кричат против корсета королевы, который безобразит грудь ее. Вероятно мадридские модистки весьма неопытны, чтобы портить подобным образом то, что хорошо, между тем, как парижские так искусны, что умеют и нехорошее выказать в привлекательном свете.
Здесь оканчивается рассказ барона Сувре и я продолжаю передавать свои наблюдения.
Я возвратилась домой усталая, ослепленная, измученная. Король и королева въехали сегодня в Сент-Антуанские ворота, еще недоконченные. Шествие продолжалось двенадцать часов среди ликующего народа. Все парижане с рассвета на ногах, чтобы любоваться один, два, три, даже десять раз великолепным зрелищем. Ни формы, ни цвета домов нельзя было узнать – так их украсили обыватели, каждый по своим средствам. Мостовая покрыта была розами, жасминами, гвоздиками, миртами и множеством других цветов; кареты катились без шума по этим мягким душистым коврам. Королева, блистая нарядом и красотой, проехала через весь Париж, сидя в богатейшей древней колеснице; воздух оглашался звуками музыки, помещавшейся на других, менее роскошных колесницах, среди восторженных кликов народа. Король верхом, следуя возле молодой супруги, казалось, разделял всеобщую радость; возбуждению которой много способствовала мужественная его красота и богатый костюм с драгоценными камнями миллионов на семь.
Но так как во всем в мире есть своя забавная сторона, то в сегодняшней церемонии утешили нас члены парламента. Да и кто не смеялся бы при виде президента, королевского прокурора, советников, секретарей, в своих беретах и судейских мантиях, развевавшихся по ветру, – верхами, со шпорами; привязанными к башмакам, которые ехали впереди двора, словно кавалерийский отряд. Испанская инфанта, которая без сомнения, никогда не видела конного парламента; закрыла рот платком… Я никогда не встречала, более комизма в серьезном.
В этот вечер все дома иллюминованы; везде на дверях отелей, в больших бронзовых канделябрах горят разрисованные и позолоченные восковые свечи. Буржуа привесили у окон разноцветные бумажные фонарики; некоторые вельможи подражали им, только велели нарисовать свои гербы на этих транспарантах.
Оканчивая это описание, я не могу умолчать о словах одной дамы в черном платье, которая стояла возле меня в улице Ферроньери, во время прохода шествия. Дама эта, будучи поражена красивой, благородной наружностью короля, более чем красотой королевы, красноречиво выхваляла блестящие качества этого государя. При взгляде на него, в ее глазах отражалась вся душа; грациозная грудь ее быстро приподнимала черную одежду. Не в состоянии удержаться от необходимости высказать свое удивление, она сказала довольно громко своей соседке: «О, королева должна быть довольна мужем, которого, выбрала»! Я просила знакомых узнать имя этой пламенной наблюдательницы, и мне назвали вдову поэта Скаррона.
1
Сокращенное название принца Конде.
2
Она окончилась в 1652 г., но Конде, будучи недоволен двором, оказавшим ему неблагодарность, присоединился к внешним врагам Франции.
3
Парламент выдал указ, вследствие которого каждые ворота должны были выставить вооруженного всадника; вот откуда название подворотной кавалерии. Кавалерия эта, состоя из лакеев, не отличалась подвигами.
4
Коадъютор был in partibus епископ Коринфский, когда стал за парламент, что и дало повод назвать Коринфским полком банду, которой он командовал. Полк этот был разбит в первой же стычке с королевскими войсками.
5
На реке Бидассоа, отделяющей Францию от Испании.