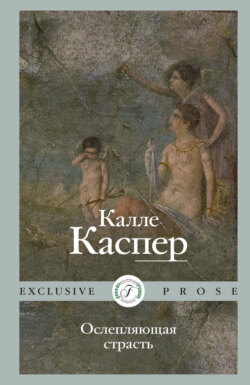Читать книгу Ослепляющая страсть - Калле Каспер - Страница 9
Философские новеллы
Тайна
ОглавлениеМоя мать умерла, когда мне было тридцать. Она долго болела, некоторое время лежала в больнице, а когда надежды угасли, мы привезли ее домой. Не думаю, чтобы я один отважился на такой шаг, но моя жена работала медсестрой и взяла на себя уход за ней: она знала, насколько я привязан к матери. Наш сын тогда еще был маленьким, и я боялся, что домашняя трагедия может плохо повлиять на его психику, но Ребекка успокоила меня, объяснив, что дети лишены эмпатии; она сказала, что скорее это принесет пользу, потому что из детей, выросших в стерильных условиях, нередко получаются монстры.
Недели через две после похорон я начал разбирать вещи в мамином комоде, чтобы определиться, что оставить на память, а что выкинуть; в квартире следовало сделать кое-какие перестановки. После матери осталось немало снимков: было время фотобума, и ей, как вообще всем женщинам, нравилось позировать перед объективом. Исключая детство – те фотографии сгорели во время войны вместе с домом ее родителей – перед моими глазами развернулась вся ее жизнь: окончание школы, первое место работы… Дойдя до свадебных фотографий, я почувствовал в сердце знакомую боль: мои родители быстро развелись, отец, человек с крутым характером, безосновательно ревновал мать и превратил ее существование в ад; она не выдержала, забрала меня и переехала к своей маме, где мы прожили много лет в крохотной комнатенке, без бытовых удобств и с противной соседкой, которая так и не смирилась с тем, что ей пришлось делить с кем-то квартиру, в буржуазное время принадлежавшую ей одной. Помню наше счастье, когда маме выделили новую квартиру на Мустамяэ, ту самую, куда я потом привел Ребекку и где сейчас сидел на краю кушетки и, растроганный, рассматривал мамины фотографии.
Под снимками я обнаружил две пачки писем: одну толстую, другую тонкую. Первую сразу узнал по почерку: это были мои послания матери, отправленные из самых разных мест, где я учился, работал или проводил отпуск: из Тарту, Ленинграда, Сааремаа, Сочи…
«Дорогая мама!» – начинались эти письма. «Дорогая Мина!» – прочел я на верхнем пожелтевшем листке в другой пачке, на листке, в левом верхнем углу которого было фото – парк Кадриорг, если еще помните такого рода писчую бумагу.
Я развернул пачку; возможно, мне не стоило этого делать, но – положа руку на сердце – кто бы поступил иначе?
Прочитав первое письмо, я почувствовал, что невольно краснею. Да, это было самое что ни на есть любовное письмо, и отправил его маме отнюдь не мой отец. Думаете, что тут такого, мама рано развелась, естественно, у нее могли случаться романы, она ведь женщина; но даты указывали на более ранний срок.
Неужели отец был прав?
Мое удивление возросло, когда я прибавил к датам – письма были написаны в течение краткого промежутка, за одно лето – девять месяцев и получил время своего рождения.
Может, мне следовало хоть сейчас остановиться, выкинуть письма в мусорную корзину и все забыть, но опять-таки – кто на моем месте смог бы это сделать?
История скрывает множество тайн, мы никогда не узнаем, на самом ли деле Лукреция Борджиа отравляла своих врагов, или это всего лишь сплетни, так же, как не узнаем, умер ли Ленин своей смертью, или Сталин этому поспособствовал…
Передо мной стояла, вернее, лежала на моих коленях такая же тайна, и я решил, что попытаюсь ее раскрыть.
Стиль посланий обнаруживал образованного человека с поэтическим складом характера и изящным слогом, и, после того как я прочел на единственном сохранившемся конверте имя и фамилию отправителя, я понял, что не ошибся – это был один из известнейших наших писателей; конечно, когда мама с ним познакомилась, он делал в литературе первые шаги.
На следующий день я позвонил ему, представился и сказал, что хотел бы встретиться.
– По какому делу, можно спросить? – поинтересовался он вежливо.
– По личному.
Поскольку фамилия моя – одна из самых распространенных в Эстонии, я был почти уверен, что он не сможет так вот сразу понять причину моего звонка; он все же заколебался, наверное, размышлял, чего я хочу: денег в долг или поговорить о неудавшейся жизни; однако наши писатели, кажется, страдают от нехватки внимания, так что он быстро согласился и позвал меня на следующий день в гости.
Перед тем как отправиться к писателю, я зашел к отцу, которого видел довольно редко: я сам и вовсе не общался бы с ним, но мать настаивала, чтобы я иногда ходил к нему, наверное, считала, что сыну нужен отец, каким бы он ни был. Никакой радости эти встречи мне не доставляли: отец не скрывал своей враждебности по отношению к матери, и мне стоило немалого труда, чтобы не накричать на него и уйти, не хлопнув дверью. После смерти мамы я даже подумал, что прекращу эти бессмысленные визиты, от которых одни огорчения – отец не соизволил даже явиться на похороны. Но теперь, в новых обстоятельствах, мне казалось, что надо бы поделиться с ним открытием. Чувствовал ли я вину за то, что считал его порывы ревности безосновательными? Возможно, однако отец быстро затоптал ростки моего раскаяния, кинув презрительную реплику:
– Да я всегда знал, что твоя мать – шлюха.
Почувствовав себя оскорбленным – кому хочется быть сыном шлюхи? – я поспешно ушел; в этот момент я вполне понимал мать: само собой, живя вместе с таким отвратительным типом, хочешь хоть на короткий срок сблизиться с другим – чутким человеком.
Писатель провел меня в гостиную, налил мне, невзирая на дневное время, рюмку коньяку и сказал:
– Рассказывайте, что у вас на душе.
Мне показалось, что в течение этого времени он успел поразмыслить над моим звонком и, хотя бы в качестве версии, вспомнил о маме.
Я вынул из кармана пиджака пачку писем и молча протянул писателю.
Он развязал тесемку, быстро пробежал глазами по первому, второму, третьему посланию, бегло улыбнулся, словно вспомнив о чем-то приятном, и спросил:
– Что именно вас интересует?
Я стал рассказывать о болезни матери, о ее смерти, но он нетерпеливо прервал меня:
– Да, я в курсе, видел объявление в газете.
Это звучало почти как признание.
– Значит, это правда? – спросил я, показав на пачку.
– Естественно, правда, – пожал он плечами. – Ну да, это мои письма. Но в чем все-таки дело?
– Видите ли, – продолжил я, запинаясь (я был молод и не привык к такой откровенности), – я сопоставил даты написания писем и моего рождения…
Я говорил путанно, но он все понял.
– Вы хотите знать, не мой ли вы сын?
Я кивнул.
Он молчал какое-то время.
– Да, но если бы я мог это сказать…
Я возмутился, мне показалось, что он хочет отвертеться. Неужели он боится, что я буду предъявлять материальные претензии, добиваться, чтобы меня внесли в список наследников? Писатель жил небедно, мы сидели в его просторной квартире в центре города, обставленной по тем далеким советским временам весьма неплохо: румынская мебель, картины на стене, безделушки на полках и, конечно же, книги, огромное количество книг, что в моих глазах представляло наибольшее богатство, но все равно я пришел к нему не по меркантильным соображениям.
– Что-то вы все-таки должны знать, – сказал я, возможно, немного резко. – По письмам трудно понять, как далеко зашли ваши отношения с моей мамой, но для вас это ведь не секрет?
Он покачал головой:
– Вы не поняли меня. Почему вы считаете, что я обязан это помнить?
Я почувствовал, что меня охватывает ярость: вот это действительно было оскорбительно.
– Не знаю, сколько у вас в молодости было любовных историй, – сказал я, с трудом подавляя гнев, – у меня немало, больше двадцати, но, несмотря на это, я помню совершенно четко, с кем добрался до постели, а с кем нет.
– Вы все еще не понимаете меня, – сказал он мягко. – Вы рассуждаете согласно логике обычного человека, но я не обычный человек, я писатель. Я творю новый мир, и я не могу сотворить его из пустоты, мне нужны для этого и воспоминания, и воображение. Повторяю: воспоминания и воображение. Это две совершенно разные вещи, но чтобы родилось произведение, они должны смешаться.
Он посмотрел на меня с благосклонным вниманием, словно в первый раз отыскивая на моем лице знакомые черты.
– Видите ли, беда в том, – продолжил он, – что, после того как они смешались, очень трудно их снова разделить. Вот я и не знаю про многое в своей жизни, случилось ли оно на самом деле, или это всего лишь плод моей фантазии. Эпизод с вашей матерью не исключение. Да, я помню, что мы одновременно отдыхали в Вызу, катались на велосипеде в Кясму и обратно, танцевали в Доме культуры. Впоследствии я дважды использовал этот эпизод в своем творчестве; в одном варианте все закончилось победой, если вы понимаете, что я имею в виду, а в другом, наоборот, я остался с носом. И даю вам слово чести, что не могу сказать, какой из двух соответствует действительности.
Слово «эпизод» вновь задело меня, но в целом мой гнев успел развеяться; я не настолько глуп, как может показаться, и был способен поставить себя на его место.
– Теперь я все понял, – сказал я спокойно. – В таком случае у меня к вам вот какое предложение.
Ребекка говорила мне, что отцовство определяют по группе крови; правда, она объяснила, что это годится только, так сказать, в отрицательном смысле, помогая определить тех, кто отцом быть никак не может; но и это лучше, чем ничего.
Довольно путанно я изложил свою идею и закончил так:
– Можно мне прийти к вам еще раз, уже вместе с супругой, чтобы она взяла у вас кровь на анализ?
– В этом нет необходимости, – сказал писатель.
Он порылся в ящиках письменного стола, потом встал, подошел к книжной полке, поискал там что-то, наконец, ударил себя ладонью по лбу и поспешно вышел из гостиной.
Пока он занимался поисками, я внимательно наблюдал за ним, пытаясь найти какие-то общие черты, однако безрезультатно: писатель широк в плечах, я худой, он сутулился, я держался прямо, цвет его глаз мне с такого расстояния и за очками рассмотреть не удалось, но его линия подбородка была заметно мужественнее, чем у меня; правда, пока это ни о чем не говорило, поскольку, по общему мнению, я пошел в маму.
Единственное, в чем мы с писателем действительно имели сходство, это нос: у нас обоих он был крупным.
Скоро он вернулся и протянул мне документ в красной корочке.
– Посмотрите сами, я попросил отметить в паспорте группу крови – на всякий случай, если что-нибудь произойдет.
«Трус, – подумал я про себя, – трясется за свою жизнь, но номер группы в записную книжку переписал».
– Большое спасибо, – сказал я, вставая, – я позвоню, когда что-нибудь выяснится.
– А я обещаю, что постараюсь вспомнить, что же тогда могло случиться, – ответил он дружелюбно, даже с некоторой нежностью; мой отец никогда в жизни со мной так не разговаривал.
Мне было неловко просить вернуть мне письма, но он сам решил эту проблему, безмолвно протянув мне всю пачку.
На следующее утро вместе с Ребеккой я пошел в поликлинику, где она взяла у меня кровь на анализ. Я уже несколько дней назад рассказал ей о своем открытии, просто был не в силах молчать.
– Надеюсь, что в больнице, где лежала мать, сохранились ее данные, – сказал я, когда Ребекка через некоторое время вернулась.
– Это не имеет значения, – сказала она. – Все и так ясно. У этого человека первая группа, а у тебя четвертая. Такое сочетание невозможно. Ты не его сын.
Я был разочарован, поскольку уже стал привыкать к мысли, что мой отец – известный писатель, и даже прочел вчера вечером один из его романов; теперь он сразу почему-то показался мне не таким интересным, как накануне.
– Ну, по крайней мере, тайна разгадана! – улыбнулся я храбро.
Из поликлиники я пошел прямо к отцу и рассказал ему, что произошло за эти дни.
– Прости, что позволил себе сомневаться в твоем отцовстве, – закончил я. – Но тебе, надеюсь, все это пошло на пользу, может, ты теперь изменишь свое отношение к маме?
Он посмотрел на меня и вдруг гомерически расхохотался. Открыв ящик письменного стола, он вытащил какую-то коробку, оттуда – паспорт, открыл его и сунул мне под нос.
– Теперь ты поверишь, что твоя мать – шлюха?
Я заглянул в паспорт: у моего отца оказалась та же группа крови, что и у писателя.
Ребекке о беседе с отцом я не сказал; снимки мамы выкидывать не стал, но с тех пор ни разу к ним не притронулся.