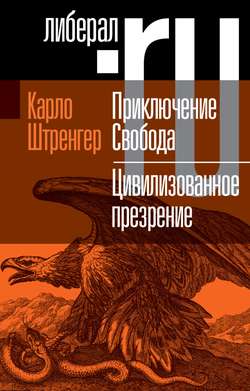Читать книгу Приключение. Свобода. Путеводитель по шатким временам. Цивилизованное презрение. Как нам защитить свою свободу. Руководство к действию - Карло Штренгер - Страница 5
ПРИКЛЮЧЕНИЕ СВОБОДА
Путеводитель по шатким временам
ЧАСТЬ I.
ИЛЛЮЗИЯ ПРАВА НА СЧАСТЬЕ
СВОБОДА КАК ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ТОВАР
ОглавлениеНе только писатели, как Уэльбек, но также социологи и философы выражают неудовлетворение состоянием западного общества. Так, американский политолог Бенджамин Барбер, убежденный защитник либеральных жизненных ценностей, остро критикует культуру капитализма в своей книге «Consumed!»12. По его мнению, она воспитывает инфантильных граждан: люди все чаще отдаются пассивному консюмеризму, делят свое время между шопингом, телевизором и компьютерными играми, и все это оказывает катастрофическое воздействие на демократию. В результате многие американцы игнорируют выборы, а те, кто голосует, в большинстве случаев не имеют никакого представления о политической повестке, демонстрируя свое поразительное невежество. В 2002 году 70% взрослых граждан США обнаружили незнание того, где находится Ирак, что не мешает им иметь собственное мнение о том, что происходит в этой стране. Ничем не лучше их знания об изменении климата, причинах финансовых кризисов, системе американского здравоохранения и т.п. Столь же мало они информированы о том, каковы программы кандидатов, между которыми они выбирают. Телевизионные передачи, призванные внести ясность в представления публики о взглядах того или иного политика, неотвратимо превращаются в развлекательные шоу. Не вдаваясь в содержательный анализ, люди судят о кандидатах по внешности: изберут того, кто напустит на себя больше важности и, используя агрессивную риторику, предложит простейшее решение для сложной проблемы. Политика становится все больше похожа на шоу-бизнес. Выбор президентом Дональда Трампа, воспринятый большинством политиков и комментаторов как катастрофа, лучше всего иллюстрирует эту тенденцию.
Барбер не единственный автор, кто выражает тревогу по поводу растущего самоустранения граждан западных стран от политического участия. Сам он считает, что апатия исходит из нижних слоев населения, другие исследователи возлагают вину на элиты. Так, американский историк и социальный критик Кристофер Лэш винит правящий класс страны в равнодушии к общественному благу13: люди богатые и причастные к власти, утверждает он, живут в своем собственном нарциссическом мире. Они наслаждаются благами, которые общество предоставило в их распоряжение: здравоохранением, образованием, налаженной юридической машиной и т.п. В отличие от европейской и американской буржуазии XVIII и XIX веков, которая деятельно участвовала в возведении общественных, культурных и научных институций, нынешние элиты безответственно уклоняются от социального и политического участия в жизни страны. Они пекутся лишь о собственных привилегиях. Эти взгляды разделяет колумнист «Нью-Йорк таймс» Дэвид Брукс14. Он считает, что мы живем в обществе, где большинство людей всерьез озабочены лишь самими собой. Человек Запада больше всего хочет быть богатым и известным. Внести свой вклад в развитие общества, послужить общественному идеалу – такие мысли посещают его все реже. Все эти наблюдения можно расценить как нытье интеллектуала-консерватора, однако, хотя бы на примере США, они надежно подтверждаются социологией, прежде всего в лице Роберта Патнэма. В ряде своих работ Патнэм показал, что за последние десять лет готовность к участию в жизни общества резко упала15. Если раньше в обычае у американцев было вступать в боулинг-клубы и политические ассоциации, то теперь они все чаще уходят в частную жизнь.
Думать, что в Европе ситуация принципиально иная, – значит спешить с выводами. Французский философ Ален Финкелькраут уже более тридцати лет критикует политическое общество своей страны: граждане не проявляют интереса к собственной культуре, не отдавая себе отчета, что именно этой культуре они обязаны порядком и высоким уровнем жизни, который они считают чем-то само собой разумеющимся16. Финкелькраут, сын польских евреев, переживших Освенцим и переехавших во Францию после Второй мировой войны, не раз писал о том, что испытывает глубокую благодарность к этой стране с ее культурой, образовательной системой и республиканскими идеалами. Лишь это и помогло ему, сыну иммигранта, стать полноценным членом общества. Это утверждение он подкрепляет ссылкой на мусульман, преимущественно молодых, которые оказались на обочине. Они сами, считает он, упорно отстранялись от французской культуры, теперь же ропщут на то, что им заказаны как социальная интеграция, так и экономическое преуспевание. Особую актуальность его рассуждения приобрели в 2005 году, когда в предместьях многих французских городов начались массовые беспорядки, учиненные в основном мусульманской молодежью, не сумевшей интегрироваться во французское общество. А после нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo, череды терактов 13 ноября 2015 года в Париже и кровавой трагедии 14 июля 2016 года в Ницце взрывная сила интеграционной проблематики снова резко повысилась. Надо сказать, однако, что неприятие высокой французской культуры свойственно отнюдь не только мусульманам, но и исламофобски настроенным французам: избиратели Национального фронта Марин Ле Пен меньше всего озабочены высокой французской культурой и традициями Просвещения. Их «аргументы» сводятся к провозглашению тезиса «Франция должна принадлежать французам», им и дела нет до республиканской концепции гражданских прав как не зависящих от этнического происхождения гражданина. Но задумываться о том, что составляет суть свободной культуры и на чем она основана, – это, по мнению Финкелькраута, давно перестало считаться гражданским долгом. Разумеется, аргументы Финкелькраута не всеми встречены с одобрением. Французские левые видят в нем правого ультраконсерватора, который играет на расистских и исламофобских настроениях. Финкелькраут, говорят они, заперся в академической башне из слоновой кости и не способен осознать истинные причины несостоявшейся интеграции многих мусульман. В действительности причина не в том, что мусульмане чураются французской культуры, а в том, что национальное большинство их не приемлет17. Общество должно бы оказывать поддержку своим наиболее слабым членам, которые без такой поддержки не смогут продуктивно включиться в общественную и хозяйственную жизнь страны. Растущее неравенство, а не недостаток знаний о западной культуре – вот что является, по их мнению, причиной социального неустройства и возбуждает гнев обделенных.
Эти подчас весьма жаркие дебаты содержательно определены конфликтом двух мировоззренческих и социально-политических платформ. Представители культурно-консервативного лагеря утверждают, что либеральный порядок западного общества может устойчиво развиваться лишь на почве общей культуры и всеми разделяемых традиций. Все учащающееся выпадение людей из данного контекста грозит этому порядку распадом. Левые, напротив, ссылаются на дефицит экономического участия. Я не ставлю своей целью разрешить спор между этими двумя позициями. Обе стороны выдвигают достаточно сильные аргументы в защиту своих представлений. Так, левые ссылаются на сравнительные исследования, которые показывают, что обездоленные слои населения сталкиваются с наибольшими проблемами при попытках найти свое место в обществе в тех случаях, когда минимальна социальная мобильность. Приверженцы культурного консерватизма возражают: такие иммигрантские группы, как евреи и восточные азиаты, сформировавшиеся в условиях культур, ориентированных на личный успех, смогли великолепно интегрироваться в Западной Европе и США в экономическом, культурном и политическом плане, несмотря на все стартовые трудности, тогда как иммигранты-мусульмане, равно как выходцы из Южной и Центральной Америки, реже достигают успеха. Их вывод таков: ключом к успешной интеграции является не что иное, как культура18.
Знаменательно, что помимо противоречий между левыми и консерваторами существует между ними и нечто общее: обе стороны отмечают возрастающую политическую пассивность гражданского населения Запада, превращение политики в шоу-бизнес и то обстоятельство, что уровень общественной дискуссии падает на фоне роста потребительских настроений. Все это, по их общему мнению, приводит к тому, что молодежь и взрослые люди озабочены лишь своим личным успехом и не хотят да и не могут включиться в общественную и культурную жизнь.
Один из самых интересных и вдумчивых политических философов современности британец Джон Грей предлагает в своих книгах другой подход. Его критика направлена не только на состояние политической системы, он берет в расчет ее экзистенциальное измерение. Человеческая свобода, по Грею, – всего лишь иллюзия. Наше убеждение, будто мы занимаем в природе особое место, – не более чем мечта. Его внутренняя эволюция, в результате которой он пришел к этому заключению, весьма поучительна. Грей рос в рабочей семье, тем не менее в 80-е годы поддерживал Маргарет Тэтчер с ее политикой либерализации и личной ответственности. Однако вскоре, разочарованный реальными результатами этой политики, он утратил иллюзии и отошел от тэтчеризма. В 90-е он сделался сторонником Тони Блэра и Билла Клинтона, стремившихся сплавить рыночную экономику с социал-демократией. Эта новая благая весть о так называемом третьем пути, «капитализме с социальным лицом», казалось, наилучшим образом сможет примирить два мира: богатство и производительность с одной стороны, общественную солидарность – с другой. Эти надежды не сбылись. Cool Britannia Тони Блэра обернулась кошмаром, где бедных пичкали ментальным и физическим джанк-фудом, а новый класс миллионеров утопал в такой необузданной роскоши, что даже нью-йоркские снобы бледнели от зависти. Увязать экономический рост с социальной справедливостью не удалось и Биллу Клинтону. В итоге его политический курс создал предпосылки для финансового кризиса 2007 года и последующей рецессии. С того времени неравенство возможностей и доходов граждан США неуклонно возрастает. Люди нижних слоев общества вынуждены работать на двух, а то и трех нищенски оплачиваемых работах, чтобы держаться на плаву, между тем как руководители банков, выживших за счет денег налогоплательщиков, наслаждаются миллионными бонусами.
В ряде своих книг Грей делает соответствующие выводы из этих социологических данных19. Рецепты спасения человечества от назревших проблем, выработанные в ХХ веке, все до одного оказались непригодными. Традицию Просвещения Грей тоже отметает. Если одно из величайших просвещенческих завоеваний – убежденность в том, что человек должен держать судьбу в своих руках, а не предавать себя с молитвой Божьей воле, – держалось дольше остальных, то все же, считает Грей, в наше время Просвещение сменилось-таки эсхатологической теорией спасения: мы исцелимся от всех своих забот посредством техники и науки. Но и эта мечта не исполнилась, поскольку решение одной проблемы порождает несколько новых: научный прогресс и порожденное им благосостояние ведет к увеличению потребности в энергии, возросшее потребление энергии – к климатической катастрофе, обозначающейся все более явно; внедрение машин освобождает от тяжелой физической нагрузки, и оно же лишает целый класс людей их доходов и отнимает у них человеческое достоинство; прогресс в медицине вызвал рост ожидаемой продолжительности жизни, что подрывает финансовую стабильность пенсионных фондов. Одним словом, наша изобретательность порождает непредсказуемые последствия, и мы не имеем ни малейшего представления, как запрудить этот поток.
Джон Грей погружается в антиутопический пессимизм, чем заставляет вспомнить Шопенгауэра. Вера в политические теории спасения, считает он, есть не что иное, как секулярные обломки религиозных мифов. Оптимистическое представление о человеке, которое культивировал еще Гуманизм, – наследие библейской концепции, согласно которой Бог сотворил человека по своему образу и подобию. В нашей безоглядной эксплуатации природы Грей видит осуществление стиха из Книги Бытия, где Бог наставляет Адама и Еву «обладать» землей. В действительности, продолжает Грей, мы являемся не более чем случайным продуктом эволюции и не можем претендовать на особый статус. Биологический вид человека постепенно превратился в паразита, вознамерившегося разрушить тело своего хозяина, Земли. Безрассудное разорение природы человеком вызывает у Грея глубокое отвращение. Едва ли не с облегчением он рассуждает о том, что Земля может в результате некоей иммунологической реакции вообще освободиться от человечества.
Необязательно разделять антиутопические настроения Грея и его отвращение к человечеству, однако его мысль о том, что просвещенческая вера в прогресс – не что иное, как пережиток мессианского учения о спасении, представляет для нас интерес. Слов нет, цивилизационное развитие, особенно в технологическом плане, было весьма впечатляющим. В ходе всего нескольких тысячелетий, по меркам биологической эволюции – взмах ресницы, человеческие сообщества сформировались в сложнейшие структуры. Но после Хиросимы и Нагасаки, если не раньше, вера в то, что это развитие имеет неограниченно позитивный характер, напрочь утратила убедительную силу20. В период после 1945 года человечество имело все возможности уничтожить себя и почти все формы органической жизни на земле буквально за несколько минут. И тем не менее мы, похоже, не можем так просто отрешиться от веры в свое исключительное положение в мире. Уже не одно десятилетие ученые предупреждают нас о возможных последствиях изменения климата, но мы по-прежнему настолько уверены, что имеем право создавать технические новшества, служащие для облегчения нашей жизни, что нам даже не приходит в голову от чего-то отказаться, чтобы сберечь планету. И хотя все без устали твердят о «надежности», все же в глубине души мы едва ли отдаем себе отчет в том, что с нами действительно может случиться что-то нехорошее, словно мы и впрямь возвышаемся над всей природой и рассчитываем на счастье, ничем не обремененную жизнь и свободу.
И вот именно здесь нам открывается то общее, что объединяет мысль всех упомянутых социальных критиков. У них вызывает осуждение то, что люди Запада рассматривают либеральный порядок как нечто такое, что нам должно устроить «общество». Если же что-то не функционирует или идет не так, как мы надеялись, значит, некто – родители, общество, «политика», государство – плохо выполняет свои обязанности, и потому извольте, так сказать, обеспечить компенсацию. Мысль о том, что мы сами и есть общество, что демократия – дело не только политиков, но и граждан, уходит на задний план21. Боюсь, Бенджамин Барбер прав, утверждая, что демократия находится в нешуточной опасности. Если в Белый дом попадают такие люди, как Дональд Трамп, который организовал свою предвыборную кампанию в духе реалити-шоу, который допускает свободную интерпретацию фактов, а на содержательную критику в свой адрес отвечает тем, что высмеивает своих оппонентов или пускается в жесткие нападки, значит, либеральный порядок действительно под угрозой.
В политической плоскости первопричина глубокого кризиса состоит в том, что значительная часть граждан втайне надеется: должен прийти некто, кто найдет решение всех наших проблем и гарантирует нам возврат благосостояния, безопасности и нескончаемых развлечений. Такого решения нет и не может быть: любая стратегия имеет свои недостатки и преимущества, и ни один человек, будь он социолог или политик, не может предсказать, как в дальнейшем будут развиваться экономика, политика и само общество. Мечта людей о сильном лидере очень на руку таким политикам, как Трамп, Путин, Ле Пен, и им подобным деятелям правопопулистского толка, которые не скупятся на обещания, имеют в своем арсенале радикальные решения всех мыслимых проблем и готовы исковеркать любую реальность. Джордж Оруэлл разбирался в том, как реальность фальсифицируется в тоталитарных режимах. Феномен Трампа демонстрирует, что и либеральные демократии не застрахованы от известных ее искажений.
Борьба за номинацию от республиканской партии, а затем швыряние грязью друг в друга с Хиллари Клинтон во время предвыборной борьбы – все это было бы забавным спектаклем, не баллотируйся Дональд Трамп на пост президента единственной оставшейся в мире сверхдержавы. Позднее он скомпрометировал себя в качестве серьезного кандидата речью о мексиканских иммигрантах. В итоге он пришел к утверждению, что Мексика поставляет в США наркотики, уголовный элемент и насильников. В действительности, однако, судя по опросам общественного мнения, именно это высказывание значительно подстегнуло его рейтинг. Впоследствии Трамп не смягчил свою риторику ни в малейшей степени. Через несколько недель он объявил, что намерен депортировать из США 11 миллионов нелегальных иммигрантов. Совершенно независимо от того, насколько такая позиция допустима морально, это дешевый популистский трюк, притом что никто не может объяснить, как этот план воплотить на практике.
Другой пример правого популизма представляет Марин Ле Пен, которая всего через несколько часов после побоища в Charlie Hebdo заявила, что необходимо ввести смертную казнь за терроризм. Такова теперь тактика политиков-популистов: обращать гнев людей в свою пользу. Цинизм этого заявления, однако, очевиден и смехотворен, ведь исламский терроризм в основном осуществляется смертниками, которые возводятся идеологией в ранг героев. Растущий успех популистов такого рода дает основание для серьезных опасений, он свидетельствует о том, что все большее число граждан Запада уже не дают себе труда всерьез задуматься о проблемах нашего общества и предпочитают отдать свой голос тем, кто апеллирует к самым примитивным слоям человеческой психики, отвечающим за такие типы эмоций, как ненависть к иностранцам, коллективная травля, ресентимент. Когда политическая культура подвергается подобным манипуляциям, идея свободы теряет свое положительное содержание.
12
Barber B. Consumed!
13
Lasch C. The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy. New York: Norton, 1994.
14
Brooks D. The Road to Character. New York: Allen Lane, 2015.
15
Putnam R. Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster, 2001.
16
Finkielkraut A. Die Undankbarkeit: Gedanken über unsere Zeit. Berlin: Ullstein, 2001.
17
Todd E. Wer ist Charlie? Die Anschläge von Paris und die Verlogenheit des Westens. München: C.H. Beck, 2015.
18
Streit um Werte / Hrsg. L.E. Harrison, S.P. Huntington. München: Goldmann, 2004.
19
Одна из главных книг по этой теме: Gray. Politik der Apokalypse: Wie Religion die Welt in die Krise stürzt. Stuttgart: Klett-Cotta, 2007.
20
Lifton R.J. The Broken Connection: On Death and the Continuity of Life. Washington, D.C.: American Psychological Association, 1996.
21
Конечно, сказанное выглядит как обобщение. Да, большинство граждан становятся все пассивнее, однако создается и множество социальных проектов и некоммерческих организаций, от «Гринписа» до «Врачей без границ», участники которых ощущают острую ответственность за своих сограждан да и за судьбу человечества в целом. Но, к сожалению, данные, собранные Бенджамином Барбером, свидетельствуют, что эти случаи – редкие исключения.