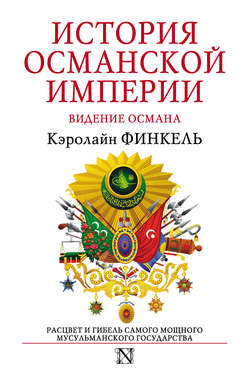Читать книгу История Османской империи. Видение Османа - Кэролайн Финкель - Страница 6
Глава 2
Раскол династии
ОглавлениеСултан Мурад I погиб на западной границе своего государства. Его сын и наследник султан Баязид I надеялся, что ослабленные позиции Сербии и его женитьба после битвы на Косовом поле на Оливере, сестре нового сербского деспота Стефана Лазаревича, предотвратят дальнейшие нападения на его балканские владения, поскольку он был занят на востоке, где отцовская экспансия османских территорий неизбежно привела к конфликту с другими многочисленными туркоманскими мусульманскими эмиратами Малой Азии. Колоссальная энергия, с которой он проводил походы, принесла ему прозвище «Йылдырым» («Молния»),
Восшествие на трон Баязида вынудило малоазийские эмираты вступить в анти-османский союз, возглавляемый его зятем Алаеддин-беем, эмиром Карамана, наиболее упорным из всех туркоманских мусульманских государств в попытках противостоять османской экспансии. Алаеддин-бей женился на сестре Баязида Нефизе Султан в 1378 году, когда соотношение сил между двумя государствами было еще неочевидно. Династические браки могли быть действенным дипломатическим инструментом, но не всегда гарантировали верность потенциальных союзников и лояльность потенциального врага. Поскольку более низкий статус семьи невесты считался безоговорочным, османы отдавали своих принцесс в жены только мусульманским принцам, а не христианским (хотя и христианские, и другие мусульманские правители отдавали своих дочерей в жены членам османского дома на заре его существования в надежде на союз). Не отдавали их и союзникам по завоеваниям, Эвреносогуллары, Михалогуллары или Тураханогуллары, видимо опасаясь, что это может побудить этих османских пограничных властителей оспаривать главенство Османского дома. Признание власти османов над одним из враждебных эмиратов символизировала женитьба Баязида на гермиянской принцессе Султан Хатун в 1381 году, посредством которой он получил эмират Гермиян.
Османы стремились продвигаться на юг к Средиземному морю через Гермиян и эмират Хамид, предположительно проданный Мураду в 1380 году, в погоне за надежными источниками доходов, в которых нуждалось молодое, развивающееся государство. Один из важнейших торговых путей с востока проходил через Средиземное море в порт Анталья на юге Малой Азии, а затем на север через Хамид и Гермиян к черноморскому бассейну или на Балканы. Караман готов был бороться против попыток османов контролировать торговые пути, таможенные пошлины и прочие сборы от этих территорий, и первое столкновение произошло в 1386 году, еще при жизни султана Мурада. По правилам османской летописной традиции корректность требовала обвинить Алаеддина в том, что именно он начал военные действия, и поэтому говорится, что он напал на османскую территорию, по просьбе дочери Мурада, невесты Алаеддина, тогда как Мурад не искал конфликта.
Обезопасив свои западные границы, султан Баязид спешно двинулся на восток. Его армия вновь захватила Гермиян, очевидно утраченный со времени его женитьбы на Султан Хатун, и захватила Айдын, на принцессе которого он также женился. Он сократил земли эмиратов Сарухан и Ментеше таким образом, что османы контролировали всю западную Анатолию, а их владения граничили на юге и в центре Малой Азии с Караманом. В 1391 году Баязид призвал своих вассалов Стефана Лазаревича и Мануила II Палеолога, который в это время уже был императором Византии, и вместе они отправились в поход на восток, чтобы отбить территорию Кастамону на севере центральной Малой Азии у эмиров Исфандияра. Достигнув цели, армии вернулись домой к декабрю того же года. Мануил Палеолог не перечил Баязиду, но письма, которые он писал в походе, живо передают его отчаянье и глубокое возмущение своим унизительным положением.
Несомненно у римлян было название для маленькой долины, где мы сейчас находимся, когда они жили и правили здесь… Здесь много городов, но им недостает того, что составляет истинное великолепие города…а именно, людей. Большинство лежит сейчас в руинах… не сохранились даже их названия… Я не могу сказать Вам, где точно мы находимся… Трудно все это вынести… Скудость провианта, суровость зимы и болезни, свалившие многих наших солдат… чрезвычайно опечалили меня… Невыносимо… видеть что-либо, слышать что-либо, делать что-либо все это время, что могло бы хоть как-то… поднять наш дух. Эти ужасающе тяжелые времена не дают никаких послаблений нам, кто считает наиважнейшей целью оставаться в стороне и ничего не предпринимать и не участвовать в том, во что мы сегодня вовлечены, и с чем-либо имеющим к тому отношение, поскольку нас не готовили к такому развитию событий, не можем мы принять нынешнее положение дел, это не в нашем характере, не говоря уже о личности [т. е. Баязиде], которая за них ответственна.
Зимой 1393–1394 года отношения между двумя правителями вошли в новую стадию, когда Баязид узнал, что Мануил предложил мир своему племяннику и сопернику Иоанну VII Палеологу, не долго правившему в 1390 году, в надежде, что объединившись они могли бы противостоять османам. Именно Иоанн, страстно желавший сохранить расположение Баязида, донес о предложении Мануила. Вскоре Баязид призвал своих христианских вассалов в Серее в Македонию: это были брат Мануила Феодор, деспот Морей (район Пелопоннеса), тесть Мануила Константин Драгош, правитель Сереса, Стефан Лазаревич Сербский и Иоанн VII. Их приезд в Серее был организован таким образом, что каждый прибыл по отдельности, не зная, что другие тоже будут присутствовать. Сообщение Мануила дает понять, что приглашение Баязида было не из тех, от которых можно отказываться, и что он боялся, что султан намеревается убить их всех.
Ибо Турок собрал тех, кто в той или иной степени считался лидерами христиан… крайне желая истребить их всех; а они предпочли приехать [в Серее] и посмотреть в лицо опасности, чем быть доставленными позже в результате неподчинения его приказам. Конечно, у них были веские основания полагать, что будет опасно предстать перед ним, особенно одновременно, всем вместе.
Страх Мануила в тот момент оказался беспочвенным. Баязид строго отчитал их за плохое управление владениями, возможно с тем, чтобы оправдать будущий захват территорий, и отослал обратно. Однако весной 1394 года султан приступил к осаде Константинополя, сначала построив замок в самом узком месте Босфора, примерно в пяти километрах к северу от города, на азиатском побережье; он был назван Гюзельчехисар («Прекрасный замок»), ныне Анадолу-Хисары. Стены Константинополя веками выдерживали многочисленные осады и вновь противостояли всем попыткам проломить их.
Османы представляли собой угрозу не только для Византии. Баязид также стремился ослабить Венецию, которая представляла собой значительную морскую силу с многочисленными колониями и владениями на побережье Эгейского моря, в Далмации и на Пелопоннесе. Венеция полагалась на торговлю и на постоянное присутствие в регионе флорентийских, каталонских и неаполитанских поселений, каждое со своими собственными коммерческими и политическими интересами, чему содействовала сложная система союзов, которую, в свою очередь, затруднял рост османского могущества, по мере того как различные христианские властители искали османской помощи в борьбе против своих врагов. Султан Мурад I применял против Венеции глобальную стратегию; политика Баязида была ближе к политике его деда Орхана, заключившего союз с Генуей против Венеции. Угроза Баязида византийским крепостям на Пелопоннесе в начале 90-х годов XIV века, равно как и захват Фессалоник в 1394 году и осада Константинополя, отчасти были продиктованы стремлением предотвратить союз Византии и Венеции. Еще одной силой в регионе были рыцари-госпитальеры с острова Родос. Это был военно-религиозный орден, возникший в Иерусалиме во время крестовых походов XII столетия. После сдачи Иерусалима мусульманам в 1187 году они в течение ста лет базировались в Акре, пока падение этого города в 1291 году не вынудило их перебраться на Кипр, а в 1306 году они сделали своей штаб-квартирой Родос. В последние годы XIV века госпитальеры старались закрепить свое присутствие на Пелопоннесе и в 1397 году приняли Коринф у деспота Феодора в обмен на обещание сдерживать османские набеги с юга. В 1400 году они установили контроль над Мистрой, но латинская оккупация столицы деспота спровоцировала восстание, и к 1404 году госпитальеры согласились уйти.
Самым опасным врагом Баязида на Балканах стало Венгерское королевство, в то время одно из крупнейших государств Европы. Поскольку оно устояло перед монгольским нашествием середины XIII века и служило интересам папы, посылая миссионеров искоренения ереси православия и богомилов, оно считалось западным бастионом католической Европы. Венгерская и османская сферы влияния столкнулись после битвы на Косовом поле, и теперь Баязид намеревался подорвать попытки Венгрии сплотить своих балканских союзников. В 1393 году он аннексировал владения непокорного Иоанна Шишмана в придунайской Болгарии, чтобы противостоять набегам на южный берег Дуная валашского воеводы Мирчи (Старого), вассала Венгрии. В 1395 году Баязид пошел войной на Мирчу, заключившего оборонительный договор с Венгрией, Мирна вынужден был бежать. В том же году было завершено завоевание османами Македонии. Такие успехи османов на Балканах придали характер безотлагательности венгерским призывам о помощи со стороны Запада, и на этот раз угроза совпала с редким периодом единения между потенциальными крестоносцами, в основном рыцарями Франции и Англии, и их правительствами. 25 сентября 1396 года армии крестоносцев встретились с османскими силами под командованием Баязида под Никополем на Дунае. Крестоносцев больше воодушевляли успехи их предшественников нежели религия. В своем нетерпении встретиться с врагом французские рыцари отказались признать, что валашские союзники короля Венгрии Сигизмунда обладают большим опытом сражений с мобильной османской кавалерией, чем громоздкие западные армии, и отстранили его от общего командования. Несмотря на это, собственные силы Сигизмунда были близки к тому, чтобы обратить Баязида в бегство (хотя сам Сигизмунд был спасен лишь усилиями своего вассала Стефана Лазаревича), но итогом стала победа османов.
Успех под Никополем принес Баязиду контроль над Балканами к югу от Дуная. После битвы он впервые переправился через реку на территорию Венгрии, и его армия вторглась глубоко в страну. Молодой баварский крестоносец по имени Иоганн Шильтбергер описывает, как он едва избежал казни: на следующий день после битвы многие христианские пленники были хладнокровно убиты, но его пощадили в силу его молодости и оставили в плену вместе с несколькими дворянами. В отличие от него, захваченные с ним дворяне были выкуплены в течение девяти месяцев после ходатайства их лордов и подношения Баязиду дорогих подарков и 300 000 флоринов деньгами[4].
Успехи Баязида не произвели впечатление на его зятя Алаеддина. Караманидский правитель отказывался признать себя подданным османов. По словам Шильтбергера, бывшего в свите Баязида, когда тот вел победоносную армию на караманидский город Конья после победы на Дунае, он заявил: «Я такой же великий правитель, как и вы». За высокомерие Алаеддин поплатился жизнью, а эмират Караманидов утратил свою независимость.
Присоединение Карамана освободило от давления со стороны одного враждебного государства, но на восточной границе османам все еще угрожали: на севере Кади Бурхан аль-Дин Ахмад, ускользнувший от Баязида во время предыдущего похода. Кади Бурхан аль-Дин, поэт и образованный человек, узурпировал трон династии Эретна, чьей ставкой был Сивас, в северной Малой Азии. Османы считали себя наследниками государства Сельджуков в Малой Азии, и сопротивление Карамана их претензиям на господство было сопротивлением враждебного эмирата туркоманского же происхождения, а Кади Бурхан аль-Дин представлял наследников монгольской империи Чингиз-хана Ильханидов. Как вскоре доказали армии Тамерлана, уже тогда легендарного монгольского правителя Трансоксианы в Центральной Азии, монгольский вызов был гораздо более опасным. Различие между подданными османов и подданными Кади Бурхан аль-Дина отметил император Мануил II, когда сопровождал Баязида в походе на восток в 1391 году; он считает турецкое население западной Малой Азии «персами», распространенная византийская формулировка того времени, но называет народ Кади Бурхан аль-Дина «скифами», так именовали монголов.
К 1397 году осада Баязидом Константинополя превратилась в непрерывную блокаду, и император Мануил вновь ищет помощи за границей, чтобы спасти столицу Византии. В июне 1399 года после многочисленных дипломатических переговоров между Парижем, Лондоном, Римом и Константинополем король Франции Карл VI отправил на помощь Мануилу небольшую армию. Во главе ее стоял французский маршал Жан Бусико, один из рыцарей, захваченных под Никополем, заключенный в тюрьму, а затем освобожденный османами за выкуп. Бусико смог добраться до Мануила, только проложив путь сквозь османскую блокаду. Он понимал, что его армии недостаточно для освобождения Константинополя, и убедил императора отправиться в Европу и лично представить свои аргументы. В декабре он двинулся в обратный путь в сопровождении Мануила, сначала морем в Венецию, а затем по суше в Париж, где император задержался на шесть месяцев. 21 декабря 1400 года он прибыл в Лондон, где король Генрих IV встречал его на въезде в город. Несомненное благочестие и искренность завоевали ему всеобщую симпатию, а появление его экзотической свиты из бородатых священников вызывало удивление, где бы они ни появлялись в течение своего двухмесячного визита. Как писал английский хроникер того времени Адам Уск:
Этот император всегда сопровождается людьми, одетыми одинаково и в один цвет, а именно в белый, в длинные мантии, скроенные словно плащи… Бритва никогда не касалась голов или бород этих священнослужителей. Греки сама набожность на своих богослужениях, в которых помимо священников принимают участие и солдаты, ибо они без исключения проводятся на родном языке.
Принятый и Карлом и Генри с пышностью и по всем правилам этикета, Мануил был убежден, что какая бы помощь ему ни понадобилась для противостояния Баязиду, он ее получит. Но деньги, которые собирали для Мануила по всей Англии, похоже, куда-то исчезли (и вопрос их исчезновения был еще предметом расследования в 1426 году).
Мануил вернулся домой в начале 1403 года, чтобы обнаружить, что его мир сильно изменился. Его город был спасен от неминуемого разрушения событием, которое, казалось, предвещало конец османского владычества: поражением армии Баязида от войска Тамерлана при Анкаре (Анкире). Поражение Баязида перевернуло с ног на голову всю Малую Азию и принесло жесткие репрессии на Балканы. В долгой перспективе оно также позволило Константинополю просуществовать в качестве столицы Византии еще полстолетия.
Тридцатью годами ранее Тамерлан начал серию походов, которые привели его из Китая в Иран и завершились, насколько это касалось османов, противостоянием при Анкаре. Тамерлан считал себя преемником Чингиз-хана и таким образом наследником территорий сельджукидов-ильханидов в Малой Азии, что давало ему убедительные аргументы для использования разногласий среди пестрой смеси местных, все еще независимых династий. Баязид, правда, посягал на те же самые территории, и с захватом османами Сиваса после убийства его эмира Кади Бурхана аль-Дина Ахмада летом 1398 года сферы влияния Баязида и Тамерлана столкнулись в восточной Малой Азии. Баязид обратился с просьбой к калифу в Каире пожаловать ему титул «румского султана», наследовавшийся сельджукскими султанами Малой Азии. Тамерлан потребовал, чтобы Баязид признал его своим сюзереном, но Баязид недвусмысленно отказался. Убийца Кади Бурхана аль-Дина вождь туркоманского племенного союза Аккоюнлу («Белые овцы»), чья ставка была в Диярбакыре на юго-востоке Малой Азии, воззвал к Тамерлану, который ответил в 1399 году, начав самый длительный за все свое правление поход. Ему суждено было длиться семь лет.
Примерно в это же время союзники Баязида, султан Багдада Ахмад Джалайир и вождь туркоманского племенного союза Каракоюнлу («Черные овцы»), с центром на озере Ван в восточной Малой Азии, убедили его отправиться в поход, чтобы захватить несколько мамлюкских крепостей к западу от Ефрата. В какой-то степени им это удалось, но серьезно оскорбило Тамерлана. Летом 1400 года, пока Баязид был занят осадой Константинополя, Тамерлан взял Сивас, а затем наступал к югу вдоль Ефрата на территорию мамлюков до самого Дамаска, прежде чем повернуть на Азербайджан.
Армии Тамерлана и Баязида встретились под Анкарой 28 июля 1402 года. Тамерлан выставил около 140 000 воинов, в то время как в армии Баязида было 85 000. В свои ряды Тамерлан мог зачислить недовольных бывших правителей эмиратов западной Малой Азии, чьи земли перешли под контроль османов вскоре после того, как Баязид взошел на трон. Эти правители, смещенные эмиры Айдына, Сарухана, Ментеше и Гермияна, нашли убежище при дворе Тамерлана, в то время как воины, которые некогда клялись им в верности, были теперь подданными Баязида и находились под его командованием. Собственные конница и пехота Баязида составляли ядро его армии – среди последних были янычары, на турецком «ени черн», что означает «новое войско», пехотный корпус, который изначально был сформирован при султане Мураде I из военнопленных, захваченных в христианских землях на Балканах, и был закреплен с помощью взимания налога мальчиками среди балканских христианских вассалов для обеспечения надежного источника военной силы[5]. Также в армии Баязида были его вассал Стефан Лазаревич Сербский и валахи из недавно завоеванной Фессалии. Дополнительная помощь пришла от «татар», которые, как отмечает Иоганн Шильтбергер в своем кратком свидетельстве очевидца о битве, в которой он стал пленником Тамерлана, насчитывали 30 000 воинов из «белых тартар», предположительно они бежали на запад со своих земель к северу от Каспийского и Черного морей до наступления Тимура. Этот факт недавно был подвергнут сомнению, и похоже, что эти «татары», наоборот, принадлежали к туркоманским родам из восточной Малой Азии.
Битва продолжалась весь день. Противостоящие друг другу армии были выстроены в схожем порядке с правителями в центре в окружении пехоты – в случае Баязида янычарами – с кавалерией на флангах. Самое раннее описание сражения принадлежит Кретану, который сражался на стороне Баязида, но бежал с поля боя:
Армия Баязида состояла из 160 отрядов. Сначала армия Тимура [т. е. Тамерлана] разбила четыре из них, командирами [трех из] которых были Тами Джозаферо Морчесбей [т. е. Фируз-бей], великий правитель мусульман, сын Баязида [т. е. принц Сулейман] и сын князя Лаззеро [т. е. Стефан Лазаревич]…[четвертый отряд] был Баязида. Его воины сражались так храбро, что большая часть войск Тимура была рассеяна. Решили, что Тимур проиграл битву; но он был где-то в другом месте и немедленно послал 100 000 воинов, чтобы те окружили Баязида и его отряд. Они захватили Баязида и двух его сыновей. Лишь шесть из отрядов Баязида приняли участие в этом сражении, остальные бежали. Тимур праздновал победу.
Комментаторы отметили, что армия Тамерлана подошла к Анкаре первой и расположилась лагерем у реки, оставив воинов Баязида и их коней без воды. Шильтбергер пишет, что у Тамерлана было 32 обученных слона, со спин которых метали в османских солдат знаменитую зажигательную смесь, известную как «греческий огонь». Это хорошо объясняет то замешательство, которое заставило Баязида поверить, что он одержал верх, лишь для того чтобы оказаться окруженным и побежденным. Османские летописцы тем не менее сходятся во мнении, что Баязид проиграл битву из-за дезертирства многих его солдат: и многочисленных «татар» и войска из когда-то независимых эмиратов западной Малой Азии, которые не стали сражаться. Баязид и его сын Муса были пленены, а возможно, и его сербская жена и сын Мустафа. Его сыновья Иса, Сулейман и Мехмед бежали. Завоевания Баязида были уничтожены в один день. До нашествия Тамерлана его владения простирались от Дуная почти до самого Евфрата; теперь же османская территория была резко сокращена до той, что была завещана ему его отцом в 1389 году. Восьмилетняя блокада Константинополя закончилась. Тамерлан вернул земли эмирам Карамана, Гермияна, Айдына, Сарухана и Ментеше и подкрепил свои притязания на остаток владений Баязида в Малой Азии годичным набегом.
Приступив к написанию истории поражения Баязида под Анкарой, летописцы искали объяснение катастрофы, которая произошла с османами. Хронист XV в. Ашикпашазаде возлагает вину за поражение на Баязида, обвиняя его в распутстве – точка зрения, с которой соглашаются современники султана – и обвиняя его сербскую жену в поощрении к пьянству; он также порицает визиря Баязида Чандарли Али-пашу за общение со священниками, чьи религиозные убеждения были сомнительны. Победа Тамерлана была унизительной, но для последующих поколений гораздо большим основанием для сожаления стала последующая борьба между сыновьями Баязида за наследство. В то время как принц Муса и, возможно, принц Мустафа после битвы под Анкарой находились в руках Тамерлана, Сулейман, Мехмед и Иса бросились искать союзников для поддержания их личных претензий на трон. Еще один сын, Юсуф, нашел убежище в Константинополе, принял христианство и был крещен Димитрием. Следующие 20 лет несли с собой смуту и страдания для Османского государства в беспрецедентных масштабах.
В своем позорном поражении когда-то могущественный правитель Баязид стал трагической фигурой. И хотя османские летописцы, спустя столетие после битвы при Анкаре, будучи тронутыми его судьбой, написали о Тамерлане, посадившем Баязида в железную клетку и возившем униженного султана с собой в победоносном шествии по Малой Азии, историки считают это нереальным. Более современные османские писатели утверждали, что он сам наложил на себя руки, не вынеся бесчестья поражения. Правда о судьбе султана Баязида оказалась более прозаичной: по сообщению Шильтбергера он умер естественной смертью в марте 1403 года в городе Акшехир в западно-центральной Малой Азии. Его тело было мумифицировано и хранилось сначала в гробнице сельджукского святого. Историки того времени говорят, что его сын Муса вскоре получил у Тамерлана разрешение перевезти тело в Бурсу. Судя по надписи на гробнице, возведенной для него сыном Сулейманом, он был похоронен в 1406 году. Несколько десятилетий спустя византийский историк Дука написал, что могила Баязида была осквернена, а останки эксгумированы караманским беем Алаеддином в отместку за то, что Баязид казнил его отца в Конье в 1397 году.
Поражение султана Баязида стало впоследствии популярной темой для поздних западных писателей, композиторов и художников. Им нравилась легенда о том, как Тамерлан увез султана в Самарканд, и они украшали ее набором персонажей для создания привлекательной восточной фантазии. Пьеса Кристофера Марло «Тамерлан Великий» впервые была поставлена в Лондоне в 1587 году, через три года после официального начала английско-османских торговых отношений, когда Уильям Харборн отплыл в Стамбул в качестве агента Левантской компании. В 1684 году появилась пьеса Жана Магнона «Великий Тамерлан и Баязет», а в 1725 году в Лондоне был впервые поставлен «Тамерлан» Генделя; версия Вивальди «Баязед» была написана в 1735году. Магнондал Баязиду пленительную жену идочь, интерпретации Генделя и Вивальди помимо Тамерлана и Баязида с дочерью включали принца Византии и принцессу Трапезунда (Трабзон) в страстной и невероятной любовной истории. Цикл картин в замке Шлосс Эггенберг, около Граца в Австрии, передавал тему другими средствами, он был закончен в 1670 году незадолго до того, как могучая османская армия атаковала Габсбургов в центральной Европе.
Принц Сулейман и его сторонники, в число которых входил визирь Баязида Чандарли Али-паша, приняли стратегическое решение оставить Малую Азию Тамерлану и взять на себя управление западными землями его отца. Как и у османов, у Тамерлана были свои летописцы, и они тоже придерживались определенных правил: заботясь, чтобы его неспособность преследовать Сулеймана не была воспринята как слабость, официальный историк Тамерлана Шараф аль-Дин Язди писал, что его господин обменивался послами с Сулейманом, который признал сюзеренитет, и в ответ ему была дарована свобода действий в Румелии. Сулейман начал переговоры с христианскими державами на Балканах, стремясь предотвратить осуществление их исторических претензий на румелийские территории его ослабленного государства, которое тем не менее все еще оставалось самым крупным в регионе. Его быстрые действия также не позволили его балканским вассалам, византийским, сербским и латинским, извлечь такую же большую выгоду, как удалось бывшим эмирам Малой Азии, из распада османского государства. Тем не менее по условиям соглашения, заключенного в Гелиболу в 1403 году, принц Сулейман согласился на территориальные уступки, немыслимые всего несколько месяцев назад. Более того, Византия была освобождена от вассального статуса, равно как и некоторые латинские анклавы; если бы не разногласия сербских правителей, Сербия тоже могла бы освободиться от вассальной зависимости. Юго-западное побережье Черного моря и город Фессалоники были среди выгод, полученных византийским императором Мануилом II, который добился дополнительных значительных уступок в соглашении с Сулейманом о взаимопомощи в случае нападения Тамерлана. Поскольку страх Византии перед османами таким образом уменьшился, Мануил осмелился изгнать османских купцов, разместившихся в Константинополе, и разрушить мечеть, недавно построенную в городе для нужд общины. И Венеция, и Генуя добились выгодных торговых договоров в землях, которые контролировал Сулейман. Согласно сообщению венецианского посредника, ведшего переговоры, Пьетро Зено, гази Эвреносбей выступал против отказа членами Османского дома от земель, которые были завоеваны им и его приближенными пограничными властителями.
Наиболее известная версия последующих событий принадлежит перу анонимного панегириста принца Мехмеда, окончательного победителя в гражданской войне. После битвы при Анкаре Мехмед удалился в свою ставку в северо-центральной Малой Азии, чтобы снова появиться, когда сам Тамерлан отправился обратно на восток в 1403 году. Затем Мехмед разгромил принца Ису в сражении к югу от Мраморного моря и занял Бурсу, находившуюся в руках Исы; впоследствии его войско было вовлечено в стычки с различными местными властителями, защищавшими свою вновь обретенную независимость от османского владычества. Похоже, принц Иса дал бой армии Тамерлана в Кайсери, после чего укрылся в северо-западной Малой Азии, где и был убит Сулейманом в 1403 году. Соглашение, заключенное принцем Сулейманом в Гелиболу, обеспечило ему период стабильности на Балканах. В 1404 году он переправился в Малую Азию и отбил Бурсу и Анкару у принца Мехмеда, который отступил в Токат на севере центральной Малой Азии. Сулейман правил в Румелии и Малой Азии вплоть до Анкары, и казалось, что его будущее в качестве преемника своего отца было обеспечено, и в самом деле некоторые историки считают, что он уже стал султаном, упоминая его как Сулеймана I.
Тем не менее в 1409 году на сцене появился новый персонаж и стал угрожать владениям Сулеймана. Его младший брат принц Муса был отпущен Тамерланом в 1403 году под опеку эмира Гермияна, который в свою очередь перепоручил его Мехмеду. Нападение на Сулеймана произошло с абсолютно неожиданной стороны: Муса приплыл в Валахию из порта Синоп на севере Малой Азии, где обрел плацдарм, женившись на дочери валашского воеводы Мирчи. Мирча перенес на Сулеймана свою ненависть к Баязиду и полагал, что встать на сторону Мусы послужит его выгоде. Военная кампания Мусы в Румелии не обошлась без неудач, но к маю 1410 года он занял столицу Сулеймана в Эдирне и достиг Гелиболу, вынудив Сулеймана с некоторой поспешностью уйти из Малой Азии. Император Мануил видел в борьбе за наследство свое спасение и старался продлить ее: он вернул себе контроль над путями между Малой Азией и Румелией в результате соглашения 1403 года и помогал Сулейману переправляться через Босфор. Но вскоре Сулейман был казнен по приказу Мусы близ Эдирне, будучи пьяным, если верить анонимному летописцу, и поле битвы осталось за Мехмедом и Мусой.
Таким образом принц Муса унаследовал владения своего брата Сулеймана и в Румелии, и в Малой Азии и с трудом управлял ими последующие два года. Сын Сулеймана Орхан нашел убежище в Константинополе и, опасаясь, что тот может стать центром заговора против него, Муса осадил Константинополь осенью 1411 года, но безрезультатно. Постепенно советники и командиры покидали его, а брат, принц Мехмед, с помощью Мануила переправился через Босфор и встретился с Мусой в битве около Чаталджи во Фракии, затем Мехмед вернулся в Малую Азию. Хотя Муса победил, его земли в Румелии были захвачены войсками его бывшего союзника Стефана Лазаревича, который заплатил за это на следующий год, когда Муса отомстил, напав на несколько сербских крепостей.
В 1413 году Орхан высадился в Фессалониках, возможно при содействии императора Мануила, который надеялся отвлечь Мусу от Сербии. Муса сумел пленить Орхана, но по каким-то причинам отпустил его и не смог снова захватить Фессалоники.
Соседние государства считали принца Мусу, не без помощи Валахии, большей угрозой, чем принц Мехмед. Стефан Лазаревич предложил Мехмеду присоединиться к нему в совместном походе против Мусы; Мануил также принял сторону Мехмеда, предоставив суда для перевозки его людей в Румелию еще раз и снабдив его войска продовольствием. К тому времени, когда две армии встретились к югу от Софии, армия Мехмеда включала воинов из эмирата Дулкадир в юго-восточной Малой Азии, благодаря женитьбе Мехмеда на дочери эмира, византийские войска, предоставленные императором, сербские, боснийские и венгерские войска под командованием Стефана Лазаревича, войска из Айдына, чья приверженность Мусе была тверда еще накануне битвы, и войска Румелии под командованием пограничного властелина гази Эвренос-бея. Армия Мусы атаковала решительно, но в конечном итоге была обращена в бегство. Он упал при столкновении лошадей и был убит одним из командиров Мехмеда.
Со смертью принца Мусы в 1413 году гражданская война, похоже, закончилась, спор решился в пользу принца Мехмеда, с этого времени известного как султан Мехмед I. Первой заботой султана Мехмеда стало завоевание лояльности различных малоазийских эмиратов, которые поддерживали его в военном отношении, но не хотели отказываться от независимости, которую они вновь обрели после победы Тамерлана при Анкаре в 1402 году. Особенно решительное сопротивление Мехмед встретил со стороны Карамана, а также Джунейда, эмира Айдына; крепость Джунейда в конечном итоге была взята с помощью союзников, включавших генуэзцев Хиоса, Лесбоса, Фочи (Фокайи) и рыцарей-госпитальеров с острова Родос. Джунейд был назначен правителем Никополя на Дунае, место победы султана Баязида над крестоносцами в 1396 году. Назначение бывших мятежников на государственные посты было лейтмотивом административной практики османов уже в те далекие времена. Османы полагали более благоразумным располагать к себе побежденных местных властителей, а позднее и слишком независимых государственных подданных, с помощью доли в правительственном вознаграждении, чем убивать их, рискуя спровоцировать дальнейшие волнения среди их сторонников.
В течение пары лет султан Мехмед в значительной степени вернул бывшие османские владения в Малой Азии, и император Мануил обнаружил, что его позиции настолько же ослабели. Он не мог позволить себе потерять инициативу, захваченную в период османского междуцарствия, помогая тому или иному претенденту на престол. Единственным инструментом, оставшимся в его руках, был сын Сулеймана Орхан. В последней отчаянной попытке поддержать разногласия внутри османского дома он отправил Орхана в Валахию, чей воевода Мирча оставался непримиримым врагом османской державы. Тем не менее это означало конец полезности Орхана в качестве альтернативного фокуса османской лояльности, поскольку Мехмед поспешил встретиться с ним, пока он не зашел слишком далеко, и ослепил его. Затем, внезапно и достаточно неожиданно в 1415 году пропавший брат Мехмеда принц Мустафа, или очень правдоподобный подражатель – он был известен как «Лже»-Мустафа – объявился в Валахии в качестве византийского посла в Трабзоне на северо-восточном побережье Малой Азии. По сообщениям, Мустафа был захвачен в плен вместе со своими отцом и братом Мусой в 1402 году, но его местонахождение в течение всех этих лет оставалось неясным. Надо полагать, что он был пленником при дворе Тимуридов, а его освобождение Шахрухом, сыном и наследником Тамерлана, умершего в 1405 году, было рассчитано на то, чтобы вновь развязать борьбу за османский трон. В 1416 году Шахрух написал Мехмеду, протестуя против убийства его братьев. Мехмед демонстративно предложил оправдание: «В одном государстве не может быть двух падишахов… враги, которые окружают нас, постоянно ищут удобный случай». Шахрух сам пришел к власти только после более чем десятилетней борьбы против других претендентов и, как и его отец, хотел, чтобы государства на его внешних границах были слабыми.
Казалось, что недавно восстановленная власть Мехмеда в Румелии будет вынуждена столкнуться с вызовом, брошенным его братом Мустафой, чьи послы начали переговоры с императором Мануилом и Венецией. Решение Мехмеда назначить айдынского Джунейда для защиты дунайской границы от Валахии оказалось неблагоразумным, поскольку его бывший противник вскоре переметнулся к Мустафе. Тем не менее оба были побеждены, и, когда они искали убежища в византийском городе Фессалоники, император Мануил обязался держать их в заключении в течение всей жизни Мехмеда.
Появление харизматических личностей и их способность привлекать сторонников во времена острых экономических и социальных кризисов было такой же действенной силой в османской истории, как и в европейской. В 1416 году, в том же году, в котором он одержал победу над братом Мустафой, султан Мехмед столкнулся с новым сопротивлением его попыткам управлять балканскими провинциями. Этим восстанием руководил шейх Бедреддин, высокопоставленный представитель исламской религиозной иерархии, родившейся в смешанной мусульманско-христианской семье в городе Симавне (Кипринос), к юго-востоку от Эдирне. Шейх Бедреддин был мистиком. Получив богословское образование в Конье и Каире, он отправился в Арбадил в Азербайджане, который находился под властью Тимуридов и служил местопребыванием мистического ордена Сафавидов. Там он нашел благоприятную обстановку для развития своих пантеистических идей, и в особенности доктрины «единства бытия».
Учение о единстве бытия было направлено на уничтожение противоречий, составляющих основу жизни на земле, таких как противоречия между религиями, а также между привилегированными и неимущими слоями – которые, как считалось, препятствуют единству человека и Бога. Борьба за «единство» поручила мистику важную роль, поскольку именно он, а не ортодоксальное духовное лицо, обладал мудростью, следовательно, миссией вести человека к единению с Богом. Это учение было потенциально губительно для нараставших османских усилий основать путем завоеваний государство с суннитским исламом в качестве религии и своей династией во главе.
В атмосфере противостояния султану Мехмеду шейх Бедреддин, видимо, увидел возможность проповедовать свои убеждения. В 1415 году он внезапно покинул место своей ссылки в Изнике, куда он был сослан после смерти принца Мусы, при котором он занимал пост верховного судьи в Эдирне, и направился в Валахию через Синоп, расположенный на побережье Черного моря. Шейх Бедреддин стал знаменем для тех, кто, как сторонники Мустафы и Джунейда, разочаровались в Мехмеде; основным районом, на который он опирался, был регион «Дели Орман» («Дикий лес»), лежащий к югу от дельты Дуная. Здесь, где междоусобная борьба прошлых лет еще более усилила противоречия, воспринимаемые как результат османского завоевания, он нашел сторонников среди недовольных пограничных властителей и их подданных, чья власть на местах была подорвана введением османского сюзеренитета, равно как и среди других мистиков и крестьян. Материальные интересы пограничных властителей и их воинов были ущемлены, когда Мехмед отменил дарственные на земли, которые шейх Бедреддин пожаловал от имени Мусы во время пребывания в должности верховного судьи.
Шейх Бедреддин писал синкретические послания, а его ученики Бёрклюдже Мустафа и Торлак Кемаль распространяли учение в западной Малой Азии к ужасу османских чиновников. Будучи когда-то терпимым к практике христианства в собственных рядах, на этот раз правительство приняло жесткую позицию, пытаясь опорочить в своих указах тех, кто выражал недовольство языком религии. Понося их как «деревенщин», «невеж» и «негодяев», и государство и его летописцы объявляли вспышки народного недовольства противозаконными и недопустимыми. Эти проявления народного недовольства вынудили Мехмеда направить на их подавление ресурсы и энергию, которые он надеялся использовать более продуктивно для других целей.
Восстание шейха Бедреддина в Румелии было скоротечным: воины султана Мехмеда вскоре задержали его и привезли в Серее, где судили и казнили на базарной площади, обвинив в нарушении общественного порядка проповедями о том, что все имущество должно быть общим и что нет различий между религиями и их пророками. Несмотря на это, учение шейха Бедреддина продолжало оставаться влиятельным. До конца XVI века, да и впоследствии к сектантам относились как к врагам государства, а принципы, которые он проповедовал, стали разменной монетой среди анархических мистических сект в течение всей истории империи. Более всего их придерживался Бекташи, дервишский орден, с которым были связаны янычары.
Имя шейха Бедреддина живо и в современной Турции. Особенно оно близко тем, кто находится на левом крыле политического спектра благодаря эпической поэме о шейхе Бедреддине («Дестане о шейхе Бедреддине, сыне кадия Симавне»), длинной повествовательной поэме, написанной турецким коммунистом Назымом Хикметом, приписывавшем шейху Бедреддину собственное вдохновение и мотивацию в антифашистской борьбе в 30-е годы XX века. Кульминации поэма достигает, когда провозглашающие единство последователи шейха Бедреддина встречаются с армией султана:
За то, чтоб вместе всем одним дыханьем петь,
чтоб вместе всем тянуть с уловом сеть,
за то, чтоб сообща поля пахать,
чтоб из железа кружева ковать,
чтоб вместе всем срывать плоды с ветвей и
есть инжир медовый в общем доме,
чтоб вместе быть везде и всюду —
кроме,
как у щеки возлюбленной своей, —
из десяти их восемь тысяч пало[6].
Современные последователи шейха Бедреддина настолько опасались враждебной реакции со стороны турецких властей, что хотя его останки были эксгумированы и привезены из Греции во время обмена греко-турецкого населения в 1924 году, они не находили своей окончательной могилы до 1961 года, когда были похоронены на кладбище, расположенном вокруг мавзолея султана Махмуда II, около Крытого базара в Стамбуле.
Когда принц Муса и его союзник Джунейд были надежно заперты в византийской тюрьме, а шейх Бедреддин мертв, султан Мехмед вернулся в Малую Азию, чтобы вновь попытаться завладеть государством Караманидов. Но Караман признал вассальную зависимость от могущественных Мамлюков, и у Мехмеда не было иного выбора, как отступить. Тем не менее он сумел присоединить владения Исфендиярогуллары на севере центральной Малой Азии, через которые шейх Бедреддин проходил по пути в Валахию, и заставить Мирчу Валашского платить ему дань. Как это было в обычае у вассалов, Мирча отправил трех своих сыновей ко двору Мехмеда в качестве заложников его надлежащего поведения. Одним из этих мальчиков был Влад Дракула, впоследствии получивший прозвище «Колосажатель», который стал печально известен в народных легендах о Трансильвании как вампир.
Ко времени своей смерти в 1421 году султан Мехмед все еще не добился успеха в восстановлении османского контроля над всеми территориями, которыми владел его отец Баязид в Малой Азии и Румелии. В последние годы жизни его преследовали болезни, и у него было достаточно возможностей обдумать проблемы преемственности, главной его целью было избежать той борьбы, которая сопутствовала его собственным претензиям на власть. Его визири скрывали его смерть, пока его сын Мурад, которому не исполнилось еще двадцати лет, не был провозглашен султаном в Бурсе.
Историк Дука сообщал, что Мехмед решил отправить двух своих младших сыновей, Юсуфа и Махмуда, в Константинополь в качестве заложников императора Мануила II. Таким образом он надеялся гарантировать продолжавшееся тюремное заключение своего брата, «Лже»-Мустафы, и устранить опасность того, что кто-то из них троих вступит в борьбу за его престол. Так или иначе, Юсуф и Махмуд не были переданы Мануилу, а смерть Мехмеда ускорила освобождение «Лже»-Мустафы и Джунейда. Дука полагал, что визирь Мехмеда Баязид-паша был виноват в том, что мальчики не были переданы Мануилу, настаивая: «Недостойно и несовместимо с волей Пророка, что дети мусульман будут воспитываться неверными». При содействии Мануила Мустафа и Джунейд высадились в Гелиболу в Румелии, где их поддерживали наиболее видные пограничные вожди региона, среди которых были Эвреносогуллары и Тураханогуллары. Но прежде чем они смогли добраться до Эдирне, их встретила армия под командованием Баязид-паши. «Лже»-Мустафа убедил воинов Баязид-паши дезертировать, показав шрамы, которые, по его утверждению, он получил в битве при Анкаре 20 лет назад. Баязид-паша был казнен, и Мустафа занял Эдирне и сделал город своей столицей и чеканил там монету в качестве объявления своего султаната, как это делали до него его братья Сулейман, Муса и Мехмед. Готовность жителей Румелии перейти на сторону принца Мустафы, а не признавать вассальную зависимость сыну султана Мехмеда и законному наследнику Мураду II была знаком постоянной тревоги, с которой воины пограничных земель относились к усилиям османов установить единое и централизованное управление на территориях, которые они завоевали, будучи союзниками османов. Мустафа проявил себя как их соратник, выступив против своего брата султана Мехмеда шестью годами ранее, многие также симпатизировали восстанию шейха Бедреддина.
Следующей целью Мустафы была Бурса. Султан Мурад намеревался встретить его к северо-западу от города, где через реку Нилюфер был переброшен мост, который он приказал разрушить. Две армии стояли друг напротив друга по обеим сторонам реки. Мурад заставил Мустафу поверить, что он собирается обойти озеро, из которого вытекала река, но вместо этого быстро восстановил мост и застал своего дядю врасплох. Пограничные властители покинули Мустафу, и он бежал. Большинство описаний его кончины утверждают, что Мустафа был схвачен людьми султана Мурада к северу от Эдирне, когда пытался добраться до Валахии в 1422 году, и, как и шейх Бедреддин до него, был повешен как обыкновенный преступник, что означало, что Мурад считает его самозванцем. Другая традиция повествует, что он добрался до Валахии и оттуда отправился в Кафу в Крыму и позднее укрылся в византийских Фессалониках. Правда, он не мог быть уверен в радушном приеме даже в Валахии, не говоря уже о том уровне поддержки, которую получил в своем прошлом походе на своего брата Мехмеда, так как Валахия в этот момент была вассалом османов.
Другой Мустафа, брат Мурада, «Младший» Мустафа, также оказался в центре междоусобных претензий на султанат. Со времени смерти его отца «Младший» Мустафа пребывал в одном из малоазийских государств, враждующих с османами; в 1422 году, в тринадцатилетнем возрасте, мальчик был поставлен во главе армии и Бурса была осаждена. Когда Мурад послал армию на помощь городу, «Младший» Мустафа и его сторонники бежали в Константинополь. Претензии «Младшего» Мустафы на османский престол вскоре были признаны почти во всей османской Малой Азии, но благодаря измене визиря Мустафы Ильяс-паши Мурад выдвинулся против него в Изник и после ожесточенной битвы приказал удавить мальчика. Почти столетие спустя летописец Мехмед Нешри оправдывал измену Ильяс-паши на том основании, что его основной заботой было поддержание общественного порядка и что никакая жертва не могла быть слишком большой для достижения этой цели.
Как и прежде его отец, султан Мурад II начал восстанавливать свое государство и занимался этим долго, прежде чем ему удалось стабилизировать османские владения. После поражения «Лже»-Мустафы его союзник по мятежу Джунейд Айдынский вернулся домой, чтобы обнаружить, что его власть узурпирована. Мурад пообещал Джунейду и его семье охранную грамоту, но затем убил их, и Айдын еще раз стал османским. Ментеше был снова аннексирован, а где-то после 1425 года – Гермиян, что еще раз дало османам полный контроль над западной Малой Азией. Караман оставался независимым: у Мурада не было намерений атаковать его немедленно, и никто его к этому не подталкивал.
Годы, последовавшие за поражением Баязида I при Анкаре, стали свидетелями самой шумной из всех османских периодов борьбы за престолонаследие. Позднее неизгладимая память о тех событиях вдохновила сына Мурада Мехмеда II, в надежде на то, что такое ужасное кровопролитие никогда не повторится, официально санкционировать братоубийство в качестве средства для облегчения порядка престолонаследия – практику, которая впоследствии навлекла позор на османскую династию. При отсутствии летописных сообщений тех лет мало известно о пути, которым Осман и его непосредственные наследники пришли к трону. Возможно, он был таким же кровавым: некоторые летописцы намекают, что претензия Османа возглавить клан после смерти его отца Эртогрула была оспорена его дядей Дюндаром и что Осман убил его. У сына и наследника Османа Орхана было несколько братьев, но летописи упоминают только одного, Алаеддина, о чьем существовании свидетельствуют мечети, бани и обители дервишей, построенные им в Бурсе. Считается, что Орхан предложил Алаеддину руководство Османским эмиратом, а Алаеддин отказался, освобождая Орхану путь к трону. Судьба остальных сыновей Османа неизвестна. Орхан оставил после себя Мурада, Халиля и, возможно, еще одного сына, Ибрахима; если между ними была борьба за престолонаследие, ее также замолчали. Когда Баязид унаследовал султану Мураду после смерти последнего на Косовом поле, есть сведения, как уже было сказано выше, что он убил своего брата Якуба.
Хотя византийский историк того времени Лаоник (Николай) Халкокондил сообщает, что султан Мехмед собирался разделить османские владения и отдать Румелию Мураду, а Малую Азию «Младшему» Мустафе, со времени основания своего государства османы придерживались принципа, что их владения должны передаваться целиком одному из членов следующего поколения. Они следовали обычаю монголов, наследование не было привязано к одному члену правящей династии: вопрос, кто станет наследником, был в руках Божьих. Право в первую очередь основывалось на обладании троном. Султан Баязид произвел на свет множество сыновей, оказавшихся в свою очередь плодовитыми, а его внуки также претендовали на престолонаследие; их периодическое появление в качестве претендентов, часто при поддержке византийского императора Мануила II, подогревало борьбу за трон. В течение большей части османской истории ни братоубийство в качестве политического средства, ни старания летописцев представить преемственность первых османских султанов как легитимную, не были эффективны, чтобы не допустить изнурительные периоды борьбы за власть, которые как правило начинались после смерти султана. Кроме того, было недостаточно просто сесть на трон: доказав, что именно он богоизбранный правитель, каждый новый султан должен был обрести и сохранить поддержку тех, кто предоставил ему эту возможность – государственных деятелей, что важнее всего, солдат государства – и завладеть казной, которая давала ему средства для управления и защиты османской территории.
Способность османского дома завоевывать и удерживать верность пограничных вождей, которые иногда были соперниками, а иногда добровольными союзниками, и поощрять другие государства к солидаризации с его деяниями, зависела от его собственных успехов – величины непостоянной. Малая Азия XIII–XIV веков описывалась выше как место, где за власть боролись «господствующая, централизующая семейная военная власть… непокорные и объединившиеся в группы пограничные вожди и… напуганные и обреченные, но гордые княжества», которые можно сравнить с другими средневековыми государствами, например с англо-норманнским, включившим в свой состав Уэльс и Ирландию в XII и XIII веках, а преданность династии или отдельному ее члену определяла курс политической истории. Политика великих держав была еще одним фактором, влияющим на османов, и, когда того требовали обстоятельства, даже крайне анти-османски настроенные Караманиды полагали разумным договориться о перемирии, когда почувствовали угрозу со стороны более сильных мамлюков.
Месторасположение региона, в котором османы основали свое государство, граничившего с последней из старых империй, Византией, давало реальные преимущества. Обширные территории Византийской империи – Константинополь, Фессалоники, Морея, Трапезунд – делали ее стратегически слабой. Междоусобные распри внутри и между византийскими династиями Палеологов и Кантакузинов, неспособность Византии привлечь помощь из Европы, поддерживавшей совершенно иную христианскую традицию, сделали эту империю уязвимой для активной нации, которая непреклонно оспаривала право на ее существование. Османы умели извлекать выгоду из слабости окружающих государств, а после падения независимого Сербского княжества в 1389 году немногие из них оспаривали господство османов над регионом. Более того, османские вторжения на Балканы не были нежелательны для местного населения, которое новый режим освободил от тяжелых повинностей, наложенных феодальными властителями. В Малой Азии тем не менее была реальная альтернатива османскому сюзеренитету, и там, в годы после победы при Анкаре, покровительство Тамерлана позволило малоазийским эмиратам отстоять самостоятельность. Некоторое время османы едва ли были даже первыми среди равных, но географическая разобщенность эмиратов и отсутствие общих интересов, помимо неприязни к османам, помешали появлению устойчивого сопротивления османской экспансии.
Передышка, которую османская гражданская война дала венецианцам, византийцам и другим заинтересованным сторонам в регионе, закончилась, когда султан Мурад II консолидировал свое государство. У Венеции были серьезные основания опасаться нападений на приморские территории со стороны возрожденного Османского государства, и она боролась за выживание своих колоний. Византийскому деспотату в Морее угрожал латинский барон Карло Токко, османский вассал, чьи земли лежали на северо-западе Пелопоннеса. Фессалоники, находившиеся в османской осаде с 1422 года, были переданы Венеции деспотом Андроником в следующем году на том условии, что будут уважаться православные обычаи города. Фессалоники были важным центром торговли и сообщения, но какие бы надежды ни питала Венеция по поводу обладания ими, османская блокада мешала их осуществлению. Город было трудно снабжать продовольствием, а захват лег бы тяжким бременем на финансы Венеции. Несколько раз Венеция угрожала предъявить претендента на османский трон, но доказательства о происхождении такого претендента от султана Баязида были во всех отношениях слабее, чем у обладателей имени Мустафа – «Лже» и «Младшего». Один претендент, «турок по имени Измаил», которого венецианцы держали на острове Эвбея (Негропонт), предназначался в качестве вождя восстания против Мурада в 1424 году, чтобы отвлечь его от блокады их новой территории. Византийцы также не могли повлиять на ситуацию: в 1423 году Иоанн VIII Палеолог, назначенный соправителем, дабы разделить государственное бремя со своим больным отцом Мануилом II, отправился из Константинополя искать помощи на Западе, но в очередной раз безрезультатно. Тем не менее в 1424 году Мануил выиграл некоторую передышку, заключив с Мурадом соглашение, по которому Византия была вынуждена платить дань, а также отдать некоторые территории на Черном море.
Будучи не в состоянии договориться с османами, империя предпринимала попытки установить отношения с Венгрией, предлагая поддержку, если Венгрия вторгнется в османские земли. Предвидя возможность нового антиосманского союза, в 1425 и 1426 годах соответственно, Мурад атаковал вассальные государства Сербию и Валахию, поставив крест на любых надеждах Венеции на помощь от этих государств. На следующий год после смерти Стефана Лазаревича король Венгрии Сигизмунд расстроил планы османов, захватив стратегически важную крепость Белград, расположенную при слиянии рек Дуная и Савы. Мурад захватил мощную крепость Голубея, также на Дунае, но на некотором расстоянии к востоку. Владение этими новыми приобретениями было закреплено в венгерско-османском соглашении 1428 года. Стефан Лазаревич был надежным османским вассалом в течение 25 лет, его смерть как никогда ранее приблизила друг к другу заставы на венгерских и османских границах.
Хотя война между Венецией и османами не была официально объявлена до 1429 года, отношения между ними ухудшались с тех самых пор, как венецианцы приняли от византийцев Фессалоники. Только когда город сдался в 1430 году, Мурад согласился заключить с Венецией соглашение. Захватив Фессалоники, Мурад удержал свои войска от массовых грабежей и быстро вывел их из города. Бывшие его жители были переселены, включая тех, кто бежал еще на ранней стадии осады. Было приказано восстановить разрушенное, а церковное имущество было возвращено его владельцам; только две церкви были превращены в мечети – знак того, что мусульманское население в то время было немногочисленным и, видимо, состояло только из солдат гарнизона. Через два года Мурад вернулся, на этот раз забрав некоторые христианские религиозные строения и казну города, с намерением содействовать его превращению в исламский центр.
Борьба за власть на Балканах между османами, Венецией и Венгрией была основной заботой султана после падения Фессалоник. Еще до истечения срока венгерско-османского договора 1428 года, в 1431 году, Мурад выдвинулся, чтобы противостоять претензиям Венеции в Албании. Османские войска были приглашены в Албанию в 80-е годы XIV века во время правления его тезки Мурада I, с тем чтобы помочь одному из местных властителей против сербского соседа; их успехи в противодействии замыслам последнего привели к установлению османского влияния, которое возрастало, как во время правления Баязида, так и впоследствии при Мехмеде I. Албанией управляло множество правителей с противоречащими друг другу интересами, и ее включение в состав Османского государства было поэтому процессом постепенным. Кадастровый осмотр, проведенный там в 1432 году, еще более усилил контроль османов, сопротивление которому вскоре было подавлено. Ненадежная верность Сербии после смерти Стефана Лазаревича в 1427 году спровоцировала османские нападения в середине 30-х годов XV века, и вассальная зависимость Сербии от османов, а не от Венгрии, была закреплена посредством выплаты дани сербским деспотом Георгием Бранковичем и выдачи его дочери Мары замуж за Мурада.
Увидев в том, что османы так глубоко увязли на Балканах, благоприятное стечение обстоятельств, эмир Карамана Ибрагим-бей напал на их территории в Малой Азии. Несколько лет борьбы принесли Мураду некоторые завоевания на западе государства Карамнидов, но в этот момент сил у империи на контроль над новыми землями не хватало. У Карамана было два существенных преимущества: его географическое положение в качестве буфера между османами и мамлюками означало, что он мог использовать одних против других, в то время как его, в основном, кочевое население умело отражало нападения османов в гористой местности. Этот регион, как и Балканы, оказался местом продолжительной борьбы за власть.
В 1435 году наследник Тамерлана Шахрух послал церемониальные халаты правителям различных малоазийских государств, включая османского султана, имея в виду, что они будут носить их как знак вассальной преданности. Мурад не мог отказаться, но несомненно не надевал подарок по официальным поводам. Он ответил своей собственной пропагандистской кампанией, чеканя монету с печатью племени из центральноазиатских тюрков-огузов, от которых османский дом вел свое происхождение, что было признано туркоманским эмиратом Дулкадир на востоке центральной Малой Азии и среди Каракоюнлу, которые в отличие от Караманидов и Аккоюнлу были сторонниками османов. Тем не менее как и другие анти-османские династии со стратегическими интересами в Малой Азии, Шахрух не придавал значения этим предполагаемым связям с племенем огузов, относясь к османам как к выскочкам.
Баланс сил на Балканах занимал Мурада до конца его правления. Османская политика стала более жесткой, направленной на охрану пограничной линии Дунай – Сава к западу от Белграда, от Венгрии с помощью включения давнего вассала Сербии в состав Османского государства. Сербский деспот Георгий Бранкович был тестем Мурада, с которым считались мало по сравнению с политической необходимостью. За карательным нашествием через вассальное государство османов, Валахию, в венгерскую провинцию Трансильвания последовали в 1438 и 1439 годах кампании против Сербии, в ходе которых недавно построенная на Дунае крепость Смедерево покорилась Мураду. Его следующая цель, ключевая твердыня Белград, не сдалась после шестимесячной осады в 1440 году.
Иоанн VIII Палеолог правил в Константинополе со времени смерти Мануила II в 1425 году. В 1437 году он добился нового рассмотрения сложного вопроса унии церквей на Ферраро-Флорентийском соборе, который был собран для этой цели. Зачастую веками длящийся раскол между католиками и православными служил оправданием проволочек со стороны христианских государств Европы, когда Византия умоляла о помощи. Поскольку восстановление османского государства после повторного захвата Фессалоник не только подвергло опасности его владения, но представляло непосредственную угрозу для Венеции и Венгрии, Иоанн надеялся, что католики благосклонно отнесутся к его предложению о союзе. Среди наиболее острых теологических разногласий, разделявших две церкви, было применение опресноков или квасного хлеба при причащении, латинское учение о чистилище, неприемлемое для православных, и вопрос верховной власти папы. В июле 1439 года, спустя полтора года периодических дебатов и перемещения собора во Флоренцию, после того как Феррару поразила эпидемия чумы, 375-летнему расколу был положен конец подписанием документа об унии.
На первых порах оказалось, что Иоанн просчитался. Союз с Римом обрушил на его голову гнев православной церкви и большинства населения Византии. И даже спровоцировал совместное нападение на Константинополь брата Димитрия, деспота Месембрии (Несебр), расположенной на западном побережье Черного моря, и турецких сил. Вдали от дома киевский митрополит Исидор, которого папа сделал кардиналом, по прибытии в Москву был низложен и арестован и был вынужден бежать в Италию. Патриархи Александрии, Иерусалима и Антиохии (Антакья) не признали унию. Православный мир раскололся, но как и задумал Иоанн, его смелые действия приносили свои плоды, поскольку папа собирал силы для обещанного крестового похода против османов.
В Европе была надежда, что на этот раз объединенные усилия ждет успех. Возможные выгоды были существенными: Венгрия получила бы территорию на Балканах, исчезла бы угроза Венеции на Эгейском и Адриатическом морях, а Константинополь продолжал бы существовать – и предзнаменования были благоприятными. Талантливый военачальник Янош Хуньяди, воевода Трансильвании, отстоял свои позиции во время двух османских атак через Валахию, прежде чем был загнан османами обратно на Златица к востоку от Софии зимой 1443–1444 года. Поднимающееся в северной Албании антиосманское восстание «Скандербега», Искендер-бея – выходца из местной христианской семьи полководцев, привезенного к мусульманскому двору Мурада – и расширение византийского влияния в центральной Греции братом Иоанна VIII Константином, деспотом Морей, базировавшегося в Мистре, были дополнительными симптомами. Особым успехом Константина было восстановление к весне 1444 года стены Гексамилион, перекрывавшей Коринфский перешеек, разрушенной в 1431 году атакующими турками. Окончание христианского раскола обратило внимание османов на весьма вероятную возможность того, что сокрушительный удар, нанесенный их государству Тамерланом, может повториться объединенными усилиями антиосманских государств Запада.
Тем не менее интересы центрально европейских держав – Венгрии и Польши, теперь объединенных под властью молодого короля Владислава III, а также Сербии под управлением деспота Георгия Бранковича – оказались несовместимы с интересами латинских государств Средиземноморья. Что касается латинян, то хотя крестоносный идеал был их постоянной навязчивой идеей, их позиция теперь несколько отличалась от позиции 1396 года, когда настойчивые требования французов взять на себя командование более опытными войсками короля Венгрии Сигизмунда послужили одной из причин разгрома при Никополе. Тяжелое и неорганизованное отступление союзной венгерской армии в ходе кампании 1443–1444 годов было еще одним горьким уроком, который заставил центральноевропейских соседей османов засомневаться в том, могут ли они в действительности извлечь выгоду, или же баланс сил, о котором они договорились, больше не в их пользу. Посредством контактов, которым содействовала сербская жена султана Мара, лидеры – король Венгрии и Польши Владислав, трансильванский воевода Янош Хуньяди и сербский Георгий Бранкович – отправили посольство к Мураду в Эдирне, где 12 июня 1444 года было заключено перемирие сроком на десять лет. Примерно в это же время Мурад вызвал своего сына Мехмеда в Эдирне из западно-малоазийского города Манисы, бывшей столицы эмирата Сарухан. Потрясенные военачальники Мурада предупреждали его об опасности, исходящей от крестоносного венецианского флота, который в середине июля отплыл от Пелопоннеса, но, к всеобщему изумлению, султан объявил, что отказывается от трона. Отречение не имело прецедентов в османской истории. Мотивы Мурада II для принятия такого решения в возрасте всего лишь 41 года – повод для догадок. В последние месяцы он много горевал – например, из-за смерти своего старшего и самого любимого сына Алаеддина, около могилы которого в Бурсе и приказал себя похоронить. Возможно, после энергичного правления в течение более 20 лет он попросту устал.
Естественно, уход Мурада и восхождение на трон его двенадцатилетнего сына было расценено Западом как признак слабости, которой они могут воспользоваться. Когда Эдирнское перемирие подтверждалось Владиславом, Хуньяди и Бранковичем в Венгрии в августе, Владислав и Хуньяди дали ложные клятвы, заранее получив отпущение грехов от папского легата в Богемии, Венгрии и Польше кардинала Джулиано Цезарини. Между 18 и 22 сентября 1444 года крестоносная венгерская армия переправилась через Дунай, направляясь на восток, и вскоре достигла Варны на побережье Черного моря. Только Георгий Бранкович отказался участвовать в наступлении – Мурад обещал Сербии независимость и возвращение крепостей Смедерево и Голубеч на Дунае. В Эдирне, находящейся в двухнедельном переходе от Варны, ощутимо чувствовался страх. Прошло меньше года с тех пор, как венгерская армия наступала через Балканы и ведущие к городу долины рек. Для защиты города были выкопаны рвы, а его стены починены. Паника усугублялась дервишами из отшельнической секты иранского происхождения Хуруфы, чье учение имело много общего с постулатами еретика шейха Бедреддина; общественные здания и частные дома были разрушены в ходе беспорядков, сопровождавших подавление их выступлений. В дополнение к беспорядкам византийский император Иоанн VIII освободил еще одного претендента на османский трон. Не найдя поддержки во Фракии, тот повернул на север к «Дикому лесу» южнее дельты Дуная, туда, где проходило восстание шейха Бедреддина против султана Мехмеда I; против самозванца из Эдирне были посланы войска, но он бежал обратно, по направлению к Константинополю.
Когда Мурад назначил Мехмеда султаном на свое место, он приказал своему верному визирю Чандарли Халил-паше оставаться с ним в Эдирне. Члены семьи Чандарли были первыми министрами османского дома практически непрерывно со времен правления Мурада I; эти близкие отношения пережили и поражение от Тимуридов и жестокую гражданскую войну, а Чандарли Халил сменил своего отца Чандарли Ибрахим-пашу в середине 30-х годов XV века. Чандарли Халил полагал, что Мехмед еще слишком молод, а его окружение ненадежно. Такие люди как Заганос Мехмед-паша, Саруджа-паша и талантливый военачальник Шихабеддин Шахин-паша были «профессиональными османами». В отличие от пограничных вождей, таких как Эвреносогуллары или старинные мусульманские семьи Малой Азии, такие как Чандарли, они принадлежали к новой породе рожденных в христианских семьях государственных мужей, которые обрели положение в правление Мурада, будь то византийские перебежчики или молодые новобранцы (дань). Восстание шейха Бедреддина показало неустойчивость османского государства и послужило доказательством того, что вера, которую оно исповедует, должна стать его краеугольным камнем. Поэтому султан увеличил дань юношами-новобранцами в качестве надежного источника преданной военной силы, чьи обращенные рекруты исповедовали религию его династии и его двора.
Высокое положение Чандарли Халил-паши вызывало сильную зависть клики, окружавшей Мехмеда, который столкнулся с правлением отличным по характеру от того стабильного баланса сил в Малой Азии и Румелии, к которому его заботливо готовили Мурад и его советники. Чандарли Халил боялся разрешить полному энтузиазма молодому султану возглавить армию против крестоносцев и, будучи обеспокоенным гражданским неповиновением в Эдирне, понял, что выбор у него только один – вернуть Мурада, пребывавшего в Манисе. Отправившись из Малой Азии в Эдирне, Мурад не стал входить в город, а повел свою армию прямо на передовые позиции венгров. Великая битва при Варне на румелийском побережье Черного моря произошла 10 ноября. Флот, доставлявший крестоносцев с Запада, еще не достиг Константинополя, и хотя из-за этого армии короля Венгрии и Польши Владислава и трансильванского воеводы Хуньяди вынуждены были сражаться в одиночку, поначалу они побеждали. Тем не менее к вечеру король Владислав был убит, а его войска бежали. Положительный исход этого сражения был достигнут в равной степени благодаря той эффективности, с которой командующий Мехмеда Шихабеддин Шахин-паша перекрыл балканские перевалы, ведущие в долину Фракии, и полководческому искусству Мурада. Правда, это был еще не конец: на следующий год флот крестоносцев атаковал османские позиции на Дунае в союзе с Хуньяди и валашским воеводой, но снова Шихабеддин Шахин-паша успешно командовал защитой.
В течение первых месяцев своего правления Мехмед доказал свою независимость от отца, предприняв беспрецедентный шаг по девальвации османской денежной единицы, серебряного аспера, более чем на десять процентов. Таким образом можно было чеканить большее количество монет, чтобы покрыть постоянно растущие расходы на управление османской территорией; но в то время как обесцененные деньги принесли доход казне, это имело нежелательные последствия, ухудшив жизнь находящихся на жаловании государственных служащих, которые получали то же число монет, что и раньше, но с более низким содержанием серебра и поэтому более низкого достоинства в реальном исчислении. После битвы при Варне Мурад снова удалился в Манису, но его вторая попытка отойти от дел продолжалась немногим дольше первой. Громче всех из тех, кого затронула девальвация, возмущались янычары, и в 1446 году в Эдирне вспыхнул бунт, спровоцированный, видимо, вмешательством Мехмеда в денежную систему. Чандарли Халил-паша снова вызвал Мурада обратно во Фракию. Шихабедцин Шахин-паша стал козлом отпущения и объектом гнева янычар и укрывался во дворце, пока старый султан не приказал схватить смутьянов. После этого недвусмысленного покушения на его власть Мурад пообещал повысить жалование янычарам в качестве компенсации за нужду, которую они пережили.
Степень независимости, которой наслаждался Мехмед, в то время как его отец был в Манисе, в равной степени интересовала комментаторов того времени и современных историков. Некоторые, в государстве и за его пределами, считали, что Мехмед правит Румелией, а его отец является султаном Малой Азии. Караманиды опасались, что Мехмед нарушит соглашение, которое они с Мурадом заключили в 1444 году, поскольку все постановления предыдущего султана подлежали обновлению при вступлении на трон нового. Хотя де-юре Мехмед был султаном и старался добиться независимости от отца с помощью таких проектов как завоевание Константинополя при первой возможности или девальвация денежной единицы, его реальная власть была ограничена благодаря тому, что Чандарли Халил-паша успешно обуздывал дикие фантазии молодого султана и его клики, хотя и ценой ухудшения отношений. Возможно даже, Чандарли Халил подстрекал к бунту янычар, с тем, чтобы иметь основания вызвать Мурада; и в самом деле, смещение Мехмеда было одним из требований, которые выкрикивали воины. Когда янычары пригрозили поддержать османского претендента, освобожденного Иоанном VIII в 1444 году, который к тому времени вернулся в Константинополь, демонстрация явно стала выходить из-под контроля.
Мехмед отнесся к своему отстранению от власти и вынужденному возвращению в Манису без особой радости. В качестве жеста открытого неповиновения отцу он стал чеканить монету со своим именем на монетном дворе в западной Малой Азии и, нарушив перемирие, напал на венецианские заставы на Эгейском море. Чандарли Халил остался в Эдирне с Мурадом, а в Малой Азии не оказалось в равной степени выдающегося пожилого вельможи, чтобы присматривать за действиями Мехмеда.
Султан Мурад занялся неотложным делом охраны границ. Брат императора Константин, деспот Морей, недавно расширил территории за счет местных латинских властителей и османов. Мурад повел свою армию к югу и со своим военачальником Тураханом прорвал и разрушил, по общему мнению неприступные стены Гексамилиона, еще недавно восстановленные Константином. После того он попытался снова завоевать Албанию, где Скандербег поднимал восстание против османского владычества. Самая значительная победа османов произошла в 1448 году, когда они наголову разбили армию, состоящую преимущественно из венгров и валахов, под командованием неутомимого Яноша Хуньяди во второй битве на Косовом поле, где валашские союзники Хуньяди дезертировали, а сам он бежал.
Император Иоанн VIII умер в 1448 году, освободив трон для своего брата Константина, который правил с 1449 года как Константин XI. В 1451 году умер Мурад, и его сын принял всю полноту власти над султанатом как Мехмед II. Он и его советники теперь стремились к великой победе, чтобы вновь подтвердить свои могущество и независимость.