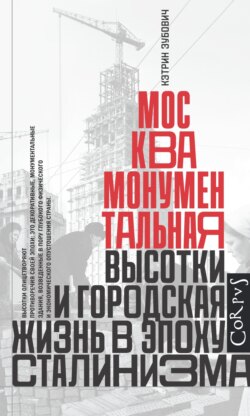Читать книгу Москва монументальная. Высотки и городская жизнь в эпоху сталинизма - Кэтрин Зубович - Страница 5
Глава 1
Красная Москва
Старое и новое
ОглавлениеСталкиваясь с тем, что материальная культура порой оказывалась очень упрямой и прочной, большевики далеко не всегда огорчались. Они довольно рано поняли, что места, имевшие символическое значение в царской России и в Московской Руси, можно поставить себе на службу и иными способами, помимо сугубо практических. Вернув столицу в Москву, вожди большевиков соединили свое видение будущего с историческим нарративом многовекового российского прошлого, тем самым обеспечив себе легитимность и престиж, которых добиться иными средствами, скорее всего, не смогли бы. Обосновавшись в феврале 1918 года в Петрограде, новая власть осознала, что столица должна находиться ближе к центру страны и быть более защищенной, после чего тайно постановили перенести свое правительство в Москву. Уже в марте в новоявленную столицу прибыли два поезда с партийно-государственным руководством и членами их семей. Многим из них вскоре предстояло обосноваться прямо в Кремле, а другим – поселиться в московских роскошных гостиницах[43].
Первые празднества, устроенные большевиками, помогли им сгладить переезд в Москву: они включили старые городские пространства в пантеон революционных святынь. Осенью 1918 года, когда отмечалась первая годовщина Октябрьской революции, Москва запламенела красными гирляндами и салютами. Официальные церемонии состоялись на Красной площади, Ленин присутствовал на церемонии закладки камня на Театральной площади, где в будущем должен был быть установлен памятник Карлу Марксу[44]. Если новые памятники и новые названия побуждали москвичей ассоциировать знакомые места с новой властью, то более старые символы все же можно было использовать – пусть и выборочно – для изображения плавного и предрешенного перехода от прошлого к настоящему. В пору Гражданской войны большевистская пропаганда все чаще говорила об историческом прогрессе[45]. Как пишет Ричард Стайтс, те первые праздники помогали превращать Москву в «священный центр русской революции»[46]. Чтобы достичь своей цели, власти спешили не только наполнить старые городские пространства новым содержанием, но и приспособить к новым условиям или переосмыслить уже существующие объекты и символы.
Большевики в Москве обрели столицу, которая была весьма запущенным городом и отчаянно нуждалась в модернизации, хоть и изобиловала почтенными памятниками старины и ценными символами. Пока Сидоров всматривался в Москву 1920-х годов, между разными группами архитекторов и проектировщиков кипели бурные споры о том, как лучше всего изменить облик столицы. Масштабные градостроительные работы требовали высокого уровня координации и централизации, каковой в 1920-е годы еще не был достигнут. Зато в первое десятилетие после 1917 года буйно расцветали утопические фантазии, с которыми выступали и одиночки, и коллективы, приверженцы самых разных подходов – от академического до антиакадемического, от классики до модернизма. Моисей Гинзбург и другие члены Объединения современных архитекторов (ОСА) экспериментировали с домами-коммунами[47]. Эль (Лазарь) Лисицкий спроектировал серию горизонтальных небоскребов, которые предлагал построить на Бульварном кольце[48]. В архитектурных конкурсах и спорах того раннего советского периода принимали участие и некоторые зарубежные модернисты. Принятие первого пятилетнего плана в 1928 году открыло новые возможности для иностранных специалистов, желавших потрудиться в СССР. Ле Корбюзье, Ханнес Майер, Эрнст Май и Альберт Кан – все они в конце 1920-х годов приезжали работать в Москву, когда город еще оставался важным центром международного авангарда. А то, что утверждение первой пятилетки, нацеленной на быструю коллективизацию и индустриализацию страны, совпало по времени с крахом мировой экономики, пошло Советскому Союзу на пользу.
С приходом 1930-х годов советское руководство усилило контроль во всех областях жизни. Реагируя на «отсутствие продуманного планирования в развертывании городского хозяйства, согласованного с задачами промышленного строительства и обслуживания быстро возрастающих потребностей трудящихся масс», в декабре 1930 года Политбюро учредило специальную комиссию, работа которой со временем вылилась в составление Генерального плана реконструкции Москвы[49]. Чтобы обеспечить строгий контроль за принятием решений, была восстановлена территориальная автономия Москвы: в феврале 1931 года город Москва был официально отделен от Московской области. Отныне Москва имела собственные органы исполнительной власти, административный аппарат и бюджетные организации, подчинявшиеся напрямую органам управления РСФСР и СССР. Но хотя автономия самого города была теперь закреплена созданием учреждений, партийные органы Московской области и Москвы оставались тесно связанными вплоть до 1949 года. Люди, стоявшие во главе московских партийных организаций, играли ведущие роли в перепланировке и перестройке города. В 1930 году Лазарь Каганович был назначен одновременно первым секретарем Московского областного комитета (обкома) и Московского городского комитета (горкома) партии, и эти посты он занимал до 1935 года, пока они не перешли к его протеже – Никите Хрущеву.
В 1931 году Центральный комитет ВКП(б) продолжил работу, начатую годом ранее специальной комиссией при Политбюро, и на пленуме в июне принял резолюцию под названием «О московском городском хозяйстве и о развитии городского хозяйства СССР». Опираясь на составленный Кагановичем отчет, эта резолюция наметила новый путь: от простого восстановления в сфере городского хозяйства к социалистической реконструкции Москвы как единого целого[50]. Каганович планировал построить жилье для полумиллиона человек и решить серьезные проблемы с поставками в Москву топлива и воды[51]. Каганович также предлагал расширить разработку Подмосковного угольного бассейна («Мы не можем все время выезжать на Донецком бассейне», – говорил он) и заасфальтировать булыжные мостовые Москвы[52]. «Ясно совершенно, – заявлял глава Московского горкома партии, – что Москву и ряд других городов мы можем и должны строить по-культурному. Это вопрос не роскоши. Асфальт, брусчатка, клинкер – это вопрос гигиены и вопрос сохранения автотранспорта»[53]. Хотя Генеральный план реконструкции Москвы был утвержден только в 1935 году, июньская резолюция, принятая четырьмя годами ранее, помогла продвинуть многие крупные строительные проекты, которые легли в основу позднейшего плана. К их числу относились канал Москва – Волга[54] и московское метро[55]. Центральным звеном в проекте городской реконструкции должно было стать новое здание – Дворец Советов. Эта «пролетарская вышка» мыслилась «как центр общественно-политической жизни страны социализма»[56].
Идея построить новое административное здание для проведения съездов и собраний в столице была впервые выдвинута еще в 1922 году, но всерьез к проектированию Дворца Советов приступили только в конце 1920-х годов[57][58]. Новый дворец призван был символизировать победу большевиков в Октябрьской революции 1917 года и их успехи в выполнении первого пятилетнего плана, как раз близившегося к завершению.
В 1931 году был объявлен открытый конкурс проектов. В инструкции, выпущенной к сведению участников, сообщалось, что идея строительства дворца была высказана еще в 1922 году, «но только в настоящее время… когда приближается осуществление пятилетнего плана… налицо все необходимые предпосылки для… создания в городе Москве Дворца Советов СССР»[59]. Благодаря успешному завершению первой пятилетки действительно сложились более благоприятные условия для осуществления масштабных градостроительных проектов. К началу 1930-х годов в распоряжении советских проектировщиков появилось намного больше материалов, оборудования и технологий, с которыми советских специалистов познакомили приглашенные немецкие и американские профессионалы. Несмотря на появление возможностей для ведения масштабного строительства, вставал и новый вопрос: что из окружающей застройки сохранить, а что – ликвидировать? В 1930-е годы за обсуждениями градостроительных планов просматривались два противоположных стремления: жажда разрушения и инстинкт сохранения.
Одновременно для нового дворца было найдено самое подходящее место – там, где стоял храм Христа Спасителя в русско-византийском стиле. Этот собор, запечатленный на фотоснимке (илл. 1.8) для альбома Сидорова с видами Москвы 1920-х годов, строился в память о победе России над Наполеоном в 1812 году и был завершен в 1883 году[60]. На это место выбор пал не сразу, но большевикам оно показалось наиболее подходящим. Если в других местах потребовалось бы сносить ценные жилые или административные здания, то разрушение стоявшего в центре города и утратившего свое функциональное значение храма не только наносило символический удар по царизму и православию, но и – по расчетам большевиков – обходилось намного дешевле[61].
Илл. 1.8. Вид с колокольни Ивана Великого на запад. На дальнем плане – храм Христа Спасителя. (Alexys Α. Sidorow. Moskau…)
Пятого декабря 1931 года, за несколько лет до утверждения окончательного проекта дворца, храм Христа Спасителя был взорван и освободившуюся площадку принялись расчищать под будущее строительство. Перед разрушением с фасада собора демонтировали большие скульптурные фризы и медальоны. Специалисты, руководившие проектированием дворца, сочли, что эти элементы декора представляют художественную ценность и передали их в Третьяковскую галерею – к ужасу ее сотрудников. Лишнего пространства для хранения таких экспонатов у галереи не было, их пришлось просто положить под открытым небом. Как говорилось в 1932 году в письме одного хранителя, хотя эти скульптуры, снятые со стен собора, и являлись «лучшими образцами русской монументальной скульптуры XIX века», теперь они просто лежали, «загромоздив весь двор… Кроме того, такая свалка вызывает нежелательное впечатление у многочисленных русских и иностранных посетителей галереи»[62][63]. Власти отозвались на эти жалобы тем, что выделили средства на возведение навеса для защиты этих произведений искусства от вредного воздействия атмосферных осадков.
Если некоторые причастные к подготовке строительства дворца стремились сохранить исторические ценности, то другие, напротив, шли на поводу у страсти к разрушению. После разрушения собора Вячеслав Молотов и Авель Енукидзе получили доклад от ликующего начальника «Взрывпрома»[64]. Он сообщал, что взрыв прошел по плану, и всячески подчеркивал важность взрывных работ для продолжения дела революции, рапортовал, что, несмотря на сильный мороз и другие сложные условия работы, «с героически проявленным энтузиазмом и большевистской настойчивостью» взрывники разрушили собор всего за месяц – вместо полутора лет, которые ушли бы (по некоторым оценкам) на разборку здания вручную[65]. Скорость, с какой удалось уничтожить здание, явно вселила в некоторых лихорадочное возбуждение, однако за этим разрушением не последовало столь же быстрого принятия какого-либо плана будущего строительства. Советское руководство еще в 1931 году решило, что памятники старины можно быстро и бесцеремонно ликвидировать, чтобы расчищать место для новых сооружений, но внятное представление о том, как должен выглядеть Дворец Советов, – и вообще о будущем облике Красной Москвы – в ту пору еще не сформировалось.
Советский писатель Юрий Олеша в рассказе «День», написанном вскоре после разрушения храма Христа Спасителя, размышлял о сложных взаимоотношениях между историей и революцией в Советском Союзе. «Можно было бы весь храм целиком перенести в музей», – говорит один герой этого рассказа. «К черту старье!» – возражает ему юноша в синей майке. Потом юноша отказывается от своего мнения, одобряет старика. «Но вы же сказали, что все старье нужно уничтожить», – напоминает ему старик. «Кроме того, что имеет историческое значение», – уточняет в ответ юноша[66].
По мере того как начиналась социалистическая реконструкция Москвы и стартовал конкурс на проект Дворца Советов, московские архитекторы и высокопоставленные функционеры приходили к сходному заключению об исторической ценности памятников старины. Большевики, хоть и иконоборцы, одновременно были и ярыми иконофилами. Они были едва ли не самыми дерзкими кумиросозидателями и самыми смелыми градостроителями XX века. В 1930-е годы на смену старым в тонах сепии видам дряхлеющего периферийного города (в духе фотоснимков из альбома Сидорова) придут новые сочные картины яркого, счастливого и монументального будущего.
43
Merridale. Red Fortress, 282–283.
44
Stites. Revolutionary Dreams, 91–92.
45
von Geldern. Putting the Masses in Mass Culture: Bolshevik Festivals, 1918–1920, 123–144.
46
Stite. Revolutionary Dreams, 92.
47
Об экспериментах с городскими коммунами, которые устраивали в 1920-е гг. архитекторы и другие деятели, см.: Andy Willimott. Living the Revolution.
48
А. Иконников. Архитектура Москвы. XX век. М., 1984. С. 48–49.
49
О Московском коммунальном хозяйстве. Постановление МК ВКП(б) от 28 декабря 1930 г. // Правда. 1930. 10 января. С. 2.
50
О московском городском хозяйстве и о развитии городского хозяйства СССР. Доклад тов. Кагановича Л. М. на июньском пленуме ЦК ВКП(б) // Правда. 1931. 4 июля. С. 6; Kaganovich. Socialist Reconstruction of Moscow and Other Cities in the USSR.
51
При всем своем размахе, эти планы строительства не могли угнаться за быстрым ростом численности городского населения. Как отмечает Дэвид Л. Хоффман, только в 1931 и 1932 годах в Москве появился еще один миллион новых жителей (D. Hoffman, Peasant Metropolis, 7).
52
Л. М. Каганович. За социалистическую реконструкцию Москвы и городов СССР. М., 1931. С. 24.
53
Там же. С. 33.
54
С 1947 года называется каналом им. Москвы. (Прим. пер.)
55
О московском метро см.: Jenks. A Metro on the Mount; O’Mahony. Archaeological Fantasies. О канале Москва – Волга см.: Ruder. Building Stalinism.
56
Генеральная программа советской архитектуры // Советское искусство. 1931. 23 июля. С. 2.
57
ГА РФ. Ф. R–3316. Оп. 64. Д. 562. Л. 1–2.
58
Впервые предложение о строительстве этого сооружения прозвучало в 1922 году на Первом Всесоюзном съезде Советов. Проектировка началась с того момента, когда Авель Енукидзе, Климент Ворошилов и Константин Уханов встретились в январе 1928 года для обсуждения высказанной ранее идеи. Им представлялось будущее здание с просторным залом для съездов и собраний, где помещалось бы до 20 тысяч человек, с двумя залами поменьше – на 5 000 и на 1500 человек каждый, с четырьмя залами, рассчитанными на несколько сотен человек, со столовой, способной накормить ю тысяч человек в день, и гостиничными номерами для 5 000 человек. По их оценкам, такое здание можно было бы построить примерно за пять лет.
59
ГА РФ. Ф. R-3316. Оп. 64. Д. 563. Л. 188.
60
О соборе и его судьбе см.: Е. И. Кириченко. Храм Христа Спасителя в Москве: история проектирования и создания собора. Страницы жизни и гибели, 1813–1931. М., 1992.
61
Среди других площадок для строительства, предлагавшихся в 1928 году, были Арбатский рынок и Болото – низменность на Софийской набережной напротив Кремля. С 1928-го по 1931 год изучалось третье потенциальное место – уже плотно застроенный участок, примыкающий к Дому Союзов, между Охотным Рядом, Тверской, Георгиевским переулком и Большой Дмитровкой. К 1930 году обследование этого участка площадью почти 28 тысяч квадратных метров было завершено. В докладе, представленном в мае 1930 года, подтверждалось, что использование этого третьего участка потребует переселения 1500 жителей, а также разрушения разных нежилых зданий, стоящих рядом, в том числе гостиницы, приносящей государству ежегодную прибыль в размере 550 тысяч рублей, и общая стоимость построек, стоящих на территории обследованного участка, оценивалась в 3054240 рублей. Окончательное решение строить Дворец Советов на месте храма Христа Спасителя было принято в июне 1931 года (ГА РФ. Ф. R-3316. Оп. 64. Д. 562. Л. 1–3, 23,51).
62
По крайней мере до 2015 года эти скульптурные фрагменты хранились на территории Донского монастыря в Москве, где ранее размещался музей Академии архитектуры СССР.
63
Там же. Ф. R-3316. Оп. 25. Д. 625. Л. 5.
64
«Взрывпром» – «Всесоюзный государственный трест буровзрывных работ».
65
Там же. Ф. R-3316. Оп. 64. Д. 564. Л. 148.
66
Цитируется по: Л. Левин. Тема одинокой судьбы. О творчестве Юрия Олеши // Литературная газета. 1933. 17 июня. С. 3.