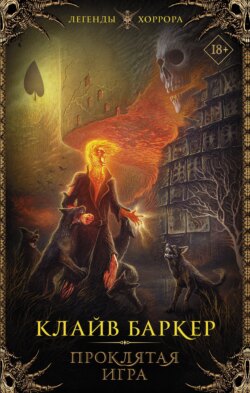Читать книгу Проклятая игра - Клайв Баркер - Страница 9
Часть вторая
Приют
I. Провидение
6
ОглавлениеПрошло тринадцать дней, но никаких известий от Тоя или Сомервейла не было. Не то чтобы Марти их ждал. Он упустил свой второй шанс, почти сам срежессировал последние минуты, отказавшись говорить о Макнамаре. Тем самым он надеялся пресечь любые ложные надежды. Не преуспел. Как он ни старался забыть разговор с Тоем, ничего не получалось. Эта встреча вывела его из равновесия, расшатанные нервы были в той же степени мучительны, как и причина случившегося. Он думал, что уже освоил искусство безразличия тем же образом, каким дети познают, что кипяток обжигает: посредством болезненного опыта.
В таковом не было недостатка. Первые двенадцать месяцев заключения он боролся против всего и всех, с кем сталкивался. В тот год он не завоевал ни друзей, ни хоть какой-нибудь благосклонности системы; все, чем обзавелся, – синяки и сроки в карцере. На второй год, осознав поражение, он ушел со своей личной войной в подполье; занялся силовыми тренировками и боксом, сосредоточился на создании и поддержании тела, которое послужит, когда придет время возмездия. Но в середине третьего года вмешалось одиночество: боль, которую не могло скрыть самоистязание (мышцы, доведенные до болевого порога и выше, день за днем). В тот год он заключил перемирие с самим собой и с тюрьмой. Это был нелегкий мир, но с тех пор все стало налаживаться. Он даже начал чувствовать себя как дома в гулких коридорах, камере и сжимающемся анклаве своей головы, где самые приятные переживания были теперь далеким воспоминанием.
Четвертый год принес новые ужасы. В тот год ему исполнилось двадцать девять лет; на горизонте маячил тридцатник, и он хорошо помнил, как его молодое «я», которому предстояло много времени потратить впустую, отвергало мужчин его возраста как безнадежных неудачников. Это было болезненное осознание, и старая клаустрофобия (он оказался в ловушке, но не за решеткой, а внутри собственной жизни) вернулась с большей силой, чем когда-либо, а вместе с ней – новое безрассудство. В тот год у него появились татуировки: алая и синяя молнии на левом предплечье и «США» – на правом. Незадолго до Рождества Чармейн написала ему, что лучше было бы развестись, но он не придал этому значения. Какой в этом прок? Безразличие – лучшее лекарство. Стоит признать поражение, и жизнь превращается в пуховую перину. В свете этой мудрости пятый год был сущим пустяком. У него имелся доступ к наркоте и влияние, которое приходит с тюремным опытом; у него было все, что угодно, кроме свободы, и ее он мог подождать.
А потом появился Той, и как бы Марти ни старался забыть имя этого человека, он поймал себя на том, что снова и снова прокручивает в голове получасовую беседу, изучая каждый обмен репликами в мельчайших деталях, будто искал крупицу пророчества. Конечно, это бесполезное упражнение, но оно не остановило репетиции, и процесс стал по-своему утешительным. Он никому не сказал, даже Фиверу. Это была его тайна: комната, Той, поражение Сомервейла.
На второе воскресенье после встречи с Тоем Чармейн пришла его навестить. Разговор проходил традиционно по-дурацки: как трансатлантический телефонный звонок с секундной задержкой между вопросом и ответом. Гул прочих бесед в помещении им не мешал: нельзя испортить то, что уже испорчено. Теперь от этого никуда не денешься. Он давно прекратил попытки спасти гибнущие отношения. После дежурных расспросов о здоровье родственников и друзей оставалось наблюдать за распадом в мельчайших подробностях.
Он писал ей в первых письмах: «Ты прекрасна, Чармейн. Я думаю о тебе по ночам, ты мне все время снишься».
Но потом ее внешность, казалось, потеряла свою остроту – так или иначе, Марти перестал мечтать о ее лице и теле под собой, – и хотя продолжал притворяться в письмах некоторое время, его любовные сентенции начали звучать фальшиво, и он перестал писать о таких интимных вещах. Сказать ей, что он думает о ее лице, было как-то по-детски; что она могла вообразить себе, кроме того, как он потеет в темноте и играет сам с собой, словно двенадцатилетний пацан? Он такого не хотел.
Может, если вдуматься, это было ошибкой. Возможно, их брак начал разрушаться именно тогда, когда он почувствовал себя нелепо и перестал писать любовные письма. Но разве она тоже не изменилась? Даже сейчас ее глаза смотрели на него с неприкрытым подозрением.
– Флинн передает тебе привет.
– О, хорошо. Ты с ним видишься, да?
– Время от времени.
– Как у него дела?
Чармейн предпочитала смотреть на часы, а не на него, чему он был рад. Это дало возможность изучить ее, не чувствуя себя навязчивым. Когда ее лицо переставало напрягаться, Марти по-прежнему находил ее привлекательной. И все-таки сейчас он, как ему казалось, полностью контролировал свою реакцию на нее. Он мог смотреть на нее – на прозрачные мочки ушей, изгиб шеи – и обозревать совершенно бесстрастно. По крайней мере, этому его научила тюрьма: не желать того, чего не можешь иметь.
– О, с ним все в порядке, – ответила она.
Ему потребовалось несколько секунд, чтобы сориентироваться: о ком она говорит? Ах да, Флинн. Жил-был человек, который никогда не марал рук. Флинн-мудрец, Флинн-проныра.
– Он шлет свои наилучшие пожелания, – сказала она.
– Ты уже сказала, – напомнил он.
Еще одна пауза; с каждым ее приходом разговор становился все более мучительным. Не столько для него, сколько для нее. Казалось, она переживает травму всякий раз, когда выплевывает хоть слово.
– Я снова ходила к адвокатам.
– О, да.
– По-видимому, все идет своим чередом. Они сказали, что бумаги будут готовы в следующем месяце.
– Что мне делать, просто подписать их?
– Ну… он сказал, что нам нужно поговорить о доме и обо всем, что у нас есть.
– Забирай себе.
– Но ведь он наш, не так ли? Я имею в виду, что он принадлежит нам обоим. А когда ты выйдешь, тебе понадобится жилье, мебель и все остальное.
– Ты хочешь продать дом?
Еще одна жалкая пауза, будто Чармейн балансировала на грани того, чтобы сказать что-то гораздо более важное, чем банальности, которые наверняка прозвучат.
– Извини, Марти, – сказала она.
– За что?
Она встряхнула головой. Ее волосы переливались на свету.
– Не знаю, – ответила она.
– Это не твоя вина. Во всем этом нет твоей вины.
– Я просто не могу…
Она замолчала и уставилась на него, внезапно оживившись от сильного испуга – это ведь испуг, верно? – в большей степени, чем за десяток прежних встреч, на протяжении которых они с трудом выдавливали из себя избитые истины, сидя в какой-нибудь холодной комнате. Ее глаза заблестели от подступивших слез.
– Что такое?
Она пристально смотрела на него, готовая разрыдаться.
– Чар… что случилось?
– Все кончено, Марти, – сказала она, будто до нее впервые дошло, кончено, финита, прощай.
Он кивнул:
– Да.
– Я не хочу, чтобы ты… – Она осеклась, помолчала, затем попробовала опять. – Не вини меня.
– Я тебя не виню. Я тебя никогда не винил. Господи, ты же была рядом со мной, верно? Все это время. Мне мучительно видеть тебя здесь, ты знаешь. Но ты пришла; когда я нуждался в тебе, ты меня не бросила.
– Я думала, все наладится, – сказала она, продолжая говорить так, словно он не произнес ни слова. – Я правда так думала. Я думала, ты скоро выйдешь – и, может, у нас все получится. У нас оставался дом и все такое. Но последнюю пару лет все начало разваливаться.
Он видел, как она страдает, и думал: «Я никогда не смогу забыть этого, потому что сам виноват, и я – самое жалкое дерьмо на Земле, потому что посмотрите, что я натворил». В самом начале, конечно, были слезы, и письма от нее, полные боли и полузабытых обвинений, но это мучительное горе, которое она выказывала сейчас, намного глубже. Прежде всего, оно исходило не от двадцатидвухлетней девушки, но от взрослой женщины; и ему было стыдно думать, что он виноват в этом, – а ведь, казалось, этап пройденный.
Чармейн высморкалась в салфетку, которую вытащила из пачки.
– Какой бардак, – сказала она.
– Да.
– Я просто хочу с этим разобраться.
Она бросила беглый взгляд на часы, слишком быстрый, чтобы засечь время, и встала.
– Я лучше пойду, Марти.
– На встречу опаздываешь?
– Нет… – ответила она, и это была явная ложь, которую она даже не пыталась скрыть, – может, схожу за покупками. Мне от этого всегда становится лучше. Ты же меня знаешь.
Нет, подумал он. Я тебя не знаю. Вероятно, когда-то и знал, но не уверен в этом, и то была другая ты, и, Боже, я скучаю по ней. Он запретил себе продолжать эти мысли. С ней нельзя так расставаться; он знал это по прошлым встречам. Весь фокус – быть холодным и закончить на формальной ноте, чтобы он мог вернуться в камеру и забыть ее до следующего раза.
– Я хотела, чтобы ты понял, – сказала она. – Но, кажется, не очень хорошо объяснила. Как все ужасно запуталось.
Чармейн не попрощалась: у нее на глазах снова выступили слезы, и Марти не сомневался, что она испугалась, заслышав речи адвокатов, что передумает в последний момент – из-за слабости, любви или того и другого разом, – а потому надо уйти не оборачиваясь, чтобы не допустить такого развития событий.
Он вернулся в камеру, побежденный. Фивер спал. Сокамерник слюной прилепил себе на лоб обрывок журнальной страницы с изображением вульвы – такая у него была излюбленная привычка. Она зияла, словно третий глаз над его закрытыми веками, все таращилась и таращилась без надежды на сон.