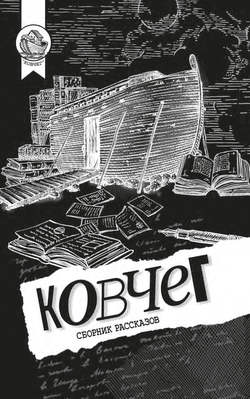Читать книгу Ковчег - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 2
Елена Пучкова
Кукла
ОглавлениеНас не было тогда на свете,
Но в памяти отражена
Та, незабвенная весна,
Мы тоже за нее в ответе.
Этот город был далеко от войны. Он не знал маскировки, перечеркнутых бумажными полосками окон, развалин. Но война пришла и сюда. Сначала ее узнавали, толпясь у хрипящих репродукторов, провожая на фронт близких и незнакомых, работая по-новому, для войны. Потом город узнал, что такое смерть. Только сюда смерть приходила как-то спокойно, по-канцелярски, а потому особенно страшно: просто узенькая бумажка, у которой уже появилось имя – похоронка.
Война приезжала в прокопченных теплушках, битком набитых эвакуированными, в строгих и тревожных санитарных поездах. И постепенно вошла в быт, обернулась мелкими житейскими неурядицами, да и прижилась…
Из квартиры стали уходить вещи. О первых еще тосковали, как о чем-то дорогом, потерянном невозвратно. Потом привыкли. На всю зиму застыли батареи парового отопления, в форточки потянулись кривые шеи «буржуек». Электричества не хватало, и тоненькие, слабые язычки коптилок усердно, но тщетно стали слизывать темноту.
Люди привыкают ко всему. Привыкли и к этому. Постаревшая, изуродованная и даже уже приспособившаяся к своему уродству жизнь продолжалась.
А Ефросинья Петровна не могла никак успокоиться. Она подолгу пропадала на заводе, хотя у нее, рядового заводского бухгалтера, не очень-то прибавилось работы. Приходя домой, слушала радио и плакала потихоньку, будто оставленный нашими войсками город – ее родной город, и даже представляла себе какой-то уютный домик на окраине, обязательно с березкой и старенькими ходиками. Представляла, как этот домик горит, а ходики стали, потому что хозяева погибли и некому их завести. И потом целый день ходила с красными глазами и сморкалась в продранный кружевной платок.
– Что с вами? – спрашивали ее сослуживцы. Но она только сморкалась, отводила глаза и вздыхала.
Однажды в комнату Ефросиньи Петровны протянулись через чисто вымытую кухню две дорожки мокрых, холодных следов. Одни следы были большие, сбивчивые, другие – маленькие, торопливые. Две фигурки в зябких пальто несмело остановились на пороге. Осунувшаяся женщина, будто извиняясь, суетливо рылась в сумочке, когда-то лакированной, а теперь покрытой тонкой сетью морщин, но не старческих, а каких-то болезненных, преждевременных. Рядом переминалась маленькая серьезная девочка, все время поправлявшая старое одеяльце, в которое была завернута кукла. Руки у девочки были красные и неповоротливые от мороза, но она все поправляла одеяльце и пришептывала:
– Видишь, здесь тепло, Светка. Ты теперь согреешься, ты спи, ты не плачь.
А у женщины из сумки посыпались разные бумажки: узкая похоронка, истрепанное свидетельство о рождении, какие-то телеграфные квитанции, хлебные карточки. Она все извинялась, спешила и наконец протянула Ефросинье Петровне бумажку, где было написано, что эвакуированная из Воронежа учительница Л.М. Сорокина с дочкой будут жить у Е.П. Нестеровой.
Ефросинья Петровна забегала по комнате, стала усаживать гостей и вдруг вспомнила, что они не разделись, кинулась раздевать девочку, волнуясь и все путая. Девочка сказала: «Я сама».
Она разделась, неторопливо, чинно и аккуратно складывая на сундук свою незамысловатую одежду. Раздевшись, подошла к матери и, не говоря ни слова, стала снимать с ее ног ботинки, опустившись на колени.
Ефросинья Петровна бросилась помогать, и тогда девочка вместо благодарности подняла большие, по-взрослому усталые глаза и проговорила коротко:
– Она больная. И устала. Мы замерзли. Мне ничего, а она – больная.
Наконец женщину раздели и уложили. Ефросинья Петровна сняла довоенный пуховый платок, подаренный еще покойным мужем, и укутала ноги гостьи. Женщина все время молчала, только часто-часто моргала, а когда ее уложили, заплакала, тихо, будто боялась помешать окружающим. Девочка погладила ее руку и прошептала:
– Ну не надо, мы же договорились. Не надо. Теперь все будет хорошо.
– Да, да, все будет хорошо, – машинально повторила Ефросинья Петровна и побежала на кухню за чаем и хлебом.
Выглянула соседка:
– Кто это у вас? Ох, наследили-то как! Вы бы хоть вытерли.
– Да, да, я сейчас, – заторопилась Ефросинья Петровна. – Эвакуированные это, из Воронежа. Женщина совсем плоха, а девчушка, будто взрослая, серьезничает все, но, видно, здорово есть хочет. Я уж соберу поскорее, что найдется.
Соседка сглотнула слюну, моргнула, постояла, борясь с собой. И вдруг, решившись, буркнула:
– Погодите немного.
Она исчезла у себя в комнате, загремела посудой, что-то уронила, чертыхнулась и наконец вынесла блюдце с лохматыми кусками застывшего джема.
– Вот. Дайте девчонке. Сегодня случайно в шахтерской столовой достала.
Ефросинья Петровна, постелив на стол старую, стертую на сгибах клеенку, несколько раз переставила стаканы с места на место, передвинула блюдце и воткнула в джем витую серебряную ложечку, которая почему-то оказалась непроданной, начала резать хлеб тонкими красивыми кусочками, но, посмотрев на женщину, раскроила на большие аппетитные ломти. Потом глянула на стол с сожалением: не получилось сервировки, – и вздохнула.
Женщина задремала. Лицо ее, воспаленное, с красными пятнами на лбу, щеках, подбородке, все время менялось, скомканное болью. Девочка, по-хозяйски расположившись на сундуке, перепеленывала куклу. Маленькие пальцы с обгрызенными ногтями, под которыми виднелись полоски грязи, нежно и ловко завертывали в одеяльце довольно крупный шероховатый, с неровными краями осколок снаряда.
Ефросинье Петровне вдруг захотелось закричать, вырвать у девочки осколок, но она сдержалась, закрыла глаза и осторожно, пошарив, оперлась рукой о стол.
«Вымыть девчушку надо. Заусенцев-то сколько. А она, наверное, тяжелая… кукла эта».
Нужно было что-то сказать, и Ефросинья Петровна сказала самое простое и неважное:
– Тебя как зовут?
– Меня Ира. А ее Светка. А вас как зовут?
Ефросинье Петровне захотелось погладить Иру по голове, но было почему-то неловко. Может быть, потому, что рядом с детской наивностью в девочке уживалась такая зрелость, что она казалась старше и мудрее Ефросиньи Петровны. И невольно подумалось: «А вдруг она возьмет – и меня погладит».
– Тетей Фросей зовут. Ну, чай будем пить. Иди, буди маму.
– Не надо ее будить, лучше она потом, а то ей опять больно будет.
Женщину не разбудили. Но все-таки ей стало больно. Руки дрогнули, заметались, взлетели и тяжело упали на одеяло. Потом выбился сквозь сведенные губы стон, долгий и робкий, как будто стыдливый. Этот стон приподнял с кровати тело. Оно напряглось, борясь с бессилием, но сразу же обмякло, упало в подушки и забилось в беззвучном плаче. Плакали плечи, руки, грудь. Только глаза, неожиданно разжавшиеся и испуганные, – не плакали.
Накинув платок, Ефросинья Петровна побежала звонить в «Скорую помощь», а Ира гладила тонкую, исчерканную синими жилками руку матери и пришептывала:
– Не надо. Ну не надо, ты спи. Здесь тепло. Теперь все будет хорошо. Не надо…
Вернулась Ефросинья Петровна. Приехали врачи. Женщину долго одевали и укладывали на носилки, а потом унесли. Ефросинья Петровна пошла проводить врача, ничего не понимая и не пытаясь понять, но согласно кивая головой, когда врач говорила, что это истощение, что теперь уже поздно, что утром нужно позвонить в больницу. А потом Ефросинья Петровна долго записывала на обрывке газеты адрес детдома и фамилию заведующего, а сама думала: «Откуда взялся карандаш? Может, соседка дала? Так где же тогда соседка? Нет… Откуда взялся карандаш?»
Давно уже уехали врачи, уснула Ира, всхлипывая, уткнувшись в подушку. Давно уже соседи обсудили на кухне все необычайные события вечера, решили, в какой детский дом нужно отдать девочку, и, зевая, разошлись по своим комнатам. А Ефросинья Петровна все еще не гасила коптилку, все еще сидела перед стаканом с недопитым чаем и думала, думала…
Она уже знала, что Ира останется у нее, что нельзя эту девчушку никуда отдать. Как они будут жить – об этом она не думала. Как-нибудь проживут. Ей только очень хотелось, чтобы у Ирочки была кукла, настоящая, большая, красивая, в накрахмаленном ситцевом платье. Почему-то, наверное, от усталости, это казалось сейчас самым главным и важным.
На другой день, когда Ефросинья Петровна вернулась с работы, Иры дома не было. В комнате все прибрано, аккуратно застелено, хотя впервые сегодня Ефросинья Петровна ушла, не притронувшись ни к чему. На столе притулилась к коптилке бумажка, написанная крупными печатными буквами:
«Тетя Фрося! Мне тетя Поля достала случайно в шахтерской столовой немного молока. Я понесла маме в больницу».
Ефросинья Петровна забеспокоилась: как же она пошла? Мороз крутой сегодня, а у нее варежек нет. Замерзнет девочка.
– Замерзнет девочка, – говорила она на кухне соседке, засыпая в кипяток остатки пайкового пшена.
Соседка хотела ответить, успокоить: она дала Ире старые дочкины носки, чтобы надеть вместо варежек, – но в это время за дверью поцарапались, толкнулись, и вошла Ира, туго сведенными пальцами стискивая баночку с мерзлым молоком.
Девочка не заметила растерявшихся женщин и прошла прямо в комнату. Ефросинья Петровна бросилась следом.
– Ну что, как она?
– Не взяли. – Ира сидела, не отпуская из рук банку. Усталым равнодушным голосом пояснила: – Молоко не взяли. Сказали, уже не нужно.
Ефросинья Петровна бросилась к девочке, хотела заговорить ее, заласкать, чтобы хоть на минутку забыла, чтобы согрелась хотя бы, – но смолчала. Взяла у девочки молоко, растерла ее скованные морозом руки, раздела. А потом сказала спокойным голосом:
– Ты сиди, грейся. А я тебе это молоко вскипячу. Тебе надо сейчас горячего молока.
Очень трудно заметить движение времени. Только какое-нибудь событие может заставить увидеть, что вот промелькнули часы, прошли месяцы, утекли годы. А у Ефросиньи Петровны и Ирочки никаких особенных событий не было.
Ефросинья Петровна приносила с завода старые конторские книги. Ира делала из них тетради и решала задачи все более сложные, но как-то не замечалось, что более сложные, потому что все происходило постепенно. И писала упражнения по грамматике, а потом изложения и сочинения, но по-прежнему казалось Ефросинье Петровне, что девочка ее еще маленькая. Давно уже была заброшена «Светка», и Ефросинья Петровна спрятала игрушку на дне сундука, там, где хранились документы и фотографии покойного мужа, засушенный букетик ландыша и бумажка, в которой написано, что учительница Л.М. Сорокина, эвакуированная из Воронежа, будет жить у Е.П. Нестеровой…
Уже несколько месяцев, как была не нужна коптилка: еще тускло, но уже светил под потолком маленький пузырек, наполненный засиженным мухами светом. И только сгусток копоти на потолке напоминал о том, что электрическая лампочка не светилась какое-то время – может быть, пять минут, а может, три года…
Но однажды Ефросинья Петровна увидела в магазинной витрине кукольную головку. Головка была важная, с тугими, лоснящимися щеками и круглыми голубыми глазами. И сразу же сердце зашлось, и снова, как в тот далекий, хлопотный вечер, показалось самым главным и важным, чтобы у Ирочки была кукла. Ефросинья Петровна в минуту подсчитала, на чем она сэкономит, из какого чересчур нарядного для ее сгорбившейся фигуры платья можно будет сшить кукле полный гардероб, а шить можно вечерами, в завкоме. Ее накрепко охватила почти детская нерасчетливая радость – у Иришки будет кукла!
В магазин Ефросинья Петровна вошла торжественно, даже ноги вытерла, чтобы не наследить, хотя и видела, что наследить негде: так захламленно и грязно было перед прилавком. Она медленно отсчитывала деньги и все время улыбалась кассирше, а в голове вертелось назойливой мухой, что мяса завтра не придется купить, – это мясная трешка, хлеба придется купить только на ту мелочь, что завалилась за подкладку пальто, – это хлебный рубль… Муха жужжала, жалила, а радость все равно не уходила – это была прочная радость.
Теперь Ефросинья Петровна возвращалась с работы поздно, осунувшаяся, усталая, но очень довольная. Она долго, кряхтя, укладывалась, кутаясь в зябкое одеяло, давно уже отслужившее свое. Ира перебиралась к ней и трогала тонкими пальцами узенькие, теплые морщинки…
– Тетя Фрося, опять ты сегодня допоздна. Смотри, устала как, ты бы береглась лучше. Ты ведь самая, самая нужная.
Но Ефросинья Петровна сердилась, хотя все в ней тянулось к этой ребячьей угловатой ласке.
– А ты учись, как хлеб зарабатывают. Он ведь, хлеб, отдыха не любит, на дороге не валяется. И марш спать. А то завтра будешь на контрольной носом клевать! Ну, чего сидишь? Я ведь дело говорю.
Ира шлепала босиком через всю комнату, а Ефросинья Петровна ворчала:
– Да укройся, смотри, хорошенько!
И вот наконец наступил этот день. Кукла получилась веселая, нарядная, накрахмаленное платье на ней так и топорщилось, так и звенело, даже прохожие на улице, когда важная и торжественная Ефросинья Петровна несла куклу домой, оборачивались на этот звон.
И вдруг вырос на пути солдат, вырос и загородил дорогу. Сапоги у него с блеском, только по самому ранту бугорки засохшей грязи – не уберег. Шинель распахнута. На гимнастерке ордена и медали звенят – награды, а рядом – узенькие желтые нашивки, короткая пометка о долгих страданиях. Стоит, переминается с ноги на ногу, хочет сказать – и трудно, неловко, наверное. Мялся, мялся и выговорил наконец:
– Слушай, тетка! Продай. Душевно тебя прошу, продай свою барышню. Разве такую купишь сейчас? А я, понимаешь, домой еду, дочка… Так никаких денег не пожалею! Продай. А?..
Сколько мыслей может пронестись в голове за какую-то долю секунды, сколько чувств, трудных и неуживчивых, может поместиться в сердце. «Отдать, просто так отдать! Ведь живой вернулся, к дочке едет. Или продать? Пусть немного денег, а все-таки для Ирочки хлеб, масло… Нельзя ему дальше без куклы идти, нельзя!»
– Не могу! Ты пойми меня, не могу. Целый месяц для девочки шила, для сироты. У нее кукол никогда не было, а ведь нельзя же так – все детство без кукол. Ты прости…
Солдат помялся, буркнул какое-то некстати прозвучавшее извинение и пошел, утирая пот со лба и бормоча что-то досадливое и смущенное. Потом он повернул за угол, будто и не было его. Но кусочек радости он у Ефросиньи Петровны унес.
Ира только и нашлась сказать:
– Ооо!
Она смотрела то на куклу, то на тетю Фросю, тихо смеялась и осторожно трогала гипсовые румяные щеки. Потом она бережно усадила куклу на кровать; почти не касаясь, расправила звонкое платье; и вдруг обхватила Ефросинью Петровну, неловко ткнулась холодным носом в морщинистую щеку, да так и приникла, так и замерла…
Ефросинья Петровна гладила ее волосы, плечи – что под руку приходилось. Только теперь заметила она, как вытянулась Ирочка, какая стала длинноногая, нескладная, только теперь поняла, что ей, наверное, уже и не нужна кукла. Губы зашевелились, скомкались и нехотя улыбнулись.
– Ну хватит, дочка. Порадовались, и хватит. У меня забот полон рот, да и ты человек занятой, серьезный.
Ефросинья Петровна долго гремела на кухне кастрюлями, на вопросы соседей улыбалась:
– Обрадовалась, конечно. Как не обрадоваться! – А сама все думала: «Как она дальше сложится – жизнь?!»