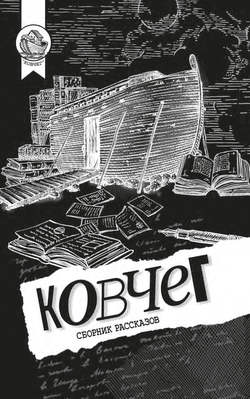Читать книгу Ковчег - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 8
Сергей Кубрин
Начальник
ОглавлениеПолковнику Молянову С. А.
Полицейская собака Ла-пуля снова родила щенят: дворовых и беспородных, самых обычных, с прямым черным окрасом и блеклым цветом глаз. Таких – пруд пруди в каждом подвале, в каждой подворотне, у каждого мусорного бака, на любой контрольной точке или зоне обхода дежурного патруля. Не знающие людской заботы, скулящие и звенящие, исход судьбы которых невелик: найти хозяйские руки или прыгнуть в тревожный вещмешок, оказавшись где-нибудь за городом.
Может, потому весь личный состав с самого дня рождения стал бороться за право выбора – мне вот этого, а мне вон того. Смотри, какая морда, добавляя понятное: «Мужи-иик». Щенки рано отстали от матери, носились по дворовой территории отдела, цеплялись за штанины пепеэсников. Те, уставшие после ночного дежурства, сперва шугали назойливых щенят, но, одумавшись, скоро брали на руки молодое собачье пополнение.
Честно говоря, сами щенки больше всего любили этих сержантиков, носящих почетную должность сотрудников патрульно-постовой службы. Переулки и городские тупики, улицы и закоулки, важное прописное условие: охраняй правопорядок, следи за пропускным режимом.
Щенки несли дежурство у въездных ворот. И если появлялся на той стороне жизни случайный прохожий или бдительный гражданин, давились ребяческим рыком, исполняя отеческий долг.
– Отставить, – давал команду пепеэсник, – ваши документы, пожалуйста.
И, выстроившись в ряд, опустив на потертый асфальт завитки дымчатых хвостов, провожали взглядом, как по команде «смирно», заявителей и потерпевших, жуликов и бандитов, патрульные «бобики», служебные ГНР-ки.
Оставалось лишь крикнуть что-то вроде «вольно», и щенята обязательно бы понеслись туда-сюда, рассредоточились по периметру, но отчего-то стеснялись они своих врожденных полицейских способностей, скрывали понимание уставного режима и дисциплинарной важности.
Сама Ла-пуля пряталась в будке и лишь изредка выходила, радуясь первым отголоскам предстоящей весны, блаженно похрипывая, когда кто-то теребил ее потрепанное старое пузо.
Начальник отдела, старый полковник, почти уже отучил мать-героиню подавать голос. Если та бежала к нему, заметив еще у самого входа статную офицерскую фигуру, и готова была уже разразиться лаем от радости встречи с хозяином, полковник поднимал ладонь, пронося ее с силой по воздуху, намекая как бы: станешь гавкать – прилетит и тебе.
Собака послушно утихала и только путалась под ногами, не давая сделать ни шагу.
Ла-пуле, само собой, хотелось налаяться от души, захлебнувшись собственной звериной силой, нарычать на непослушных щенят, заскулить от ночной апрельской тоски или вовсе проводить гавканьем местного жульбана. В общем-то долгое время она так и жила, если бы в одно обыкновенное утро в отдел полиции не обратилась женщина с определенно необыкновенным заявлением.
«Прошу привлечь, – писала она аккуратным, но ершистым от негодования почерком, – к уголовной ответственности собаку, проживающую на территории отдела полиции, поскольку та издает лай в ночное время суток, тем самым мешает осуществлению сна и, соответственно, нарушает право человека на отдых».
Дамочка, скорее всего, обладала некоторой юридической грамотностью и повышенным уровнем правосознания, воспринятого из массовых телепередач в духе «Часа суда», поскольку на возражение дежурного, что подобное заявление принимать не станет, пригрозила пальцем и пообещала – немедленно – идти в прокуратуру.
– Ну вы поймите, – настаивал дежурный, – ну как же мы привлечем к ответственности собаку?
– А вы спите по ночам? – кричала женщина. – А я вот не сплю! Убирайте эту сучку куда хотите! Так больше невозможно!
Скорее всего, и дежурный, и сотрудники, проходившие мимо, но вынужденные остановиться ради очередного нашествия жертвы весеннего помутнения, подумали: сучка здесь одна, и, так уж вышло, на данный момент это не всеми любимая Ла-пуля.
– Я вам говорю, женщина-аа, – с какой-то неестественной мольбой, что ли, выдавил дежурный.
– Я вам не женщина! – не унималась заявительница. – Женщина у вас дома, и то не факт, – усмехнулась она, оглянувшись в надежде найти представителей жалобщиков, способных разделить ее тонкое чувство юмора. Но никого из гражданских не было рядом, кроме дохлого старичка, верно ожидавшего очереди и не способного, казалось, ни смеяться, ни плакать, ни – тем более – уподобиться язвительному трепу. – Так вот, я для вас – гражданка в первую очередь. А следовательно, имею право! Понимаете, – ударила она кулаком о часть примыкающего к защитному стеклу выступа, – я имею полное пра…
– Гражданка! – возникший откуда-то встречный голос, словно резкий морской ветер, сбил ее поставленную галерную речь, и гражданка с товарным запасом прав и свобод примкнула к берегу взаимного понимания. – Гражданка, что у вас стряслось? Ну, что же вы так переживаете?
Должно быть, женщина (а как ни крути, она все-таки была самой обычной женщиной), пусть на самое незначительное, но всеми заметное время, утихла, уставившись на полковника. Убедившись, что тот – действительно полковник, оценив треугольник внушительных звезд на погонах, ответила, на удивление спокойно (а ведь умеет) и даже не с требованием, а просьбой:
– Вы же начальник, правильно? Товарищ начальник, помогите мне.
Полковник кивнул дежурному, тот нажал кнопку на пульте, открылся пропускной турникет, и женщина-гражданка полноправно внесла свою невозможную проблему внутрь нашего – лучшего за отчетный период – отдела города. И уже через некоторое время, проводив взглядом дежурного, достойно державшего оборону, одарив старую, но надежную деревянную лестницу уверенным стуком набоек, вошла в кабинет начальника, и тот, молча закрыв дверь, указал ей на стул.
Будь он не начальником, точнее, если бы не эта женщина, наш полковник обязательно сказал бы что-то вроде: «Место!», а раз уж речь зашла о собаке, подобная смысловая точка пришлась до предела кстати.
Но полковник избегал остроумных диалогов и центровых ударов, когда лично общался с заявителями, тем более, с известной всем категорией незаслуженно обиженных, лишенных естественных и неотчуждаемых (согласно основному закону) прав, – потому что клялся «свято исполнять и строго соблюдать», положив ладонь пусть не на Конституцию, но, наверное, к сердцу или куда там прикладывают свободную руку во время церемониальных назначений на должности руководящего состава.
– Я вас слушаю, – сказал полковник и сделал вид, что действительно слушает, несмотря на то, что тут же достал нескончаемую кипу бумаг, забродил по строчкам, замахал пастой, оставляя подпись под резолюцией. Он кивал, когда гражданка изливала тревожную суть и проблемное содержание жалобы, оттого дамочка с большей уверенностью, что «имеет право», продолжала окрашивать самыми бестактными оттенками бедную Ла-пулю.
Начальник, не поднимая глаз и не расставаясь с тяжестью протокольных листов, позволял себе ответные реплики в форме «Вот так, да» или «Какой ужас», придавая обиженному монологу кажущийся контактный фон. Но на самом деле сам полковник скорее всего не понимал, общается ли он прямо сейчас с заявительницей или – заочно – с исполнителем прилетевших на его стол документов.
– Ну как же так! – выдал во весь широкий трубный голос полковник, швырнув ручку до самого победного края громадного стола, и женщина примолкла. Она уставилась в лицо полковника, привыкшее за годы службы скрывать любое проявление эмоций, но в душу начальника, конечно, заглянуть не смогла, потому не разглядела ни грохочущих ненавистных гейзеров, ни падающих водопадов, бьющихся о камни крепнущего недовольства и злости.
Это была вынужденная злость, поскольку сам полковник в мирной внеслужебной жизни отличался нетипичной добротой и развитым чувством уважения, что, в общем-то, не имеет, как говорится, отношения к делу. Тем более, не было до этого дела и самой гражданке. Она лишь закивала судорожно своим острым подбородком, предчувствуя, как прямо сейчас – взбудораженный от случившейся нелепости – начальник разрешит ситуацию: возьмет служебное оружие, снарядит магазин восемью патронами и выпустит их все в виновника суматохи.
Ведь этот случай, думала женщина, точно особенный. Потому она ждала и ждала, что же скажет начальник, как прореагирует на невозможную беду, и долго ли еще будет слышен этот беспокойный лай полицейской собаки. В конце-то концов.
Наконец полковник заметил присутствие дамочки, и теперь брошенные им «как же так» и «какой ужас» нашли, к счастью, своего адресата.
– Вот-вот, – защебетала женщина.
– Вот-вот, – повторил зачем-то полковник.
– И вы представляете, я сплю, а вообще я очень крепко сплю. Но этот вот лай, вы понимаете? Вы должны принять меры, уважаемый товарищ начальник милиции.
– Полиции, – поправил начальник.
– Полиции, – исправилась дама, усмехнувшись, – милиция-полиция, какая разница, черт вас разберет.
Полковник насторожился, а дамочка осеклась.
– …То есть я имела в виду, что… Ну, вы понимаете, да? Начальник кивнул и все окончательно понял.
В этом «все», должно быть, находилось куда больше, чем собачье гавканье, и отсутствие сна, и даже нарушение пришитого к проблеме права на отдых. По крайней мере, полковник в очередной раз подумал о том самом неуважении граждан к органам правопорядка, о котором повсюду говорят, и, скорее всего, зря говорят, но разве кому объяснишь и захочет ли кто понимать.
Он подумал и про мнимую вежливость этих же граждан, встретившихся с бедой, и даже вспомнил отчего-то свою молодость и вечно серый асфальтированный плац курсантского училища, и таким же серым представилась вся его прошедшая жизнь, точнее, результат этой жизни – как ни крути, далеко не серой по сути.
Ему вдруг показалось, что, наверное, в этом людском недоверии и отсутствии должного уважения и есть смысл, и оттого стало легче. Ну, то есть какой смысл: ты работаешь и, скорее всего, работаешь хорошо, потому что в районе стало тише и вообще раскрываемость заметно возросла, и, может, потому не доверяют, что вера вообще понятие невозможное. А поверят, лишь когда исчезнет предполагаемый объект доверия, но в таком случае наступят полный хаос и бесправие, и тогда все поймут и оценят, и все в этом роде.
Полковник всегда размышлял так неспешно и так непонятно. Он вообще не любил говорить просто и бесцельно, предпочитая долгие, зачастую ведущие в тупик мыслительные процессы.
Не родился бы он сотрудником (а ими, настоящими, все-таки рождаются) и не стал бы начальником, а был бы кем-нибудь схожим с городским пижоном или на худой конец сотрудником кафедры тепловой обработки материалов, первый встречный – ему подобный – обязательно сказал бы с невнятным, но искренним акцентом:
«a person of great intelligence». Да что уж, сам полковник считал себя таким: умным, незаурядным и конечно же интеллигентным.
Только ради соответствия истинным качествам и моральным принципам полковник не стал убеждать заявительницу, что с подобными проблемами в полицию лучше не обращаться. Жаловаться на лай можно кому угодно: собачьему или людскому богу, председателю животного кооператива во главе с царем зверей, бабушкам-старушкам, восседающим на скамейках возле подъездов, в конце концов, активным блогерам, руководителям групп социальных сетей, журналистам, но только не полиции.
Начальник бы при этом с удовольствием раскрыл дамочке книгу учета сообщений о происшествиях (сокращенно КУСП), сводку за истекшие сутки, и, кто знает, может, дамочка бы поняла, что есть вещи посерьезнее собак, а происшествия – страшнее, чем природное гавканье. Но служебную тайну никто не отменял, как и обязанность регистрировать любое поступившее обращение.
Именно поэтому начальник сказал женщине:
– Не переживайте. Мы что-нибудь придумаем. Мы обязательно разберемся.
Дамочка уже уходила, но, только переступив порог, появилась снова и зачем-то добавила:
– Постарайтесь не медлить, а то…
Она не закончила, и оставалось только предполагать, что же скрывается в многозначительном «а то…», но, скорее всего, полковник понял – в противном случае, женщина отправится выше, закидает жалобами приемные генералов, прокурорские канцелярии, кабинеты общественных объединений и правозащитных организаций.
Сначала кому-то звонил и даже что-то докладывал, после на доклад приходили к нему, и начальник спрашивал по всей строгости закона. Удавалось ему сквозь громкий стальной голос не терять самообладания. Даже в моменты почти очевидного срыва держался нерушимо туго, ровно крепил спину и едва заметно тянул подбородок.
Но когда кабинет опустел, когда полковник понял, что есть время до вечерней планерки и, скорее всего, в ближайший час его никто не потревожит, он буквально рухнул в рабочее кресло и выдохнул протяжное «уу-ууу-х».
Что-то нужно было решать с этим заявлением, и, конечно, полковник понимал: единственный выход – как можно быстрее избавиться от Ла-пули. Но, представив, как дает команду тыловику, как ту помещают в багажник и увозят куда-то за город или в другой район хотя бы – куда угодно, лишь бы не слышал никто ее волнительный лай, – стало ему настолько нехорошо, что пришлось даже открыть окно, иначе крепнущая духота поборола бы его.
Двор жил. Урчал мотор дежурной «газели», что-то невнятное пытались донести полупьяные административно-задержанные, протрезвевшие уже и получившие право минутного перекура. Кто-то из сотрудников неприлично громко смеялся, но полковник был не из тех, кто противился смеху в рабочее время, полагая, что смех если и не продлевает жизнь, то точно придает ей смысл.
Сам он тоже любил пошутить, но понимал, что служба – не шутка, и если уж судьба предоставила ему когда-то такое право, значит, нужно идти серьезно и уверенно, почти как строевым шагом по бесконечно долгому плацу. Он часто думал, что служба выбрала его, а не он службу, потому относился к ней, как к священному долгу, установленному не законом, а почти божественной волей.
Но сейчас он мог выбирать, точнее, обязан был сделать выбор: интересы граждан или бедная собака, к которой давно привязался и, может, полюбил. Что-то подсказывало ему, наверное, совесть уговаривала: оставь Ла-пулю, пусть живет, но свежий офицерский разум убеждал: действуй иначе, не нужны тебе проблемы.