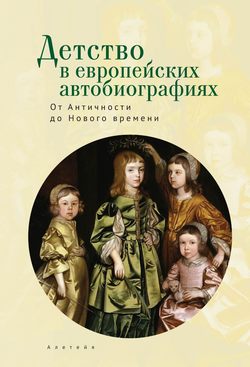Читать книгу Детство в европейских автобиографиях: от Античности до Нового времени. Антология - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 25
Часть 2
Раннее новое время
Воспоминания о детстве в эпоху Возрождения, Реформации и Контрреформации
ОглавлениеРеволюционность периода XIV–начала XVII в. в общем ходе европейской истории, долгие годы считавшаяся бесспорной аксиомой, сегодня все чаще подвергается сомнению. Это сомнение свидетельствует о глубоких переменах, происшедших в европейском сознании в послевоенные годы и приведших если и не к полному «краху традиционной драматической организации истории Запада»156, то к совершенно очевидному ее радикальному пересмотру. Действительно, многие историки заметили, что более чем трехсотлетний период, который они считали началом современной эпохи, временем «открытия индивидуальности»157, по своей глубинной сути не столь уж отличен от средневекового. Они обратили внимание на то, что в эти столетия общество продолжало оставаться преимущественно аграрным и, соответственно, жизнь людей в нем подчинялась природным циклам. Индивид в этом обществе также представлял собой звено во всеобщем круговороте времени, был частью постоянно воспроизводимого семейного, родового, социального целого. Цель его существования, следовательно, мыслилась не столько в том, чтобы прожить свою собственную жизнь, сколько в том, чтобы передать жизнь следующему поколению. Отсюда и ребенок виделся в этом обществе, по образному выражению французского исследователя Жака Жели, «отростком родового древа»158.
Однако даже самые горячие сторонники идеи «долгого Средневековья» не ставят под сомнение то обстоятельство, что в этот период отношение к ребенку в Европе существенно меняется. Эти изменения, ставшие впервые заметными с конца XIV в. в среде зажиточных горожан ренессансной Италии, в начале XVI в. обретают новый импульс, в результате которого процесс перемен охватывает почти всю Западную Европу.
Что же произошло? Какие «индикаторы» позволяют делать такого рода заключения? Исследователи указывают на самые разные приметы, относящиеся к социальной, экономической, ментальной, интеллектуальной сферам общественной жизни. Еще в XIV в. появляются первые реалистические изображения ребенка в живописи и скульптуре, а с XVI в. начинают печататься первые книги для детей159. Общество начинает обсуждать множество «детских» вопросов, которые никогда не занимали его раньше. Среди них – целесообразность вскармливания младенца молоком кормилицы (не противоречит ли это законам природы?) и еще один, имеющий символическое звучание, – о возможном вреде пеленания младенца. Не является ли, спрашивают авторы XVI в., словно предвосхищая споры Нового времени, такое раннее ограничение свободы вредным для физического здоровья и общего развития ребенка? В частных письмах и мемуарах XVI—XVII вв. начинают встречаться наблюдения о переменах, происходящих с современными детьми, их отличиях от детей прежних лет, отмечается, например, что теперь они стали более живыми и зрелыми160. О детях и детстве вообще в это время стали больше думать и говорить.
Едва ли, впрочем, будет правильным изображать характер этих перемен как простой сдвиг отношения общества к ребенку от индифферентного к заинтересованному. Часто декларируемое безразличие к ребенку в Средние века – скорее всего миф. Но точно так же мифом следует считать и то, что с XVI в. в отношении к нему господствует тотальный пиетет. Множество свидетельств демонстрируют, что в это время соседствовали обе тенденции. Новое отношение к детству, родившееся в XVIII в., – наше отношение – явилось результатом гораздо более глубоких, беспрецедентных в европейской истории перемен не только в экономической, социальной и культурной жизни общества, но и в его сознании, в особенности в отношении к таким фундаментальным понятиям, как «жизнь», «тело», «индивид».
Нельзя не сказать еще об одном. Раннее Новое время в европейской истории отмечено стремительным ростом интереса индивида к самому себе. Один из показателей этого – резкое увеличение числа автобиографических сочинений. В XIV—XVII вв. их создаются уже не единицы, а многие десятки, практика создания автобиографий распространяется далеко за монастырские стены и становится делом самых разных общественных групп: профессиональных литераторов-гуманистов, художников, купцов, дворян, бюргеров. Воспоминания людей о своей жизни в это время становятся более обстоятельными и более насыщенными непосредственно-личностным звучанием. Все это в полной мере характерно и для воспоминаний о детстве. Краткие малозначащие упоминания о нем [например, в автобиографиях двух гуманистов: величайшего флорентийского поэта Франческо Петрарки (1304–1374) и греческого ученого и политического деятеля Димитрия Кидониса (ок. 1324–ок. 1398)] – скорее исключения. Детство в памяти писателей XIV—XVI вв. – это отдельный, живой и несомненно значимый период жизни.
* * *
Изменение биографических моделей рассказов о детстве. На рубеже Нового времени средневеково-христианские модели изображения детства, в основе которых лежал агиографический канон, хотя и продолжают определять сюжетную канву большинства автобиографических рассказов, претерпевают все же существенные изменения. Причем эти изменения имеют самый разнообразный характер. В одних случаях пронизывающая их антитеза грешного, земного, человеческого и возвышенного Божественного начал начинает наполняться живым личностным содержанием. Так, страницы «Книги жизни» св. Тересы Авильской (1515–1582), говорящие о ее детских годах, проникнуты искренней болью за то, что она не смогла сохранить дары, ниспосланные ей от рождения Господом. Ведь детство для нее (в отличие от Августина, настаивавшего на изначальной греховности ребенка) – период, когда эти дары находятся в человеке в наиболее чистом и незамутненном виде; их порча происходит позднее, в отрочестве и юности161.
В других случаях средневековый биографический канон трансформируется почти до неузнаваемости. Совершенно по-особому вспоминает о своем детстве флорентийский золотых дел мастер и скульптор Бенвенуто Челлини (1500–1571). Понятие греховности его человеческого существа в этих воспоминаниях совершенно отсутствует, а понятия избранничества и святости наполняются новым содержанием. Рассказ о самом себе в значительной мере строится у Челлини по тем биографическим клише, которые родились в ренессансной художественной среде и нашли воплощение в знаменитом сочинении Джорджо Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». Рождение художника изображается здесь как чудесное явление на свет Божьего избранника. Особая близость Богу обязательно должна проявиться в каких-то чудесных знамениях, благоприятных сочетаниях звезд и пр. У Микеланджело таким знамением было внезапное озарение отца, определившее имя новорожденному. Назвав сына Микеланджело, говорит Вазари, «отец хотел этим показать, что существо это было небесным и Божественным в большей степени, чем это бывает у смертных». Богоизбранность младенца, по мнению того же Вазари, подтверждалась и его гороскопом: «При его рождении Меркурий в сопровождении Венеры были благосклонно приняты в обители Юпитера, а это служило знаком того, что искусством рук его и таланта будут созданы творения чудесные и поразительные»162. В изображении Челлини акт его собственного рождения выглядит очень похоже. Он подчеркивает, что родился в особое время, «в ночь Всех Святых, после Дня Всех Святых, в половине пятого, ровно в тысяча пятисотом году»; что его появление на свет было большой неожиданностью для всех, едва ли не чудом; что новорожденный был в «прекраснейших белых пеленах». И здесь тоже мы встречаем внезапное озарение отца: «Сложив престарелые ладони, он поднял вместе с ними очи к Богу и сказал: “Господи, благодарю Тебя от всего сердца; этот мне очень дорог, и да будет он Желанным”» [по-итальянски – Benvenuto]. Бенвенуто, так же как Микеланджело и другие великие мастера, является в мир прежде всего дабы создать совершенные произведения искусства. Но не только. Ему уготовано небом совершить множество и других великих дел, сравнявшись в них с величайшими героями древности и современности, а то и превзойдя их. Свидетельства этой богоизбранности – знамения, которые сопровождают его в детстве: сначала – спасение по воле небес от укуса огромного скорпиона, затем – чудесное видение в огне саламандры.
В автобиографии итальянского гуманиста, архитектора и теоретика искусства Леона–Баттиста Альберти (1404–1472) также рисуется образ детства, далекий от средневековых агиографических моделей. Это период раскрытия безграничных способностей человека, идеального l'uomo universale. Герой Альберти легко научается «всему, что подобает знать благородному и свободно воспитанному человеку», и во всех науках и искусствах неизменно достигает успеха. Он «с чрезвычайным усердием занимался не только военными упражнениями, верховой ездой и искусством игры на музыкальных инструментах, но и всякими изящными искусствами, а также изучением самых необычайных и труднейших предметов». Кажется, нет такой области благородных занятий, которую не освоил этот герой в юные годы и в которой не достиг успеха: словесность, живопись, физические упражнения, верховая езда, военные игры, музыка, пение. Большую часть рассказа Альберти о его детстве и юности занимает как раз перечисление разнообразных видов деятельности, которые он с успехом осваивал.
В средневековых биографиях расхожим топосом является указание на «положительных» (как правило, благородных и обязательно благочестивых) родителей и их безусловно позитивную роль в воспитании героя. В историях жизни раннего Нового времени образы отца или матери выглядят далеко не всегда идиллически. Так, Варфоломей Састров (1520–1603), отметив, что его родители «были хорошего воспитания», тут же добавляет: «Мой отец был, правда, слишком вспыльчивым, и, когда его охватывал гнев, он не знал меры». И дальше изображает страшную сцену: «Однажды он очень сильно разгневался на меня. Он стоял внутри конюшни, а я в воротах. Тогда он схватил сенные вилы и с силой метнул их в меня. Я отскочил в сторону. Но бросок был таким сильным, что вилы вонзились глубоко в дубовый косяк купальни, и потребовалось немало усилий, чтобы вытащить их оттуда». Такое поведение отца не вызывает, впрочем, открытого осуждения автора. Мораль, которую извлекает из этого навсегда запечатлевшегося в его памяти случая Састров, незамысловата и вполне предсказуема в рамках христианских представлений об искушениях Сатаны и спасительном вмешательстве Господа в человеческие дела – это были «козни дьявола», которые «милостивый Бог в своем всеведении расстроил».
У писателей XIV—начала XVII в., как и раньше у средневековых, детство во многом ассоциируется с годами учения. Умение читать и писать, знание латыни и классических авторов, овладение основами наук – это главное, что, по их мнению, должен обрести человек в возрасте примерно от 6–7 до 16–17 лет. Как и раньше, их воспоминаниям об учении часто сопутствует боль от перенесенных несправедливостей и жестокостей со стороны наставников. Картины, рисуемые авторами, тут одна мрачнее другой. Итальянский педагог-гуманист Джованни Конверсини да Равенна (1343–1408) почти весь рассказ о детстве посвящает осмыслению своего сурового опыта пребывания в школе некоего Филиппино да Луго. «Терпя безумную жестокость Филиппино, – признается Конверсини, – я упрямой душой возненавидел ученье и всех учителей». Главный вывод Конверсини из этого опыта состоит в том, что учителям непременно следует проявлять доброе отношение к их ученикам: «Заблуждаются те, кто считает, что при обучении детей грамоте стоит прибегать к жестокости. Педагоги добиваются большего умеренностью и милосердием, ибо от мягкого обращения и любой похвалы воспламеняется благородная душа и становится расположенной следовать туда, куда зовет рука ваятеля…»
Свирепство школьного учителя навсегда запомнилось и Йоханну Бутцбаху (1477–1516 или 1526). Спустя много лет он с явным удовлетворением добавляет в своем жизнеописании, что после одного из жестоких истязаний его наставник-мучитель был изгнан из школы и переведен в городовые: «Так из эрфуртского бакалавра получился мильтенбергский полицейский… Ибо это только справедливо, чтобы тот, кто не захотел умерить свою жестокость по отношению к детям, должен был проявлять ее по отношению к злодеям и бунтовщикам».
Но ученичество вовсе не рисуется всеми авторами XIV–XVII вв. исключительно в мрачных тонах. В их рассказах, хотя и нечасто, можно встретить и выражения любви к школьному наставнику, и хвалы педагогическому мастерству. Так, доктор теологии лютеранин Якоб Андреэ (1528–1590), по его собственным словам, был отдан в школу «к весьма ученому и обладающему необыкновенным талантом учить детей наукам мужу, которого ученики любили и почитали как родного отца… Он редко приказывал приносить в школу розги, не чаще, чем раз в семестр, предпочитая побуждать юношество к успехам в учении похвалами, соревнованиями или же строгими порицаниями». Здесь мы словно видим реализацию на практике того подхода к ученику, о котором только мечтал Конверсини.
Удивительную картину своего воспитания и обучения в первые годы жизни рисует выдающийся французский мыслитель Мишель Монтень (1533–1592). Она свидетельствует о существовании в его время совершенно особого отношения к ребенку – как к нежному легкоранимому созданию и одновременно как к личности, обладающей собственным достоинством и врожденными благими задатками. Трудно представить, что речь в рассказе писателя идет о середине XVI века, а не, скажем, XIX, настолько передовыми для его времени выглядят педагогические принципы, которыми руководствовался отец юного Мишеля, создавая условия для становления его личности. «Моему отцу, среди прочего, – пишет автор, – советовали приохотить меня к науке и к исполнению долга, не насилуя моей воли и опираясь исключительно на мое собственное желание. Вообще ему советовали воспитывать мою душу в кротости, предоставляя ей полную волю, без строгости и принуждения. И это проводилось им с такой неукоснительностью, что – во внимание к мнению некоторых, будто для нежного мозга ребенка вредно, когда его резко будят по утрам, вырывая насильственно и сразу из цепких объятий сна, в который дети погружаются гораздо глубже, чем мы, взрослые, – мой отец распорядился, чтобы меня будили звуками музыкального инструмента и чтобы в это время возле меня обязательно находился кто-нибудь из услужающих мне».
Детство в протестантских автобиографиях XVI – начала XVII в. Многие исследователи считают, что «открытие детства» произошло в рамках протестантизма, и объясняют это особой требовательностью протестантов к обучению ребенка грамотности и его ранним приобщением к чтению Библии. Поскольку, согласно учению Лютера, спасение души – личное дело каждого, и происходит оно через Божье Слово, Библия должна быть в каждом доме, и ее нужно читать с самых ранних лет. Отсюда важность обучения детей и особое внимание к детскому возрасту, самой идее детства, когда человек приобщается к Богу. Впоследствии концепция детства нашла глубокую теоретическую разработку в сочинениях протестантских моралистов XVII в. 163
В автобиографиях протестантских писателей действительно обнаруживается пристальный интерес к годам детства и учению. Они охотно и часто довольно непосредственно рассказывают о разных событиях, случившихся с ними в это время: детских проказах, родительских наказаниях, чудесных спасениях от нечаянной гибели и болезней, предназначенных свидетельствовать о Божественном покровительстве над героем/автором, подробно сообщают об овладении ими навыками чтения и грамотности.
Во многом типичным для раннего протестантизма является образ детства, запечатленный в автобиографии шотландского священника Джеймса Мелвилла (1556–1614)164. Здесь нужно иметь в виду, что все его сочинение, написанное в жанре религиозной автобиографии, – это рассказ не столько о жизни самого автора, сколько о проявлении по отношению к нему Божественной благодати. В самом начале Мелвилл утверждает, что намеревается «запечатлеть на бумаге благодать Господа, дарованную ему с первого его зачатия и отмеченного дня его рождения». Отсюда и построение им сюжетов, и несколько необычный для такого рода личностных сочинений приподнято-торжественный тон, напоминающий стиль религиозно-полемических трактатов деятелей шотландской Реформации.
Он немало внимания уделяет рассказам о людях, наставлявших его в детстве на путь истинный, прежде всего о «добропорядочных, благочестивых и честных» родителях, которые были «освящены светом Евангелия». Еще в младенчестве Мелвилл потерял мать и воспитывался отцом и старшей сестрой. Об отце-священнике говорится как о «человеке редкой мудрости, рассудительности и благоразумия», ученике знаменитого Филиппа Меланхтона. Сестра Джеймса стремилась воспитать его в духе доброты и искреннего благочестия, пресекая негативные проявления его натуры кротким укором и доверительным отношением.
Вера Джеймса значительно окрепла в ходе его обучения в школе. Там его наставляли в «разумном страхе» и благочестии, уча читать молитвы и Священную историю. Описание школьной жизни у него полно драматизма, за которым автору видится глубокий религиозный смысл: свои шалости и проступки, так же как и расплату за них, он трактует как проявления Божьего возмездия и напутствия. Все, что с ним происходит, имеет высшее Божественное значение и высшую справедливость. «Господь, – заключает Мелвилл, – сделал моими учителями всех тех, кто встречался мне, все места и действия, но увы: я никогда не пользовался ими так плодотворно, как позволяли обстоятельства…»
Автор много и подробно сообщает также о своем круге чтения в эти годы, чрезвычайно насыщенном. Это прежде всего Библия, Катехизис, молитвы, затем разного рода дидактические сочинения, содержащие основы наук, античная поэзия (Вергилий, Гораций) и драма (Теренций), эпистолярное наследие Цицерона, различные сочинения Эразма Роттердамского. Параллельно через сестру он знакомится с творчеством шотландского поэта Дэвида Линдсея, в драмах которого гуманистическое начало соединялось с критикой нравов духовенства и призывами к проведению королевской Реформации.
Важнейшее место в детских воспоминаниях Джеймса занимает память о его религиозном опыте, начавшемся с прозрения в результате чтения Священного Писания. Он отмечает, что «Дух освящения» начал рождать некое движение в его душе около восьми или девяти лет. Именно тогда он «стал молиться, укладываясь спать и вставая и прогуливаясь один по полям». Собственно и заканчивается детство для него событием высокого религиозного звучания, когда на тринадцатом году жизни он «принял причастие тела и крови Христовой впервые в Монроузе, с большим почитанием и смыслом…».
Протестантская автобиография, впрочем, не сводится к чисто религиозной проблематике. Она богата разнообразием и сюжетов, и авторских манер повествования. В описаниях детства XVI–XVII вв. можно встретить немало живых бытовых сцен, порой переплетающихся с религиозной полемикой и неожиданными антиримскими выпадами. Так, Варфоломей Састров охотно и весело рассказывает, что неприятие «папизма» проявилось у него еще в самом раннем возрасте, причем довольно своеобразно: как-то малышом, сопровождая мать-католичку, пришедшую помолиться в церковь, он сделал маленькие кучки (как он сам это называет, «маленькие пахучие жертвы») у всех трех церковных алтарей. В «Мемуарах» Ганса фон Швайнихена (1552–1616) – иной, особый случай: рисуемый им образ детства – это детство придворного. Мы видим мальчика, хотя и воспитывавшегося в страхе Божьем, но в силу своего возраста совершающего проказы, не очень стремящегося к знаниям, охотно услужающего своему господину и даже радостно терпящего от него оплеухи, с юных лет неудержимо любящего развлечения и светскую жизнь.
Калейдоскоп образов детства. Трудно не поразиться богатству и разнообразию впечатлений авторов этого времени о своем детстве. Это разнообразие, обусловленное причинами социального, культурного, личностного характера, находит выражение в выборе и построении автобиографических сюжетов, расстановке акцентов, самой «фактуре» жизненного материала, особенностях индивидуального опыта.
По-особому предстает детство в изображении итальянского врача, математика, натурфилософа и астролога Джироламо Кардано (1501– 1576). В своих ученых трудах и в своей автобиографии, которую он, по-видимому, также относит к ученым сочинениям, обнаруживается новый подход к пониманию человека, вписывающийся в изменившуюся картину мироздания165. Кардано убежден, что все в мире взаимозависимо и эти взаимосвязи скрыты от обычного взгляда, но доступные взору мудреца. Поэтому он фиксирует свое внимание на самых разнообразных деталях своего детства (ничто не может быть здесь второстепенным!): описывает свою внешность, все необычные случаи, с ним происшедшие, влияние расположения звезд при его рождении на складывание его характера и всю дальнейшую судьбу, перенесенные болезни (разнообразные и часто необычные), чудесные спасения от гибели, непростые отношения с родителями, часто относившимися к нему неоправданно сурово. Главная особенность этого детского автопортрета, пожалуй, заключается в том, что Кардано изображает себя, как он сам говорит, «аномальным». Все его автохарактеристики указывают на его несходство с другими детьми, причем отличается он от них вовсе не в лучшую сторону. А некоторые особенности или «признаки» Джироламо-ребенка, которыми автор, будучи уже в преклонных годах, считает необходимым поделиться с читателями, просто поразительны. Он сообщает, что появился на свет с длинными черными курчавыми волосами без всяких примет жизни; что на четвертом году ему стали являться причудливые образы и видения, созерцанию которых он охотно предавался лежа по утрам в постели; долгое время ночью его ноги никогда не могли согреться ниже колен, что все считали знаком того, что ребенок не проживет долго; что по ночам он покрывался испариной; наконец, что во сне ему стал часто видеться кошмар в образе петуха, пытающегося заговорить. Все это, по мнению Кардано, очень важно знать, все это характеризует его самого и его место в мире, хотя понять до конца, что же именно кроется за этими знаками исключительности, едва ли дано кому-нибудь из людей.
Мемуары королевы Франции и Наварры Маргариты Валуа (1553– 1615) рисуют ребенка в совершенно ином контексте и демонстрируют совершенно иное восприятие первых лет жизни. Образ, созданный в них, – это прежде всего образ puella politica, девочки-политика. С самого раннего возраста Маргарита оказывается втянутой в придворные интриги: выбор фаворита, достижение особой близости с королевой-матерью, исполнение поручений брата, герцога Анжуйского, при дворе, и все это на фоне событий большой европейской политики – вот, собственно и все, что помнит (или хочет помнить) Маргарита о своем детстве. Этот период мало чем отличается для нее от этапа взрослости, наступившей очень рано. Хотя отличия, конечно, есть – детство излишне наполнено суетными малополезными делами. «Теперь, глядя в свое прошлое, с пренебрежением думала я о детских забавах, о танцах, охоте, о друзьях детства, презирая все это как глупость и суету» – так вспоминает она свое прощание с ним.
Воспоминания о своих юных годах купца и путешественника Джона Сандерсона (1560–ок. 1627) напоминают содержимое маленького сундучка коллекционера – любителя древностей. Здесь можно встретить все мало-мальски примечательное, что только ему «попадалось под руку» в ходе разбора завалов памяти. Тяжелые роды матери, крещение, беспокойное и болезненное младенчество, странные нарывы на теле и «белые плоские черви в животе», от которых он не мог избавиться до 24 лет, необычное лечение, вследствие которого кожа полностью сходила с его живота, трудности с учебой и суровые телесные наказания за нерадение, болезнь и смерть отца, начало самостоятельной жизни в 17 лет. Все это с трудом складывается в единый цельный образ детства.
Деловые записи Феликса Гутратера (1589–1648) по своей форме похожи на хозяйственные дневники и «домашние хроники» итальянских купцов и деловых людей. Это сухая регистрация всех фактов и событий, которые автор по тем или иным причинам считает важными, – как связанных с ним самим и его жизнью, так и с членами его семьи, и шире – его города. Названия главок, на которые разбито его сочинение, достаточно красноречиво говорят о том, какие именно темы и сюжеты запечатлелись в памяти автора: «Родители», «Отчим», «Семилетний», «Опекуны», «Корь», «Немецкая школа», потом «Наводнение», «Мои детские занятия», «Несчастный случай», «Тесная дружба», «Путешествия» и т. п. Гутратер извлекает из хранилища своей памяти отдельные биографические фрагменты бессистемно, бездумно, «как придется», он не рисует живых сцен детских проказ, не раскрывает внутренний мир себя-ребенка – и все же его рассказ в известном смысле примечателен: детство присутствует в нем как отдельный период жизни и сведения о нем занимают вполне почетное и значимое место.
* * *
Очевидно, что восприятие детства авторами XIV–XVII вв. в своей принципиальной основе и похоже, и одновременно не похоже на сегодняшнее. Причем несходства тут особенно выпукло видны и особенно интересны. В чем же именно, зададимся вопросом, они состоят? Прежде всего в том, что аксиоматичный для XX в. образ детства как уникального и неповторимого опыта индивида, во многом определяющего его дальнейшую судьбу, в наших сочинениях не так-то просто разглядеть. В лучшем случае в них содержится лишь намек на такое понимание. Именно поэтому ни ренессансный писатель XVI в., ни протестантский священник XVII в., рассказывая о себе, обычно не обходится без тех или иных биографических образцов. В понимании самого себя он еще остается традиционалистом, он еще слишком «авторитарен», хотя уже и не в средневековом смысле166. И в этой еще не преодоленной спаянности с идеальным миром авторитетов заключается, пожалуй, главная особенность, отличающая его самосознание в целом и видение собственного детства в частности.
Только со второй половины ХVIII в. создатели автобиографий начинают более настойчиво заявлять о своей личности как о явлении единственном и неповторимом. Среди них особенно отчетливо выступает фигура Жан-Жака Руссо, вдруг необычайно остро ощутившего собственную исключительность и объявившего о ней в своей «Исповеди». «Я один, – не без упоения сделанным открытием заявляет он. —… Я создан иначе, чем кто-либо из виденных мною… я не похож ни на кого на свете» (курсив мой. – Ю. З.)167. А вспоминая о своей детской дружбе с двоюродным братом Бернаром, Руссо не может удержаться от того, чтобы не подчеркнуть ее необыкновенность, которая, конечно, коренится в его неповторимой индивидуальности. Он говорит об этой дружбе как о примере «может быть, единственном с тех пор, как существуют дети»168.
Подобное самовосприятие, очевидно, было теснейшим образом связано с интимизацией внутреннего мира индивида, рождением представлений о существовании в нем некоего скрытого ядра, его подлинного «Я»169. Свое отличие от других, свою обособленность и свое одиночество человек Нового времени стал осознавать именно исходя из существования этого никому кроме него по-настоящему не известного единственного во всей Вселенной внутреннего «Я». И именно тогда и стало складываться представление о детстве как о важнейшем периоде, когда происходит «закладка фундамента» такого «Я». В XX в., в особенности после открытий Фрейда, это представление стало незыблемой истиной для психологов, педагогов, философов и просто заботливых родителей, стремящихся к тому, чтобы их ребенок вырос счастливым человеком.
Юрий Зарецкий
156
Bowsma W. J. The Renaissance and the Drama of Western History // The American Historical Review. 1979. № 84. P. 1.
157
Буркгардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения: В 2 т. СПб., 1904–1906.
158
Jelis J. The Child: From Anonymity to Individuality // A History of Private Life. Part III: Passions of the Renaissance / еd. R. Chartier; Tr. A. Goldhammer. Cambridge (Mass.), 1989. P. 309–310.
159
Культура и общество в Средние века: методология и методика зарубежных исследований: Реферативный сборник. М., 1982. С. 222, 224.
160
Jelis J. Op. cit. P. 317–320.
161
См. текст первых двух глав воспоминаний Тересы в: Варьяш О. И., Зарецкий Ю. П. Святая Тереса Авильская и ее «Книга жизни». Перевод и комментарии // Вестник Университета Российской Академии Образования. 1997. № 2(3). С. 99–108.
162
Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М., 1971. Т. 5. С. 213.
163
См.: Кошелева О. Е. «История детства» как способ реконструкции и интерпретации историко-педагогического процесса в зарубежной историографии // Всемирный историко-педагогический процесс: концепции, модели, историография / под ред. Г. Б. Корнетова и В. Г. Безрогова. М., 1996. С. 209–210.
164
Здесь использованы биографические материалы, подготовленные К. Г. Челлини.
165
См.: Брагина Л. М. Гуманистические традиции в этико-философской концепции Джироламо Кардано // Культура Возрождения XVI века. М., 1997. С. 144–157.
166
Об обращенности сознания средневекового человека к идеальным жизненным моделям прошлого см.: Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 302.
167
Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения. М., 1961. Т. 3. С. 9–10.
168
Он же. Исповедь / пер. В. Устрялова. СПб., 1898. С. 9.
169
См. об этом: Кон И. С. Открытие «Я». М., 1978. С. 183–224.