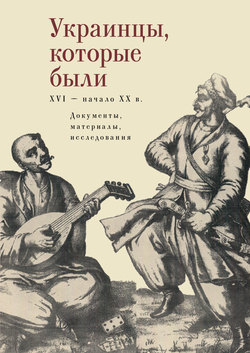Читать книгу Украинцы, которые были (XVI – начало ХХ века): документы, материалы, исследования - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 3
Раздел 1
Документы и материалы XVI–XVII веков
Ясинский М. Уставные земские грамоты Литовско-русского государства
ОглавлениеЯсинский М. Уставные земские грамоты Литовско-русского государства. Киев: Университетская типография (В.И. Завадского), 1889.
С. 1–5. «Место уставных земских грамот в системе современного им литовско-русского законодательства
С половины XIII в. различные русские земли стали входить в состав молодого и воинственного государства Литовского, частью покоренные Литовскими князьями, частью подчинившияся им почти добровольно[5]. При Гедимине почти окончательно сформировалось сильное своей военной организацией и страшное для соседей Литовско-Русское государство, прочно соединившее под одним государственным знаменем, без всякого ущерба друг другу и на равных правах, две совершенно различные народности, религии и цивилизации. Бедная, мало цивилизованная, но храбрая и воинственная горсть Литовцев подчинила своей власти обширную, многолюдную[6], щедро наделенную природою и весьма, сравнительно с Литвою, цивилизованную, хотя и несплоченную единою политическою властью и теснимую Татарами, Русь. При таких условиях Литва не могла, конечно, навязать Руси свои порядки и обычаи, не могла обезличить ее, но, наоборот, в свою очередь подчинилась мирному оружию Руси, ее цивилизации: русская образованность, русские порядки, русские язык и письменность становятся господствующими в новообразовавшемся государстве; Литовские князья охотно усвояют все русское, удерживают в присоединенных землях древнерусские порядки, сохраняют вечевое устройство городов[7], терпимо относятся к православной вере и даже сами принимают крещение по обряду православной церкви[8].
Русская цивилизация, влияя на все элементы литовской жизни, не могла не влиять в то-же время на юридическую жизнь Литовско-Русского государства, тем более, что раньше половины XIII ст. в Литве не существовало никаких письменных памятников юридической и политической жизни, а туземные литовские обычаи под напором более совершенных обычаев и порядков русских, понятно, должны были или совершение исчезнуть, или ассимилироваться с этими последними.
Обозревая памятники литовско-русского права, мы всюду находим указания на существование и господство в течение XIV–XV вв. русского обычного права. Таковы, например, выражения еврейского привилея от 1388 г.: «…и ж бы, подлуг обычая нашое земли, прав наших, был карай…»; «водлуг обычая земского мает заплатити вину…. которая здавна уложона» (Ак. 3. Р. I, № 9). В послушной грамоте жителям г. Брянска от 1450 г. говорится: «а суды судити по старине, как у вас издавно пошло, а своих новых судов, а никоторых пошлин новых не вводити…» (Ак. 3. Р. I, № 52). «Нехай то будет по тому, как здавна бывало…. бо мы старины не рухаем, а новины не уводим», говорит грамота 1486 г. (Ак. 3. Р. I. № 90).
Подобные же ссылки на древние обычаи, пошлины и вообще на старину «звечную и стародавную» встречаются во множестве и в других литовско-русских памятниках[9]. Из этих же памятников узнаем, что обычаи эти и пошлины издавна назывались русскими. Так, указание на господство в Литве русского обычного права мы встречаем еще в договоре Ольгерда с Польским королем Казимиром и с князьями Бельской и Подольской земли (от 1366 г.), где между прочим сказано, что поляки должны судиться по польскому, а русины (т. е. жители Литвы и Руси) по русскому праву[10]. Такие же указания находим и во всех привилеях на магдебургское право: «тое место нашо с права Литовского и Руского… в право Немецкое Майдеборское переменяем… отдаляючи там же ecu права, уставы и обычаи перво держаные» (Ак. З.Р. I, № 159)[11].
В некоторых грамотах[12] упоминаются также права: витебское, полоцкое, смоленское, киевское и т. д., что указывает на развитие и господство в каждой земле своих местных обычаев и порядков, а также на отсутствие общего для целого государства законодательства.
Все приведенные, а равно и многие другие, не приведенные здесь, но весьма часто встречающиеся, ссылки памятников на «здавна-уложенные» «обычаи и права земские», пошлину и старину несомненно указывают на господство обычного права в первый период существования Литовско-Русского государства. Господство обычая простиралось не только на сферу частных гражданских отношений, уголовного права и процесса, но даже различные стороны публичной, государственной жизни (каковы, например, административные, сословные и финансовые отношения) часто не были изъяты государством от влияния пошлины, старины, обычая, и здесь, т. е. в сфере чисто публичной, весьма многое было предоставлено автономии общин и регламентации путем обычного права. Государственная власть всюду и всегда ссылается не на закон, а па пошлину, старину, обычай, как на источник права, освящает их своим авторитетом, облекает часто в форму закона и ревниво охраняет от всяких нововведений: «нехай то будет по тому, как здавна было…. бы мы старины не рухаем, а новины не у водим…»; «бо мы никому новины не велим вводити, а старины рухати….» (Ак. 3. Р. I, №№ 90, 120, 127 и др.).
Такое господство обычаев, как главного и почти единственного в продолжение двух столетий источника права, обусловливается между прочим также отсутствием в Литовско-Русском государстве до конца XV в. какой-бы то ни было кодификационной деятельности в области законодательства: лишь в конце XV в., а именно в 1468 г. был издан первый законодательный сборник Литовско-Русского государства – Судебник Казимира.
Но и с появлением Судебника (1468 г) и несколько позже – Литовского Статута (в 1529 г.) законы писанные не подавляют живучести обычного права, не исключают его из области действующего права, так как, издавая Судебник и Статут, законодательная власть с одной стороны стремится между прочим узаконить обычай (обычаи были одним из главных источников не только Судебника, но и Литовского Статута), а с другой – оставляет за обычаем, пошлиной значение дополнительного источника действующего права во всех тех случаях, когда законодательные (писанные) нормы на практике окажутся недостаточными, когда по данному случаю не будет подходящих «артикулов»[13].
Одновременно с развитием и господством обычного права не бездействует и княжеская власть. Не довольствуясь одним пассивным отношением к народному обычаю, как господствующему источнику права, и почти молчаливым признанием его ненарушимости и авторитета, князья уже с конца XIV в. выступают с первыми попытками законодательной регламентации различных частных и публичных отношений. Впрочем, вся законодательная деятельность князей сводится в это время преимущественно лишь к узаконению господствующего обычая; внешним же образом она выражается в огромном количестве различного рода грамот, данных на отдельные частные случаи. Вызванные частным случаем, иногда личной милостью князя, несвязанные между собою одной какой-либо определенной законодательной идеей, акты эти отличаются сепаративным, случайным характером отдельных определений и отсутствием общих руководящих положений. При таких отличительных чертах первых письменных форм закона неписанное обычное право успешно конкурировало с ними и попрежнему широко применялось в жизни.
До нашего времени дошло большое количество грамот, изданных вел. князьями Литовскими по различным поводам, а вследствие этого чрезвычайно разнообразных по своему содержанию и назначению. В сборниках литовско-русских актов, изданных Археографическою Коммиссиею[14], напечатано более 20 видов этих грамот: договорные, различных родов жалованные, уставные, таможенные, судные, послушные, вотчинные, льготные правые, присяжные, поручные, позывные, охранные, окружные, вкладные и мн. др. Конечно, многие из дошедших до нас грамот не имеют почти никакого значения в истории источников права, но в общей массе грамот мы встречаем и такие виды их, которые имеют несомненно законодательный характер и представляют для историка права ценный материал, уясняющий ход дальнейшего развития литовско-русского права и характер этого развития.
Грамоты, имевшие несомненно законодательный характер, обыкновенно назывались в Литовско-Русском государстве «листами» и «привилеями». Привилей, или привилегия, был главною формою развития литовско-русского права до тех пор, пока содержание различных привилегий не обратилось в общий закон».
С. 7. «Несколько позже привилеев являются законы общего характера, регламентирующие различные стороны юридической жизни, преимущественно в тех сферах ее, где интересы государства сталкиваются с интересами частных лиц; является таким образом Судебник, издаются уставы и ухвалы.
Литовский Судебник, известный более под именем Судебника короля Казимира, был издан, как мы уже сказали, во второй половине XV ст., а именно в 1468 году».
С. 8. «Под именем «устав» и «ухвал» издаются с начала XVI в. специальные законы, посвященные отдельным вопросам гражданского, уголовного и процессуального права или же касавшиеся различных сторон государственного благоустройства, административных и финансовых отношений и пр. Вся разница между уставами и ухвалами основана на том обстоятельстве, от какого органа эти законодательные акты исходили, – от великого князя или сейма; в первом случае они обыкновенно назывались уставами, а во втором ухвалами».
С. 27. «Но более постоянной, нежели запретительно-охранительные грамоты по частному случаю, и более надежной, нежели всякие наказы тому или другому чиновнику, гарантией и защитой интересов населения служили те охранительные привилеи, или жалованные грамоты, которые давались различным местностям государства, и в которых раз навсегда подтверждались старые права и обычаи известной местности и определялись отношения между местными властями и населением.
Обращенная ко всему населению определенной местности, данная для защиты этого населения от всяких злоупотреблений со стороны местных правительственных органов, заключая, наконец, в себе руководящие положения, регламентацию различных отношений, такая охранительная грамота является уже не резолюцией вел. князя на жалобу населения и не инструкцией, данной тому или иному чиновнику, а уставной грамотой, пожалованной всему населению города, волости или земли».
С. 35–36. «Предмет настоящего труда – Уставные Земские Грамоты, т. е. те законодательные акты, которые давались отдельным землям, входившим в состав государства Литовского, в лице всего их населения, с целью подтвердить древние общие права каждой Земли, определить отношения ее к государству и его местным органам и регламентировать различные стороны местной общественной жизни, преимущественно на основании местных же обычаев».
С. 72. «Уставная грамота Бельскому повету пожалована была вел. кн. Александром в 1501 г. Эта первоначальная, как можно заключить из самого ее текста, грамота и дошла до нас в двух современных списках (латинском и русском), внесенных в Литовскую Метрику».
Уставная грамота Бельскому повету
С. 166–167.
«LXXV. Права угодий в чужих имуществах: 2.
О праве на бортные ухожья в чужом лесу.
7. Частокроть Русинове земяне тего повету нагабали о древо бартне, о соснове и о дубове; для тего мы так уставили: кгды некторе древо соснове або дубове зломило бы ся над бортью, теды жадный земянин не ма брать такового древа; естли бы теж нижей оней борти зломило бы ся, теды земянин о пень жадней вины не заплатит. Естли бы теж некторе древо бортно з бчолами с земли вывернуло ся Русинови, чиє оно древо есть: земянин, кторый бы о том вывроченью ведаль, ма Русинови поведать, штобы свою шкоду опатрил, и земянин може вытять улей, а поставить ма на борозне през один год, а остаток древа може на ся взять.
Русин теж таке древо бортно, тремя стримены, уступуючи, наверху ма назнаменовать, ижьбы к выробенью было оно древо знаемо, кторе ж древо ма стать на три лета; кгды выйдут три лета, естли бы древо, так назнаменовано, през Русина не было бы выробено, теды земянин може собе взять, ку своему пожитку, без жадней вины суду[15]. 137–159.
Saepius Rutheni terrigenas huiusmodi districtus vexabant, pro arboribus millificiorum, wlgariter barthne, pinatis et quercenis. Unde nos ita hoc statuimus: Quando aliqua arbor pinata, seu quercina, fracta fuerit, supra alueum, alias nad dzieniem, ex tunc, nullus ter-rigenarum huiusmodi, arborem tangere praesumere debebit, si autem inferius alueum, fracta fuerit, ex tunc, terrigena, yro trunco, alias a pien, huiusmodi arboris, nullam poenam luet. Et si aliqua arbor mellificia, alias barthne, cum apibus, de terra funditus euerteretur. Rutenus cuius arbor est: terrigena qui de ea euerisione sciverit, debet Ruteno dicere, ut damnum suum prouideat. Terrigena uero potest excidere ayiastrum, alias ul, et statuere ipsum debet in sulco, alias w brozdzie, per tempus unius anni, et residuitatem arboris prose recipere potent. Rutheniis etiam arborem huiusmodi mellifcialem, tribus sirreptis, alias suziemiony, conscindens, sursum signare tene-tur, ut ad laborandum nota fieret: arborque ea, per tres annos stare debet. Exspiratis demum tribus annis, si arbor sic ligata, per Ruthenum non elaborata fuerit, ex tunc terrigena huiusmodi arbore, poterit uti, pro necessitate sua, sine aliqua poena judicii. 147–176».
C. 180.
«LXXXVIII. Истребление бортнаго дерева.
7. Естли бы теж некторему Русинови некторый земянин древо очертил[16], або в земли[17] запалил, альбо теж на полю негкторего земянина; а естли бы онего земянина за то винил, до суда позвал: теды земянин власную свою присягу, за ся и за свою челядь, вниде от онего Русина; а естли бы теж Русин онего ж земянина в третий раз о таковуж рече до суда позвал, тен земянин винен платить на замок, водлуг уставы старой[18]. 159–169.
Si alicui Rutheno, aliquis terrigena arborem siccauerit, alias uczierzscil, aut succenderit, in terra, aut campo cuiuscunque terrigenae: si terrigenam pro eo inculpauerit, et judicialiter recognoa uerit, ex tunc jnramento proprio terrigena pro se ipso, et pro familia, euadet ipsum Ruthenum. Si autem idem Ruthenus eundem terrigenam, tertio pro huiusmodi siccatone, aut ustione citauerit extunc huiusmodi terrigena, tenebitur, et, astringi debebit, ad solutionem secundum consuetudinem antiquam. 176–188». C. 183–184.
«XCL. Особые определения относительно подсудности земян и русинов (в Бельском повете).
7, а) Кгды бы некоторый с земян в некоторей речи был обвинен през Русина, таковый земянин ма быть позван до судьи и до подсудка, а не инде; естли бы теж некоторый Русин позвал Поляка: староста наш и теж судья и с подсудком того Поляка мають судить. 95-101.
b) Ещо, земяне тегож повету за бортны древа не мають быть позваны до гаевника, але, яко первей выставено есть, ма быть позван до судьи або до подсудка земского своего, пред кторымь жо ма отповедать[19]. 169–173.
Quando aliquis terrigena, in aliquo, per Riitheniun inculpatus erit, quacunque re sit, huiusmodi terrigena, citari debet ad judicem et subjudicem, et non alibi. Si etiam aliquis Ruthemis pro mellificiis, alias о bare, Polonum citauerit: capitaneus noster cum judice et subjudice eundem Polonum judicare debent. 103–110.
Item terrigenae eiusdem districtus, pro mellifcis arboribus, alias o barci, citari non debent, nee quouis modo tenebuntur, ad exactorem exactionis nostrae mellis, wlgariter hajownik, sed ut prius expressum est, debent citari ad judicem et subjudicem terrestrem suum, coram quo, respondere tenebuntur. 188–195».
5
Первым приобретением Литовцев на Руси, еще в первой половине XIII ст., была так называема Черная Русь с городами: Новгородком, Сродном, Слонимом и Волковыском; остальные русские земли входили в состав Литовского государства в таком порядке: около половины XIII ст. – Полоцкая земля, около начала XIV ст. – княжества Пинское и Туровское, в начале XIV ст. (около 1320 г.) – земля Витебская, затем около 1340 г., с прекращением рода Галицко-Владимирских князей, земля Волынская и, наконец, в 1362 г. присоединяются к Литве Киевская и Подольская земли; вскоре после этого Литовские князья овладевают и Смоленском (см. «Монографии» В.Б. Антоновича, стр. 44–46 и 229).
6
Русские земли составляли более 9/10 всего пространства Литовско-Русского государства (см. «Монографии», стр. 229).
7
См. напр. Ак. 3. Р. I. № 60, откуда видно, что вече в некоторых древнерусских городах, подвластных Литве, существовало еще в XV в.
8
Так Гедимин, оставаясь язычником, не препятствовал однако своим сыновьям и дочерям (при их замужестве) принимать крещение.
9
См. напр. Ак. 3. Р. I, №№ 120, 147, 174, 175 и др.; II, № 203 и др. А. Ю. и З Р. I, № 4 и др.
10
Skarbiec diplomatow I, стр. 210–211 (№ 432)
11
См. также Ак. 3. Р. I, № 165; II, №№ 13, 61, 71 и др.
12
Ак. 3. Р. I, №№ 204, 213; II, №№ 70, 30 и др. См. также «Русско-Ливонские Акты», №№ CLIII (от 1405 г.), CLXIV, CLXV (1407 г.): «Аже Полочанин извинился у Ризе, ишо его послати у Польтеск; и тамо его свои и казнять своей правде»; «ино его там Полочане осудят по своему праву».
13
Лит. Статут 1529 г., Р. VI, ар. I (in fine): «А которых бы артикулов не было еще в тых правах вышей писано, тогды тое право мает сужоно быти водле старого обычая…». См. также ар. 37 того же раздела.
14
«Акты относящиеся к истории Западной России» и «Акты относящиеся к истории Южной и Западной России».
15
Настоящее постановление Бельской устав, грамоты вызвано, как это видно из самого его текста, многочисленными жалобами Русинов на земян (местных землевладельцев), которые неоднократно завладевали бортными деревьями, принадлежавшими Русинам. Сущность этого постановления заключается в след.: 1) если дерево, в котором Русин выделал борт, будет сломано ветром выше борти, то земянин не в праве воспользоваться таким деревом, если же – ниже борти, то он может распорядиться им по своему усмотрению; если же, наконец, ветром будет опрокинуто с корнем такое бортное дерево, в котором были уже пчелы, то земянин, известив об этом случае хозяина пчел может отрубить часть дерева с ульем и поставить ее на бортной меже («на борозне», «in sulco»), а остаток дерева взять себе; 2) Русин, желающий выделать борт в дереве, находящемся в лесу земянина, должен известным образом отметить («назнаменовать») это дерево и затем в течение трех лет непременно выделать в нем борт, в противном же случае земянин в праве распорядиться таким деревом, как ему будет угодно. Ср. Лит. Стат. (1529 г.), р. IX, ар. 4 и 7.
16
«Дерево очертить» (arborem siccare) – подрубить корни дерева или к.-л. иным образом сделать так, чтобы дерево засохло.
17
Слова «в (на) земли» стоят не на своем месте, их следует поставить перед словом «альбо». См. лат. текст.
18
Постановление это, вызванное, как и многие др. определения Бельской устав, грамоты, желанием предупредить частые столкновения между земянами и Русинами, носит местный характер и в общем чрезвычайно льготно для земян, или Поляков-землевладельцев: земянин, повредивший или истребивший бортное дерево, принадлежавшее Русину, при первом и втором обвинении может освободить себя от ответственности очистительною присягой и только при третьем обвинении в истреблении чужого бортного дерева подлежит уплате господарской пени. Каковы размеры этой пени, грамота не поясняет, а ссылается лишь на древний обычай. Лит. Стат, при истреблении борти. Дерева рассматривает три случая: было ли оно в момент истребления с пчелами, или без них, или, наконец, лишь предназначалось для выделки в нем борти; в 1-м случае виновный уплачивает потерпевшему копу грошей, во 2-м – полкопы, а в 3-м -1/4 копы или 15 грошей (Л. С. 1529 г., р. IX, арт. 14–16).
19
Отсюда видно, что в Вельск, повете, как и в Дрогич. земле (Ак. Зап. Рос. II, № 64), суд по делам, возникшим из-за бортных дерев, принадлежал господарскому гаевнику (см. лат. текст, откуда видно, что на гаевнике лежала обязанность собирать медовую дань); впрочем, для земян (т. е. Поляков-землевладельцев) сделано исключение: они и в этих делах подсудны лишь судье и подсудку.