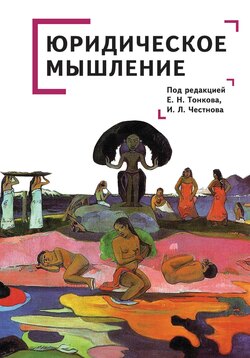Читать книгу Юридическое мышление: классическая и постклассическая парадигмы - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 7
Раздел I.
Философские и теоретико-правовые исследования юридического мышления
Глава 2. Юридическое мышление в семиотическом пространстве правовой реальности
2.2. Общенаучные аспекты знакового конструирования реальности
ОглавлениеДля начала рассмотрим фундамент любых видов знакового конструирования, а именно математику, эволюция средств, используемых которой, способствует все более плотному заполнению пространства как многомерной топологии реальности с целью устранения пробелов (разрывов), возникающих в нем в процессе познания76. Базовыми элементами такого конструирования, как известно, являются множества чисел (натуральных, целых, вещественных и комплексных), со времен Евклида представляемых в виде точек на плоскости. В математическом описании происходит расширение исходных множеств посредством добавления к ним новых элементов, образующих производные множества, отражаемое формулой: N ⇒ Z ⇒ Q ⇒ R ⇒ C. Одной из аксиом теории чисел является утверждение, согласно которому, сколь бы плотным ни было исходное множество, новое множество, сконструированное на его основе, повсюду плотно по отношению к данному исходному множеству. Имеет смысл и обратное утверждение: исходное множество повсюду плотно относительно сконструированного множества, т.е. равномощно ему. Так, множество Q рациональных чисел повсюду плотно относительно множества R вещественных чисел и т.п., что имеет следующую символическую запись: ∀r ∈ R,∀ ε > 0, ∃q ∈ Q: r – ε < q < r + ε77.
Аналогичное утверждение можно сформулировать применительно к любому иному числовому множеству, представляющему собой, следовательно, расширение исходного множества, на основе которого оно сконструировано. В частности, множество натуральных чисел расширяется до множества целых чисел в результате добавления таких элементов, как нуль и отрицательные числа. Сходным образом множество целых чисел расширяется до множества рациональных чисел путем введения конечных дробей, а последнее, введением бесконечных дробей, расширяется до множества иррациональных чисел. Наконец, невозможность удовлетворительным образом обеспечить когерентность пространственного континуума, оперируя только действительными числами, способствовала расширению последнего множества до множеств комплексных и гиперкомплексных чисел, позволяющих решать задачи, нерешаемые на множестве вещественных чисел. Например, многочлены n-ой степени, не имеющие вещественных корней, обладают только мнимыми (комплексными) корнями78. Тем самым комплексные и гиперкомплексные числа, частными случаями которых выступают числа вещественные, абсолютно плотным образом заполняют пробелы в абстрактном математическом пространстве, обеспечивая когерентность и континуальность последнего.
Исследование конструктивистских свойств числовых множеств, являющихся в подобном представлении не чем иным как совокупностями знаков с «нулевыми» референтами, соотносимых с любыми объектами реальности79, стимулировало развитие конструктивной математики, появление которой было обусловлено необходимостью устранению ряда противоречий, возникающих в рамках традиционных подходов. Предметом ее описания выступают так называемые конструктивные объекты, простейшие из которых «получаются с помощью сочетания букв, знаков или символов из конечного алфавита в цепочки или слова»80. Очевидно, что конструктивными являются не только числовые множества, но и различного рода нелинейные объекты (деревья, матрицы, графы и т.п.). Важнейшей особенностью любых конструктивных объектов является их самопорождаемость, позволяющая вводить и исследовать понятия рекурсивных множеств и отношений, задаваемых частично или полностью рекурсивными функциями (алгоритмами)81.
Результатом установления взаимной корреляции между отдельными знаками, являющимися точками на многомерной плоскости, становятся линейные функции вида f (x) = a0+ a1x1+ a2x2 + … + anxn и более сложные нелинейные функции, частным случаем которых служат булевы функции вида f (x) = (⊕ n(k=1)⊕(i1,… ,ik) a(i1,…,ik) xi1∙…∙ xik)⊕a082. Смысл рассматриваемых соотношений (равно как и вытекающих из них уравнений) состоит в том, что они описывают преобразования пространства83, что, в свою очередь, выступает условием трансформации любых феноменов, находящихся в этом пространстве, то есть их динамики, включая динамику эволюционную. Наибольшее значение, применительно к социокультурной, в том числе правовой, реальности, представляют различные случаи нелинейной динамики, характеризующиеся скачкообразным переходом системы в новое качественное состояние в результате бифуркации, происходящей под воздействием заранее не прогнозируемых флуктуаций.
Математическое описание таких процессов позволяет вести речь о катастрофической трансформации гладкой поверхности равновесий в окрестностях точек бифуркации и об образовании на этой поверхности «сверток», «складок» и «сборок» различного вида84. Наиболее интересной, как в плане математического описания и выводов, так и в плане физического смысла, является катастрофа, приводящая к образованию трехмерного пространства типа «ласточкин хвост», выражаемого формулой V = x5 + ax3 + bx3 + cx, где коэффициенты определяют пространственные параметры (измерения). В конечном итоге, можно различать два вида трансформаций многомерного пространства природной и социокультурной реальности, а именно движения, представляющие собой линейные преобразования, и скачки, являющиеся преобразованиями нелинейными85.
Из всего сказанного напрашивается вывод о том, что конструирование не только физического пространства, но и пространства социокультурной реальности, а также разнообразных феноменов последней является результатом познавательной и иной творческой активности индивида, чье мышление выполняет конструктивистскую функцию, без чего вести речь о реальности, как таковой, возможным не представляется. По мере конструирования реальности происходит совершенствование знаковых средств, в результате чего универсализуются взаимозависимости атомарных фактов, образующих ее исходный, базовый уровень86. Важным аспектом рассматриваемого процесса выступает смыслопорождающая деятельность мышления, в частности, юридического мышления, приводящая к возникновению все более сложных релевантностей, образующих смысловую структуру реальности. Имеются основания полагать, что эта структура задает пределы возможностей конструирования реальности и устанавливает его закономерности.
Таким образом, мышление в различных его аспектах (в том числе и юридическое мышление) можно рассматривать как смыслопорождающий процесс, лежащий в основе знакового конструирования реальности. Существует очевидная связь между культурой как пространством интерсубъективной коммуникации и совокупностью текстов, с одной стороны, и мышлением участников коммуникации, с другой87. При этом динамика культуры, обусловленная смыслопорождающей активностью последних, имеет ярко выраженный семиотический характер. Как отмечают Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский, «смена культур (в частности, в эпохи социальных катаклизмов) сопровождается обычно резким повышением семиотичности поведения (что может выражаться даже в изменении имен и названий), причем и борьба со старыми ритуалами может принимать сугубо ритуализованный характер»88.
Разные виды смыслов, обеспечивающие связь между знаками и феноменами социокультурной и правовой реальности, порождают различные знаковые формы, эволюционирующие в диахронной ретроспективе. Прослеживая данную эволюцию, М. Фуко выделил в рамках западноевропейской культуры несколько последовательно сменяющих друг друга эпистем, каждая из которых характеризовалась собственным типом семиозиса. По мысли философа, эпистема представляет собой способ соотнесения знаков с феноменами реальности (референтами) в контексте исторически и культурно детерминированных дискурсивных практик, причем переход к каждой новой эпистеме, заранее не прогнозируемый и не детерминируемый, становится причиной катастрофического разрыва когерентности социокультурной реальности. Фуко обнаруживает «два крупных разрыва в эпистеме западной культуры: во-первых, разрыв, знаменующий начало классической эпохи (около середины XVII века), а во-вторых, тот, которым в начале XIX века обозначается порог нашей современности»89.
Рождение современной методологии научного знания, всесторонне определившей многообразие средств, применяемых для конструирования различных видов реальности (как природной, так и социокультурной), принято связывать с переходом к классической эпистеме90. Имеет, однако, смысл обратиться к более подробному рассмотрению предшествующего этапа эволюции знания (и эволюции знаковых средств конструирования реальности соответственно), тем более что М. Фуко, а вслед за ним и другие авторы, уделяют значительное внимание этому весьма продолжительному отрезку истории познавательной деятельности. Более того, расширяя исходную установку, эпистемы, выделенные Фуко, рассматривали во всемирно-историческом плане. Так, С. С. Аверинцев различал три типа культурного семиозиса, отчасти совпадающих с «эпистемами», а именно: дорефлективно-традиционалистский, соотносимый с древневосточной и античной культурами, рефлективно-традиционалистский, утративший значимость в эпоху модерна, и современный, характеризующийся радикальным разрывом с традиционной установкой91.
Характерной чертой дорефлективной установки является опосредованный характер семиозиса, при котором знаки соотносятся с референтами не напрямую, а посредством образов, принадлежащих к общекультурному фонду, что обусловливает символичность знаковых средств конструирования реальности (в том числе реальности юридической). Именно таким способом в условиях неразвитости соответствующих видов мышления обеспечивается когерентность атомарных фактов реальности, связываемых через посредство образных ассоциаций. Мишель Фуко выделял четыре вида таких ассоциаций, а именно: пригнанность, соперничество, аналогия и симпатия. Указанные способы семиозиса, определявшие метод конструирования реальности еще в античную эпоху, насколько можно судить по сочинениям древнегреческих и римских авторов92, «говорят нам о том, как мир должен замыкаться на самом себе, удваиваться, отражаться или сцепляться с самим собой для того, чтобы вещи могли походить друг на друга»93.
При таком положении дел оказывается неудивительным, что главной целью дорефлективного мышления становится не столько обнаружение претендующих на универсальность причинно-следственных связей между отдельными «атомарными» фактами, сколько их описание, каталогизация и систематизация которые бы позволили дать по возможности исчерпывающее описание реальности с ее фактической стороны. В основе такого стремления лежала присущая дорефлективному мышлению уверенность в статичности и, следовательно, потенциальной исчерпаемости реальности. Со временем (правда, это время было чрезвычайно продолжительным во всемирно-историческом плане) стала очевидной несостоятельность подобной установки в силу неустранимость присущей миру динамики. Ведь даже попытки описания атомарных фактов, из которых состоит этот мир, не говоря уже о практическом освоении последнего, приводит к его трансформации, проявляющейся, в том числе, в изменении фактического состава, который приходится всякий раз описывать заново.
Этот бесплодный труд, занимавший жизнь целых поколений, в конечном итоге и стал одной из причин перехода к рефлективной установке, присущей классической рациональности европейского Нового времени. Для классической рациональности, прежде всего, характерен радикальный поворот от описания атомарных фактов к обнаружению всеобщих причинно-следственных связей между ними и математическому описанию этих связей. Тем самым, сначала физическая, а затем и социокультурная, реальность стали конструироваться с помощью всеобщих законов, математически формулируемых на основе атомарных фактов. Естественно, что ассоциативные связи между явлениями, вполне удовлетворявшие дорефлективное сознание, оказались непригодными для описания законов природы и человеческого общества.
Вот почему наука данного периода была все еще связана с разнообразными оккультно-мистическими и религиозными воззрениями, доставшимися в наследство от Средних веков и эпохи Возрождения, для проверки и обоснования которых применялся уже вполне оформленный экспериментальный метод, повлиявший на становление рационалистической науки Просвещения. Яркой иллюстрацией сказанному может служить деятельность Я. Б. Ван Гельмонта, предпринявшего попытку опытным путем обнаружить проявления в живых организмах сверхъестественной «жизненной силы», которая умозрительно постулировалась еще средневековыми алхимиками94. Наиболее известным, и в определенном смысле образцовым, является поставленный им эксперимент с ивовой ветвью, в дальнейшем послуживший одним из доказательств фундаментального закона сохранения вещества. Противоречивое сочетание оккультных теорий с рационалистическими методами их обоснования характерно и для ряда других естествоиспытателей начала XVII в. прежде всего таких, как Дж. Ди, Д. Б. Делла Порта, Р. Фладд, И. Р. Глаубер и др.
Поиски истоков мистической «тайной мудрости» побуждали ученых активно обращаться к эзотерическим учениям Востока, интерес к которым возрастал в условиях активизации торговых, дипломатических и иных контактов с исламским миром, Китаем и Юго-Восточной Азией. В свою очередь, попытки совместить подобного рода доктрины с формирующейся эмпирической методологией стимулировали изыскания в области древней (прежде всего, библейской) истории, археологии, лингвистики, филологии. Их результатом становились подчас весьма причудливые построения, синкретически объединявшие элементы естественнонаучного и гуманитарного знания с откровенными измышлениями, вызванными к жизни все тем же символизмом, возведенным в ранг основного методологического принципа гуманитарного познания, нацеленного на обнаружение скрытых смыслов тех или иных культурных феноменов.
При всех коренных пороках такого подхода, нельзя не заметить, что он внес значительный вклад в накопление фактических знаний о человеческой культуре, долгое время остававшейся вне поля зрения ученых, первоначально являясь единственно возможным способом объяснения этих фактов. Результатом рассматриваемых процессов становится расцвет гуманитарных наук, значительный вклад в развитие которых внесли И. Ю. Скалигер, Ю. Липсий, Ж. Кюжа, М. Бойм и др. Гуманитарные штудии занимали центральное место в творчестве Атанасиуса Кирхера, последнего универсала Европы, чей круг интересов включал лингвистику и филологию, историю и археологию, математику и астрономию, физику и медицину, географию и горнорудное дело95. Он был первым, кто, задолго до Шампольона и Нибура, предпринял попытку дешифровки древневосточной иероглифической письменности96. И хотя фантастичность и несостоятельность разнообразных кирхеровских теорий была очевидна уже современникам, их стимулирующее воздействие в плане становления рационалистической парадигмы Нового времени, трудно переоценить.
Усилия этих, а также многих других, интеллектуалов позволили окончательно сформироваться науке нового типа, основной целью которой являлось не метафизическое установление подобия и различия символов, но открытие всеобщих причинно-следственных связей, существующих между природными и социальными явлениями. Ее фундаментом стал современный научный метод, пришедший на смену спекулятивным приемам, широко применявшимся в средневековой и ренессансной Европе97. К числу основных методологических принципов науки Нового времени, как известно, относятся: объективность познания; опора на факты, получаемые экспериментальным путем, при построении общей теории, предназначенной для того, чтобы по возможности полно и непротиворечиво эти факты объяснять; отказ от любых сверхъестественных объяснений, которые не могут быть подтверждены наблюдениями и опытом и т.п. Как было неоднократно отмечено, применение научного метода направлено на создание формализованных моделей, адекватно воспроизводящих исследуемые объекты98. Однако моделирование объектов реальности никогда не рассматривалось в качестве самоцели, поскольку призвано служить решению задач, продиктованных практическими потребностями общества.
Нетрудно заметить, что победа научного метода, столь блистательно примененного в трудах Р. Декарта, Б. Паскаля, И. Ньютона, Г. В. Лейбница и др., была подготовлена всем ходом предшествующего интеллектуального развития и в особенности тем количественным ростом знания, который имел место в течение первой половины XVII в. Учитывая сказанное, нельзя не согласиться с высказыванием А. Н. Уайтхеда, по мысли которого, западная цивилизация Нового времени жила «используя накопленный гением XVII в. капитал идей. Люди той эпохи восприняли идейную закваску, рожденную историческим переворотом XVI в., и оставили в качестве своего завещания целостные системы, объемлющие все аспекты человеческой жизни. То был единственный век, который, последовательно используя всю сферу человеческой деятельности, породил интеллектуального гения, достойного величия исторических событий»99.
Становление классического типа рациональности потребовал внедрения новых семиотических средств конструирования реальности, обеспечивающих не только ее когерентность, но и динамику различных сегментов, включая правовую реальность, равно как и самой реальности в целом. Эти средства утратили свою образно-символическую составляющую, опосредствовавшую связь планов означаемого и означающего, превращаясь собственно в знаки, представляющие собой, согласно определению Ф. де Соссюра, двустороннюю связь между понятием (психическим образом в сознании) и его внешним (акустическим или графическим) выражением100. Такие знаки, порождаемые конструктивной деятельностью человеческого сознания, оказываются более пригодными для того, чтобы формировать устойчивые общезначимые связи между атомарными фактами, чем символы, целиком ориентированные на фактическую конкретность реальности.
Вместе с тем отличительной особенностью классического мышления или, иначе говоря, классической рациональности, в том числе мышления правового101, являлся механицистский подход к реальности, получивший наглядное выражение в законах ньютоновской механики102. Любые законы, формулируемые в поле классической рациональности, призваны были описывать цепочку причинностей, восходящую к умозрительно постулируемой (и рациональными средствами неверифицируемой) первопричине, каковой выступала божественная воля. При этом возможность саморазвития, самопроизвольной динамики не просто не принимались в расчет, но, более того, целенаправленно элиминировались. Данная установка проявила себя в генерируемых классическим мышлением знаковых комплексах, имевших статичный характер и не включавших в себя динамическое измерение. Как писал Ф. Соссюр, на идеи которого классическая рациональность оказала значительное воздействие, «для говорящего не существует последовательности… фактов во времени: ему непосредственно дано только их состояние, Поэтому и лингвист, желающий понять это состояние, должен закрыть глаза на то, как оно получилось, и пренебречь диахронией. Только отбросив прошлое, он может проникнуть в сознание говорящих»103.
Переход к постклассическим (неклассическому и постнеклассическому) типам рациональности ознаменовался открытием исторического измерения реальности, в том числе реальности социокультурной и правовой. Отныне основной задачей познания становится конструирование реальности в ее эволюционной динамике. Указанное обстоятельство повлекло за собой радикальную трансформацию знаковых средств конструирования, придание им объемности посредством добавления к двусторонней связи означающего и означаемого динамического измерения104. В результате знаковые комплексы (каковыми являются все культурные феномены, включая право) превращаются в сложные саморазвивающиеся системы, математически описываемые при помощи нелинейных уравнений, задающих трансформации социокультурного пространства.
Представляется не случайным, что предметом особенно пристального внимания гуманитарных наук становятся структуры сознания, трансформация которых определяет динамическое измерение культурного семиозиса. Такие структуры описываются как универсальные грамматики, обладающие текстопорождающими свойствами. Одна из наиболее известных и эвристически удачных моделей универсальной грамматики была предложена Н. Хомским, различавшим глубинные и поверхностные языковые структуры. По мнению ученого, любые высказывания, во всем их многообразии и сложности, порождаются при помощи ограниченного набора правил, принадлежащих глубинной (генеративной) грамматике, на подсознательном уровне доступных каждому говорящему и определяющих условия трансформации поверхностных синтаксических структур105. Тем самым удалось совместить структурный и трансформационный аспекты семиозиса, что привело к утрате релевантности предложенной Соссюром дихотомией синхронии/диахронии.
Рассмотренная лишь в самых общих чертах модель эволюции знаковых средств конструирования социокультурной реальности получает свое подтверждение при обращении к фактографическому материалу из истории человеческих языков106, которые первоначально складываются из окказионально мотивированных индивидуальных знаков, обладающих максимальной степенью конкретности и обозначающих единичные предметы. Простейшим (и наиболее ранним) примером таких знаков являлись ручные жесты, выступавшие, по мнению некоторых ученых, первым способом знаковой коммуникации. Теорию возникновения языка из жестов пытались обосновать уже в античную эпоху такие философы, как Эпикур, Лукреций и др.107
Впоследствии одним из наиболее активных сторонников теории жестовой коммуникации стал Н. Я. Марр, видевший в ней отправную точку эволюции не только языка, но и ряда иных социальных институтов108. В настоящее время данная концепция считается маргинальной и подвергается отчасти небезосновательной критике. Высказывается, однако, и иная точка зрения, указывающая на бесспорные достоинства жестовой теории, позволяющей объяснить действие базовых психофизиологических механизмов, лежащих в основании всех более сложных форм знаковой коммуникации109. По мере становления и развития звукового языка, элементы жестовой коммуникации сохранились в его структурах в виде эмфатических ударений, восклицательной интонации110 и в особенности так называемых дейктических слов, играющих, как показал К. Бюлер, важную роль в конструировании пространственных отношений с участием говорящего111.
Индивидуальный, и, следовательно, предельно конкретизированный и приуроченный к отдельным коммуникативным ситуациям, характер первичных форм знаковой коммуникации находит свое проявление в идиолектах, из которых, по мнению некоторых лингвистов, и состоит язык любого человеческого сообщества на ранних этапах развития112. Как утверждал В. Гумбольдт, «все люди говорят как бы одним языком, и в то же время у каждого человека свой отдельный язык. Необходимо изучать живую разговорную речь и речь отдельного индивидуума»113. В ходе эволюции на основе множества идиолектов формируется единый язык, обязательный для всех членов языкового сообщества114. При этом индивидуальные различия, проявляющиеся в идиолектах, не утрачивая в целом своего значения, в той или иной мере нивелируются. Активную роль здесь играют процессы нормализации, происходящие в любом языке, достигшем известной ступени развития.
Одной из наиболее значимых предпосылок нормализации является утрата семиотическими средствами, используемыми языком, а также иными семиотическими системами, включая право, своей непосредственной образной выразительности и превращение их в знаки, способные сигнифицировать большие классы предметов, обладающих общими признаками115. Исследования А. М. Хокарта продемонстрировали, что эволюция от знака-изображения к знаку-символу имеет общекультурное значение и затрагивает любые переплетенные с естественным языком сферы коммуникации, например, политические и правовые ритуалы, практиковавшиеся в древних обществах116. Важную роль здесь играет научное знание, способствующее концептуализации культуры и формированию категориального аппарата, с помощью которого обеспечивается семантическое единообразие различных сфер культурной реальности, включая и реальность правовую117.
Данное обстоятельство, применительно к лингвистической семантике, описывает Вяч. Вс. Иванов, по словам которого: «Развитию от конкретных изображений к символам в языках соответствует сходное перемещение теоретических интересов по отношению к языку. Для ранних этапов сознания (в частности, отраженных в мифах) основной проблемой являлась связь знака и предмета, что сказывается в преданиях о наименовании вещей… Современная лингвистическая семантика, развитие которой началось с исследования знаков, обозначающих концепты, меньше всего занимается этим кругом вопросов»118. То же самое можно сказать и о юридической науке, правотворческое значение которой состоит в том, что она, формируя систему средств знакового конструирования правовой реальности, создает условия для нормализации последней.
76
См.: Рейхенбах Г. Философия пространства и времени. Изд. 3-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010.
77
См.: Феликс Л. Элементарная математика в современном изложении. М.: Прогресс, 1967. С. 53–54.
78
Возможность решения таких уравнений была очевидна уже Р. Декарту. См.: Декарт Р. Геометрия. М.: ГОНТИ, 1938. С. 76 и след
79
См. об этом: Манин Ю. И., Панчишкин А. А. Введение в теорию чисел // Итоги науки и техники. Сер.: Современные проблемы математики. Фундаментальные направления. 1990. Т. 49. С. 6.
80
Мартин-Лёф П. Очерки по конструктивной математике. М.: «Мир», 1975. С. 9.
81
Там же. С. 15–17.
82
См. подробнее: Токарева Н. Н. Нелинейные булевы функции: бета-функции и их обобщения. Саарбрюккен: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. С. 8 и след.
83
См.: Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. Т. 1. М.: «Наука», 1987. С. 128 и след.
84
См.: Арнольд В. И. Теория катастроф // Итоги науки и техники. Сер.: Современные проблемы математики. Фундаментальные направления. 1986. Т. 5. С. 223.
85
См.: Кубышкин Е. И. Нелинейная алгебра пространства-времени. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.
86
См. подробнее об этом: Рассел Б. Философия логического атомизма. Томск: Водолей, 1999. С. 8–9.
87
См., в частности: Поляков А. В. Право и коммуникация // Поляков А. В. Коммуникативное правопонимание: Избр. труды. СПб.: ООО Издат. дом «АлефПресс», 2014. С. 11–32.
88
Лотман Ю. М., Успенский Б. А. О семиотическом механизме культуры //Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: «Искусство-СПб», 2000. С. 485.
89
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: «A-cad», 1994. С. 35.
90
См., в частности: Хомский Н. Картезианская лингвистика. Глава из истории рационалистической мысли. Изд. 2-е. М.: КомКнига, 2010. С. 18–19; Grammont M. Review of A. Gregoire, «Petit traité de linguistique» // Revue des langes romanes. 1920. Vol. 60. P. 439.
91
См., в частности: Аверинцев С. С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» (противостояние и встреча двух творческих принципов) // Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М.: «Наука», 1996. С. 15.
92
Яркой иллюстрацией символически-ассоциативного восприятия реальности является известный логический квадрат, прообраз которого впервые был намечен в трудах Аристотеля и который получил свое завершенное оформление в трудах средневековых философов, таких, как Абеляр и Михаил Пселл. В дальнейшем эта схема, подвергшаяся переосмыслению в новых социокультурных условиях, была взята за основу семиотического квадрата, призванного отобразить не только понятийные отношения, но и их знаковое выражение. См.: Greimas A. J., Rastier F. The Interaction of Semiotic Constraints // Yale French Studies. 1968. Vol. 41. P. 86–105.
93
Фуко М. Указ. соч. С. 62.
94
Санатко М. Д., Мустафин Д. И. Ятрохимия в поисках устойчивого развития // Успехи в химии и химической технологии. 2014. Т. XXVIII. № 4. С. 93.
95
Findlen P. The Last Man Who Knew Everything… or Did He? // Athanasius Kircher: The Last Man Who Knew Everything / ed. P. Findlen. New York: Routledge, 2004. P. 1–48.
96
Карабыков А. В. Между «Кратилом» и каббалой: проблема возникновения языка в «Вавилонской башне» Афанасия Кирхера (1679) // Вопросы философии. 2015. № 6. С. 155.
97
Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науке. С. 260.
98
См.: Пропп М. В. Научный метод // Вестник ДВО РАН. 2004. № 1. С. 138– 149; Ярцев Р. А. Научное исследование: от личностной максимы к универсальному методу // Гуманитарный вектор. 2013. № 2 (34). С. 98–103.
99
Уайтхед А. Н. Наука и современный мир // Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии. М.: «Прогресс», 1990. С. 95.
100
См.: Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. Екатеринбург: Изд. Уральск. унта, 1999. С. 68–70.
101
См.: Разуваев Н. В. Современная теория права в поисках постклассической парадигмы познания // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2014. № 5. С. 143–144.
102
См.: Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеалы рациональности. СПб.: Азбука-Аттикус, 2010. С. 38 и след.
103
Соссюр Ф. Указ. соч. С. 83.
104
См.: Чертов Л. Ф. «Знаковая призма»: пространственная модель семиозиса // Чертов Л. Ф. Знаковая призма: статьи по общей и пространственной семиотике. М.: Языки славянской культуры, 2014. С. 57–68.
105
См.: Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М.: Изд. МГУ, 1972. С. 61 и след.
106
В литературе неоднократно предпринимались попытки обнаружить общие закономерности эволюции права и языка, обусловленные их тесным взаимодействием и взаимопереплетением в процессах знаковой коммуникации. См., например: Касаткин А. А. История языка и история права (на материале некоторых романских языков) // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. 1964. Т. XXIII. Вып. 2. С. 113–124; Проскурин С. Г. Эволюция права в свете семиотики // Вестник НГУ. Сер.: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2008. Том 6. Вып. 1. С. 48–53.
107
См.: Верлинский А. Л. Античные учения о возникновении языка. СПб.: Изд. СПбГУ, 2006. С. 333.
108
Марр Н. Я. Язык // Марр Н. Я. Основные вопросы языкознания. М.: Соцэкгиз, 1935. С. 129.
109
См.: Иванов Вяч. Вс. Нечет и чет: Асимметрия мозга и динамика знаковых систем // Иванов Вяч. Вс. Избр. труды по семиотике и истории культуры. Т. I. М.: «Языки русской культуры», 1999. С. 487 и след.
110
См.: Блумфилд Л. Язык. Изд. 2-е, стереотип. М.: Едиториал УРСС, 2002. С. 116.
111
См.: Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка. М.: «Прогресс», 2002. С. 82 и след.
112
См.: Богданова Е. В. О некоторых аспектах изучения термина идиолект в отечественной и западной лингвистике // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2009. Т. 1. № 4. С. 100–108.
113
Гумбольдт В. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества // Гумбольдт В. Избр. труды по языкознанию. М.: «Прогресс», 1984. С. 45.
114
Очевидную параллель идиолектам представляют так называемые индивидуальные правовые нормы, в которых некоторые исследователи усматривают первый этап развития правовой нормативности. См.: Муравский В. А. Роль индивидуальных норм в образовании актуального права // Ежегодник Института философии и права Уральского отделения РАН. 2002. № 3. С. 283–303.
115
См.: Иванов Вяч. Вс. Лингвистика и гуманитарные проблемы семиотики // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. 1968. Т. XXVII. Вып. 3. С. 241.
116
Hocart A. M. Kings and Councillors. Cairo: Egyptian University Press, 1936. P. 151.
117
О различных аспектах концептуализации культурной семантики см. подробнее: Проблемы функциональной грамматики: Категоризация семантики / отв. ред. А. В. Бондарко, С. А. Шубик. СПб.: Наука, 2008.
118
Иванов Вяч. Вс. Лингвистика и гуманитарные проблемы семиотики. С. 241.