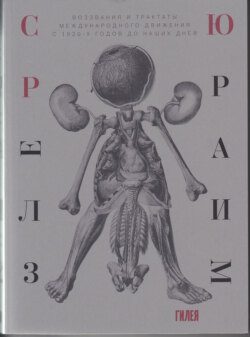Читать книгу Сюрреализм. Воззвания и трактаты международного движения с 1920-х годов до наших дней - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 9
1920‑е
Hands off love
ОглавлениеТе идеалы, к которым ещё можно призывать и которые имеют хоть какую‑то силу в этом мире; то, что ценно, что стоит защищать прежде всего и вопреки всему; что грозит любому человеку неминуемой санкцией судьи – и задумайтесь на минутку о том, насколько каждое мгновение вашей жизни зависит от судьи, к которому вы попадаете за малейший проступок, – короче, то, что обрекает мир на провал (например, гений): всё это недавний процесс выставил внезапно в поистине ослепительном свете. Личность ответчика и природа того, в чём его обвиняют, стоят того, чтобы подробнее остановиться на иске г-жи Чаплин (с которым мы смогли ознакомиться на страницах «Гран Гиньоля»). В наших дальнейших утверждениях мы, безусловно, исходим из того, что речь идёт о документе подлинном, и что факты, вменяемые Чарли Чаплину в вину, и его высказывания, изложенные в жалобе, соответствуют истине – хотя сам он и вправе их отрицать. Попробуем разобраться, чтó было решено обратить против такого человека и какие средства брошены на то, чтобы его уничтожить. Эти средства причудливым образом отражают усреднённое представление о морали, распространённое в 1927 году в Соединённых Штатах, – то есть в одном из самых значительных скоплений людей на планете: представление, стремящееся распространиться по миру, подминая под себя все остальные, поскольку Северная Америка – это не только гигантское скопище товаров, под обилием которых она вот-вот задохнётся, но и бескрайний резервуар человеческой глупости, грозящей затопить и нас, окончательно оболванивая абсолютно бесхребетную европейскую публику, неизменно повинующуюся воле того, чья ставка выше.
Чудовищно, что существует служебная тайна для врачей, которая, в конечном счёте, всего лишь прикрывает неуместную стыдливость, однако любое её нарушение оборачивается для хранителей такого секрета беспощадными гонениями, – но подобной тайны нет для замужних женщин. Вместе с тем роль жены – такое же ремесло, как и все остальные, с того момента, как женщина считает себя вправе требовать удовлетворения своих материальных и сексуальных потребностей. У мужчины, которого закон вынуждает жить с одной-единственной женщиной, нет иного выбора, кроме как пытаться привить ей собственные нравы, надеясь на её понимание и снисхождение. Но если она выставляет его на растерзание толпы, то почему закон, наделяющий супругу самыми произвольными правами, не обернётся против неё со всей строгостью, которой заслуживают столь отвратительное злоупотребление доверием и клевета, столь очевидно подпитываемая самым корыстным интересом? Да и потом, как вообще можно отдавать нравственность на откуп закону? Это абсурдно! И говоря об эпизодических терзаниях, упоминаемых добропорядочной и целомудренной г-жой Чаплин, просто смешно считать уродливой, противоестественной, извращённой, вырожденческой и непристойной практику орального секса[4]. (В браке все так поступают, – блестяще парирует Чаплин.) Будь возможной хоть сколь‑либо свободная дискуссия о нравах, тогда нормальным, естественным, здоровым и благопристойным как раз было бы отказать в жалобе супруге, убеждённой, что в таких бесчеловечных условиях ей пришлось отвергать столь распространённое и абсолютно невинное, приемлемое занятие. Как вообще при подобной глупости истице позволено говорить о любви – а именно к ней осмеливается апеллировать это создание, в 16 лет и два месяца сознательно пошедшее под венец с обеспеченным человеком, за каждым шагом которого следит общественное мнение, и родившее ему двух детей, вне всякого сомнения, через ухо, ибо ответчик никогда не имел с ней подобающих супругам брачных сношений, – детей, которых она выставляет на всеобщее обозрение точно грязные вещественные доказательства собственных интимных потребностей? Курсив тут наш, и отталкивающие формулировки, которые он призван выделить, мы позаимствовали у истицы и её адвокатов, основное стремление которых – загнать живого человека в угол при помощи самого омерзительного клише безмозглой бульварной прессы: образа матери, называющей отцом своего законного любовника, и всё это с единственной целью – содрать с этого человека подать, о которой не могло мечтать и самое требовательное Государство: подать, довлеющую прежде всего над его гением, даже стремящуюся его этого гения лишить или уж, в любом случае, опорочить самое ценное воплощение такой гениальности.
В жалобах г-жи Чаплин можно выделить пять главных доводов: 1) эту даму совратили; 2) обольститель заставлял её избавиться от ребёнка; 3) на брак он пошёл лишь по принуждению, под давлением и уже с намерением развестись; 4) с этой целью он, следуя загодя составленному плану, обходился с ней оскорбительно и жестоко; 5) обоснованность этих обвинений доказывается уже самим аморальным характером повседневных высказываний Чарли Чаплина и его весьма абстрактным представлением обо всём, что только есть на свете самого святого.
Преступность совращения установить обычно довольно сложно, поскольку основной составляющей подобного преступления является собственно факт соблазна. Такое злодеяние, на которое согласны обе стороны, а отвечать приходится лишь одной, осложняется ещё и тем, что доказать, какую роль сыграла инициатива и провокация со стороны самой жертвы, решительно невозможно. Но в данном случае чистой душе повезло, и раз уж соблазнитель не собирался играть с ней идеальной свадьбы, в итоге она своей бесхитростностью возобладала над этим дьявольским существом. Можно только поразиться такому упорству и даже упрямству со стороны столь юного и беззащитного создания. Если, конечно, она не решила, что единственная возможность стать женой Чарли Чаплина – это сначала переспать с ним, а потом… ах, нет, не будем о совращении, это целое дело, и какое запутанное, её почти бросили, беременную.
И вот тогда‑то, подталкиваемая к операции, которую сама она называет преступной, несчастная будущая мать в момент бракосочетания отказывается от неё по причинам, к которым стоит присмотреться внимательнее. Она жалуется, что её состояние стало достоянием общественности – и что жених приложил к этому все мыслимые усилия. Очевидное противоречие: кому на руку подобная публичность; кто отказывается от единственной возможности воспрепятствовать тому, что в Калифорнии считается скандальным? Но теперь сила на стороне жертвы, она может повторять во всеуслышание, что её заставляли сделать аборт. Вот что становится решающим аргументом – а не слово преступника, причастного к акту, нарушающему все общественные, законные и моральные установления и уже потому отвратительному, ужасающему и противному инстинктам матери (жалобщицы) и её чувству материнского долга защищать и сохранять, – причём из слов Чарли Чаплина как раз не забыто ни одно. Всё записано, фразы, произносившиеся наедине, обстоятельства, порой даже даты, с того самого дня, когда будущая г-жа Чаплин решила поставить во главу угла свои инстинкты, превратить себя в памятник нормальности: пусть и вне уз законного брака, она продолжила – подчёркивается в иске – любить своего жениха несмотря на его возмутительные предложения, и вот она уже становится шпионом в семейном алькове, ведущим свой жертвенный дневник, дотошно подсчитывая пролитые слезы. Третий упрёк, который она обращает своему мужу, не касается ли он её в первую очередь? Не вступила ли она сама в брак с твёрдым намерением выйти из него – но уже с солидным состоянием и положением в обществе? А четвёртый пункт обвинения – то обращение, которое пришлось сносить г-же Чаплин в браке: если рассмотреть его детально, является ли оно результатом попыток Чарли Чаплина довести её до отчаяния или же, скорее, естественным следствием каждодневного поведения женщины, коллекционирующей оскорбления, вызывающей и смакующей их? Отметим походя зияющую лакуну в её изложении: г-жа Чаплин забывает упомянуть о точной дате, с которой она перестала любить мужа. Но, может статься, она любит его до сих пор.
В подтверждение своих слов и как допустимые доказательства плана, изложенного в тексте жалобы, она приводит высказывания Чарли Чаплина, услышав которые, добропорядочный американский судья не способен воспринять ответчика иначе, как домашнего тирана и Отъявленного Злодея, а не нормального человека. Коварство этого манёвра, его действенность всем очевидны. И вот уже взгляды Шарло, как его называют во Франции, и по самым жгучим вопросам, брошены нам в лицо самым неприглядным образом, каковой неизбежно проливает особый свет на мораль тех фильмов, что так волновали, так почти безраздельно занимали нас в своё время. Это тенденциозное изложение – вполне в духе того неусыпного надзора, которым американская публика окружает своих любимцев и который, как мы видели на примере Фатти Арбакла1, может в один миг уничтожить человека. Наша добронравная супруга разыграла эту карту – однако её откровения привели к самым непредвиденным последствиям. Безмозглая корова возомнила, что разоблачает мужа – но она лишь доказала нам величие человеческого духа, который, с непревзойдёнными ясностью и точностью провидев самые смертные грехи того общества, на жизнь в котором он был обречён со всем своим гением, сумел дать своей мысли столь совершенное, живое и верное выражение – и юмор, мощь и лиризм (если одним словом) этого выражения внезапно приобретают у нас на глазах невиданную резкость в свете крошечного буржуазного фонарика, которым размахивает у него над головой эта дрянь, из тех, что по всему свету превращаются в хороших матерей, сестёр и супруг – зараз, паразитирующих на всяком мыслимом чувстве и любой возможной любви.
Принимая во внимание, что во время совместного проживания истицы и ответчика последний заявлял ей – и частота подобных заявлений избавляет нас от изложения дополнительных подробностей или новых доказательств верности изложенного, – что не является сторонником самого института брака и не в состоянии мириться с подобающим подобным узам воздержанием, а также убеждён, что женщина может без ущерба для своей чести дарить мужчине детей вне брака; принимая также во внимание то, как он насмехался и издевался над приверженностью истицы ему лично, над её верностью нравственным и общественным условностям, на которых зиждется брак, над принятыми отношениями полов и нормами деторождения, и что он с пренебрежением относился к законам морали и связанным с ними статутам (в этой связи ответчик привёл однажды истице пример пары, прижившей вне брака пятерых детей, добавив: «Вот поистине идеальный вариант сожительства мужчины и женщины») – что ж, всё это раскрывает нам глаза на ключевой элемент пресловутой аморальности Шарло. Отметим, что некоторые самые элементарные истины всё ещё считаются чем‑то чудовищным. Необходимо, чтобы осознание этих истин распространилось как можно шире – осознание совершенно естественное и человеческое, ведь для того чтобы подобную убеждённость разделить, необходимо лишь иметь личное достоинство. Такой точки зрения придерживаются все – то есть все, кроме тараканов или клопов. Интересно, кто вообще возьмётся утверждать, будто брак под угрозой хоть как‑то привяжет мужчину к женщине, даже если последняя родила ему ребёнка? А коли та станет жаловаться на мужа, заходящего без стука к ней в комнату, если будет в ужасе докладывать, как однажды он вернулся домой в подпитии, что он не делит с ней общий стол или не выводит в свет – что ж, на это можно только пожать плечами.
Вместе с тем складывается впечатление, что Чарли Чаплин искренне верил в возможность семейной жизни. Увы, его надежды натолкнулись на стену человеческой глупости. Эта женщина, полагающая (или делающая вид, что полагает), будто смысл её существования – в выпекании карапузов, которые в свою очередь смогут приумножить род человеческий, – во всём видит преступный умысел. «Чего вы хотите? Заново заселить Лос-Анджелес?», – вопрошает он в отчаянии. Действительно, пусть бы рожала себе второго ребёнка, если уж так хочется, но оставила мужа в покое: отцовства он добивался ничуть не больше брака. Но нет, нужно, чтобы он сидел, сюсюкая, в детской, поелику того жаждет Мадам. Увы, он не из таких. Дома он станет бывать всё реже и реже. У Чаплина – своё представление о жизни, и именно оно оказывается тут под ударом, именно его пытаются принизить. Что может удержать его рядом с женщиной, отвергающей всё самое ему дорогое, обвиняющей его в подрыве и извращении (её) моральных побуждений… разложении движущих ею правил пристойности, обесценивании её представлений о нравственности, поскольку он пытался заставить её прочесть книги, где откровенно обсуждается сексуальность, или хотел познакомить с людьми, привносившими в существующие нравы хоть глоток свободы, последовательным противником которой она была? И надо же, какое самодовольство с его стороны: за четыре месяца до их разрыва он предложил пригласить домой юную особу, известную своей склонностью к актам сексуальной извращённости, – убеждая при этом истицу, что они‑де смогут приятно провести время. То была последняя попытка приобщить эту инкубационную машину к естественным проявлениям супружеской любви. Взять хотя бы то же чтение: он прибегал к любым средствам, чтобы втолковать тупице то, до чего она не могла дойти сама. И её ещё удивляют перепады настроения мужчины, жизнь которого она превратила в ад! «Вы дождётесь, я рано или поздно сойду с ума – и просто убью вас»: эта угроза также попала в перечень улик, но чья в том вина? Когда человек настолько ясно осознаёт возможность безумия или убийства – не результат ли это обхождения, обусловливающего сумасшествие, толкающего на расправу? Но все те долгие месяцы, когда женская злоба и угроза общественного осуждения вынуждают его играть невыносимую комедию, даже в клетке он остаётся живым человеком, чьё сердце не перестаёт биться.
«Да, это правда, – признаётся он как‑то, – я влюблён, и меня не заботит огласка: я буду видеться с ней, когда пожелаю, нравится вам это или нет; я не люблю вас, и под одной крышей мы живём лишь потому, что я был вынужден на вас жениться». Вот моральное основание его жизни, вот что он отстаивал каждый день: любовь. На самом деле выходит, что во всей этой истории Шарло выступает исключительно защитником любви – и только. Он не боится сказать жене, что его возлюбленная чудесна, что он хотел бы их познакомить. Эта открытость, честность, всё, что достойно восхищения в мире: теперь всё обращено против него. Но главный довод – это пара рождённых против его воли детей.
Здесь позиция Чаплина также совершенно недвусмысленна. Оба раза он просил жену избавиться от плода. Он говорит ей правду: такое решение существует, другие женщины так поступают – и поступали уже так для меня. Для меня – не из соблюдения приличий или удобства ради, а по любви. Но взывать к любви с г-жой Чаплин бессмысленно. Она и детей‑то родила, исключительно чтобы доказать: «…ответчик никогда не проявлял по‑настоящему нормальных родительских инстинктов, никакой привязанности, – отметим для себя это милое разделение, – к двум несовершеннолетним отпрыскам жалобщицы и ответчика». Ах, эти крошки! Возможно, для него они – абстрактный концепт, связанный с общей кабалой жизни, но мать видит в них лишь повод для нескончаемых требований. Она настаивает на возведении пристройки к семейной резиденции. Шарло отказывается: «Это мой дом, и я не намерен его уродовать». Такой во всех отношениях резонный ответ, счета от молочника, сделанные или пропущенные звонки по телефону, возвращения или отсутствия мужа, тот факт, что он не видится с женой – или, напротив, заходит к ней, но она принимает остолопов, и ему это не по душе, – что сам приглашает людей на ужин, что ходит по гостям с ней или оставляет её дома: всё складывается для г-жи Чаплин в жестокое и бесчеловечное обхождение; мы же видим здесь стремление человека отринуть всё, что не является любовью, представляет собой её дикую, отвратительную карикатуру. Лучше всех книг и трактатов на свете само поведение этого человека становится приговором браку, этой бездумной кодификации любви.
Вспоминается один замечательный фрагмент из «Графа»2, когда Шарло на званом вечере вдруг видит проходящую мимо женщину, невыразимо прекрасную, волнительно привлекательную, и, забросив свои интриги, увязывается за ней, следуя из комнаты в комнату, затем на террасу, пока та не исчезает. Следовать любви, неизменно повинуясь ей, – вот что в один голос провозглашают и его жизнь, и все его фильмы: внезапной любви, которая прежде всего и всегда – властный зов. Необходимо бросить всё – например (и как минимум) домашний очаг. Уютный мирок с законно нажитым добром, с хозяйкой дома и ребятишками, за которыми вырисовывается силуэт жандарма, со счётом в банке: от этого он и улепётывает раз за разом, будь то богачом из Лос-Анджелеса или бродягой с городских окраин, от «Банка» до «Золотой лихорадки»3. Всё, что у него есть за душой, – это тот самый заветный доллар, который он без конца теряет и который у нас на глазах вечно вываливается из дырявого кармана на пол кафе в «Эмигранте»4, этот доллар, который, возможно, всего лишь видимость, жестянка, гнущаяся под зубом, пыль в глаза, которой никого не обмануть, но которая хотя бы на мгновение позволяет пригласить за свой столик обжигающую красотку – ту самую «чудесную» женщину, идеальные черты которой вам всегда будут дороже целого мира. Творчество Чарли Чаплина таким образом находит в самой его жизни ту мораль, которую оно и выражало с самого начала, но со всеми теми иносказаниями, которых требуют социальные условности. И наконец, если г-жа Чаплин сообщает нам – а она‑то знает, какого рода аргументы нужно привести, – что её супруг, негодный американец, подумывал о выводе своих капиталов из страны, мы скорее вспомним об ужасном зрелище пассажиров третьего класса с их бирками, точно у скота, сбившихся на мостике корабля, несущего Шарло в Америку; грубость представителей власти, циничный досмотр эмигрантов, грязные руки, ощупывающие женщин у входа в страну сухого закона под неизменным взглядом Свободы, освещающей мир. Во всех фильмах Шарло факел этой свободы выхватывает из мрака угрожающие тени полицейских, преследующих бедняков, – полицейских, вырастающих на каждом углу, для которых подозрительно всё: от невзрачного костюма бродяги, его трости (Чаплин в одной замечательной статье называл её своей сутью), этой без конца валящейся из рук трости, шляпы, усиков – и до испуганной улыбки. Но несмотря на редкие хеппи-энды не будем заблуждаться: в следующей ленте нищета вновь будет поджидать этого законченного пессимиста, который мало как кто сегодня сумел вернуть силу расхожей фразе на любом языке: a dog’s life, собачья жизнь.
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ: в настоящее время это и есть жизнь человека, чей гений не в состоянии спасти его родину, человека, к которому все повернутся спиной, чью жизнь безнаказанно разрушат и кого лишат последнего слова и способа выражения, которого самым возмутительным образом повергают в отчаяние на потребу грязной обывательнице, полной ненависти, и во имя самого вопиющего лицемерия, которое только можно вообразить. Собачья жизнь. Когда на карту поставлен брак, священный союз, для закона гений – ничто. Собственно, для закона гений всегда ничто. Но отметая любопытство толпы, нечистоплотные козни адвокатов и всё это постыдное выставление напоказ личной жизни, которое только само тускнеет в собственном жутком свете, нынешние злоключения Шарло выявляют его истинный удел – удел гения. Лучше всех произведений они метят жизненные роли и ценность жизни. Внезапно становится понятным смысл того таинственного авторитета, которым несравненная сила выражения наделяет вдруг человека. Сразу понимаешь, какое место в мире на самом деле занимает гений. Он полностью захватывает человека, превращая его в понятный всем символ и добычу для рыщущих во мраке скотов. Гений призван указать миру моральную истину, которую вселенская глупость пытается заслонить и уничтожить. А значит спасибо тому, кто на гигантском экране, там, на западе – на горизонте, где одно за другим закатываются солнца, – заставляет ожить тени великих реалий человечества – реалий, быть может, неповторимых, высоко нравственных, тех, что дороже всего на земле. Сама эта земля уходит у вас из‑под ног. Спасибо за все ваши жертвы. Мы преклоняемся перед вами в благодарности и заявляем о готовности беззаветно вам служить.
Максим Александр, Луи Арагон, Арп, Жак Барон, Жак-Андре Буаффар, Андре Бретон, Жан Каррив, Робер Деснос, Марсель Дюамель, Поль Элюар, Макс Эрнст, Жан Жанбах, Камиль Гуманс, Поль Хореман, Юджин Джолас, Мишель Лейрис, Жорж Лембур, Жорж Малкин, Андре Массон, Макс Мориз, Пьер Навиль, Марсель Нолль, Поль Нуже, Эллиот Пол, Бенжамен Пере, Жак Превер, Реймон Кено, Ман Рэй, Жорж Садуль, Ив Танги, Ролан Тюаль, Пьер Юник
4
Например.