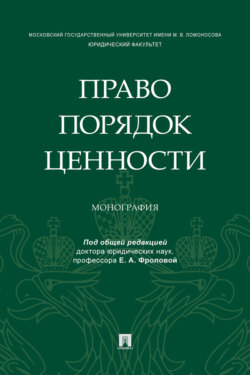Читать книгу Право. Порядок. Ценности - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 5
Философия и история права
Квалифицированный читатель или интерпретатор: об отношении исследователя к источникам познания правовых и политических учений
ОглавлениеГорбань Владимир Сергеевич
главный научный сотрудник сектора философии права, истории и теории государства и права, руководитель междисциплинарного Центра философско-правовых исследований Института государства и права РАН, доктор юридических наук
В данной статье выявлены и проанализированы некоторые характеристики современных подходов к проблеме отношения к источникам изучения истории политической и правовой мысли. Критической оценке подвергнуты попытки спекулировать интерпретационными практиками как конститутивным методом при анализе политических и правовых взглядов мыслителей прошлого и современности и, напротив, подчеркивается важность квалифицированного прочтения и анализа классического юридического наследия.
Представляемую проблематику можно представить в виде следующих обобщений: – история политической и правовой мысли, как научная дисциплина, должна усилить внимание к вопросам квалифицированного изучения источников и, напротив, критически понимать роль интерпретаций; – квалифицированный читатель или исследователь стремится к тому, чтобы познаваемый источник воспроизводить максимально точно в соответствии с оригиналом (а не на основании извлеченной фразы, схожего термина, схематичной типологизации для целей оправдания какой-то идеологии или классификации) и лишь затем подвергать аналитическим и иным аналогичным процедурам; – характеристики новейшей истории правовой и политической мысли с оттенками «модерна» и его производных являются в основном эстетической спекуляцией, девальвирующей и деформирующей природу и характер юридической науки, которая в «классической» форме вынуждена питать все ее «модернистские» отростки; – в логике постмодерна и метамодерна в их интерпретационной парадигме меняется сам смысл исторического знания – оно отныне некритично, вне автора, стремится не к пониманию, а к «означиванию» источников, безгранично вариативно, а интерпретатор становится равным автору; – следует отойти от «подсказанной» интерпретации структуры и содержания истории политических и правовых учений и, напротив, обратить внимание на такую реконструкцию материала этой дисциплины, которая основывалась бы на квалифицированном, а не принятом на веру, восприятии сравнительного материала в отечественных и зарубежных источниках (например, указание на создание университетов в средневековой Европе обычно трактуется как атрибут прогресса правовой мысли, хотя в действительности о возникновении юриспруденции как научной дисциплины можно говорить не раньше конца XVIII в.61, а, например, говоря о состоянии юридической науки в США, которая со второй половины ХХ в. (в отсутствии конкурентов в соответствующей языковой среде) стремится к самооценке как образцовой, следует иметь в виду, что лишь в конце XIX в. в США постепенно появляются зачатки того, что называется современным юридическим образованием62).
История политической и правовой культуры, ее ментальных и духовно-нравственных характеристик, познаваемых с помощью разнообразных источников, а также способов их прочтения, составляет важнейший пласт системы знаний о праве и его роли в жизни человека и общества. Многое при этом остается еще непознанным как с точки зрения анализа уже известных источников, так и с точки зрения постановки адекватных научно-исследовательских задач. В целом историческое знание о праве имеет определенную типовую структуру, которая, как правило, довольно некритически воспроизводится в разных вариантах дисциплинарного прочтения философии права или истории политических и правовых учений. Как писал известный шведский драматург и писатель XIX в. А. Стриндберг, есть своего рода «материнское древо»63 истории философии права, которое связано с так называемой «классической традицией» философии западного мира: от античности до новейших концепций в западноевропейской и американской литературе.
При всех достоинствах западноевропейской традиции интерпретации истории философии права все же никак нельзя признать ее исчерпывающей, основополагающей или даже перспективной. Внутри этой традиции имеется такое количество разнообразных ответвлений, противоречивых моментов, идеологем и подходов, что воспринимать ее как образец научности истории политической и правовой мысли – не более чем заблуждение, рождающееся лишь из поверхностного знакомства с литературой и иными источниками познания истории политической и правовой интеллектуально-нравственной культуры. Например, почти азбучной стала установка на то, что западная философия права является «прогрессивной». Но в действительности, конечно же, дело обстоит не так. Например, утверждается, что западная интеллектуальная культура склонна признавать высокие стандарты и ценности права. В качестве примера используется при этом ссылка, в частности, на правовой дуализм в философии И. Канта. Но другой соотечественник кенигсбергского профессора, К. Маркс, уверял, что все правовые идеи и ценности не более чем химера, которая должна отмереть по мере достижения очерченного им социального идеала в коммунистическом обществе. Гегель, как апологет государства, уверял в том, что идея свободы достигает своего кульминационного пункта в реальном воплощении именно в государстве. Однако спустя полтора столетия его упрекнут в том, что это восхищение повело немцев по ложному пути, а именно к торжеству национал-социализма. Кант или Гегель, возможно, и признавали некоторый набор правовых ценностей. Но как в действительности выглядела жизнь общества и государства в тот момент истории, когда они формулировали свои идеи? Насколько смысл соответствующих философских размышлений соответствовал истинному положению дел? И не был ли он вообще футуристическим проектом? Например, в Западной Европе в 1780 гг. еще выносились и приводились в исполнение приговоры о сожжении на костре за колдовство. Или в наше время, если мы внимательно и квалифицировано попытаемся проанализировать основные параметры правосознания и правовых систем в других странах, то многое на самом деле окажется не столь простым и позитивным, как это представляется некоторым исследователям. Достаточно взглянуть на практику применения права и соответствующую статистику (о состоянии преступности, об административной практике, о судебной деятельности, отчеты о состоянии дел в разных сфера общественной жизни, статистику надзорных и контрольных ведомств и т. д.). В этой связи актуализируется проблема адекватного подбора источников изучения истории права и правовой мысли и их квалифицированного прочтения.
Например, изучая влияние взглядов того или иного мыслителя, следует ответить на вопрос о том, какое употребление и хождение имела соответствующая литература, использовалась ли она при обучении юристов и чиновников и т. п. Так, говоря о влиянии взглядов К. Маркса на своих современников, нужно иметь в виду, что значительная часть его работ была опубликована лишь в 1880 гг. благодаря усилиям его друга Ф. Энгельса. Хотя, например, сопоставляя слова «интерес» и «борьба» в трудах К. Маркса и Р. Иеринга многими авторами делались неоднократно совершенно безосновательные утверждения о симпатиях последнего в отношении классового подхода. Здесь, с одной стороны, работало стремление «означить» марксизм в области юридической теории, которая была слабо представлена в классическом марксизме, а с другой стороны, отчетливо проявляется фигура интерпретатора вместо квалифицированного читателя. В истории правовой и политической мысли под влиянием различных факторов квалифицированное познание источников часто подменяется интерпретацией. Причем, учитывая полисемантичность термина «интерпретация», складывается определенная парадигма восприятия содержания и роли политических и правовых учений прошлого и настоящего, для которой центральной смысловой единицей становится безграничная вариативность прочтения.
В отношения изучения истории политических и правовых учений просматриваются два типа мышления: одно – напоминает феноменологический подход, когда представления о праве рассматриваются в наборе высказываний на тему права безотносительно к каким-то реальным, исторически-конкретным и иным аналогичным аргументам, т. е. эволюция правопонимания как «чистая» теория; другое – пытается смотреть на проблему эволюции политической и правовой мысли с генетической точки зрения, т. е. стремясь рассматривать правовые взгляды мыслителей разных эпох с точки зрения причин и условий, связанных с их появлением, в контексте преемственного и нового, учитывая связи с предшественниками и современниками. Например, в Германии после Второй мировой войны возникла проблема «пересоздания» новой культуры политического и правового мышления. История была объявлена виновницей всех бед: мол виноваты классики, которые верили в роль принуждения и нравственное государство, в «живое» право и т. п. Один из самых авторитетных философов права последней четверти ХХ в. в Германии А. Кауфман писал о том, что мол «пренебрежение понятийно определенностью в праве», характерное для социологического рассмотрения права, оказалось одной из причин возникновения национал-социализма. Конечно же, это не более чем лукавство. Причины этого античеловеческого явления были связаны отнюдь не с формами политической организации и методами управления, а с глубинным первобытным и неистребимым желанием порабощения других людей и уничтожением неугодных народов. И. А. Ильин очень точно описывал этому проблему: как муштра и дисциплина приучает к внешнему соблюдению правового ритуала, правила и требования, но под этой личиной кроется сознание озлобленного раба. «В самом деле, долгая и постоянная дрессура, идущая из поколения в поколение, может приучить душу к сознательному соблюдению законной формы и законного предела в поступках. Явная и тайная кража станет исключением, и цветок плодового дерева, растущего у большой дороги, будет спокойно превращаться в зрелый плод, задевающий прохожего; не станет самоуправства, сознательное нарушение прав будет редкостью; граждане будут еженедельно советоваться обо всем с собственным годовым адвокатом и постоянно, с особым удовольствием от законности своего поведения, тягаться друг с другом в интеллигентном, равном и справедливом суде; забудется эпоха мелких взяток и крупных хищений, и люди перестанут видеть особое удальство в безнаказанном правонарушении … И за всем этим, внешне блестящим, правопорядком может укрываться правосознание озлобленного раба»64. «Своекорыстное хотение не исчезает и не искореняется от того, что встречает внешний запрет, угрозу, противодействие и даже наказание. Правда, оно приучается «не сметь» и прячется от поверхностного взгляда, но именно поэтому оно скапливается постепенно, неизжитое, неутоленное, неопределенное – побежденное, но не убежденное – и сосредотачивается в душе, окрашивая всю жизнь в оттенок сдержанного, таящегося озлобления. … Так, выдрессированный раб, приученный дома к элементарной честности, не считает зазорным украсть у соседа, и уподобляясь ему, современное правосознание охотно делит людей на «наших» и «чужих», пробивая глубокие бреши в «справедливом» толковании и «равном» применении права»65.
История политической и правовой мысли должна быть определенно переосмыслена на основе простого тезиса о том, что не первом месте должно стоять безусловное и даже бессознательное уважение к себе и собственному богатейшему духовному наследию. Речь, конечно же, не идет о признании того или иного подхода лучшим или менее удачным, а лишь о том, что западноевропейская правовая культура в полноценном историческом масштабе является важной, но периферией как по отношению к античной культуре, так и по отношению к взгляду на историю правовой и политической мысли с точки зрения российской истории. Было бы странно полагать, что, например, какой-нибудь восточный исследователь из Китая или Индии, опираясь на многовековую историю, будет рассматривать отдаленную западноевропейскую философию как нечто фундаментальное для освещения истории правовой и политической мысли в этих восточных странах. Специфика «идеологий Востока» хорошо показана в работе М. А. Рейснера66. Если внимательно и квалифицированно, без искусственных и беспочвенных априорных восхищений, посмотреть структуру и содержание современной (например, второй половины ХХ в. и до наших дней) западноевропейской литературы по истории философии права (темы, последовательность изложения, структура исторического материала, источники, оценки и т. п.), то легко убедиться в том, что она целиком и полностью замкнута на себе, не допуская в сферу, очерченную четкими национально-региональными границами, никого. Немецкая философия права считает себя наследницей античности и в основном в таком двухэлементном измерении и интерпретирует всю историю философии права. Французская литература также очень контрастна по отношению к своим европейским коллегам. Например, внимательный исследователь французской литературы XIX в. легко обратит внимание на то, что французский юристы так и не смогли подобрать полностью адекватный вариант перевода немецкого термина «Rechtsstaat» («правовое государство»). Или, например, заимствованное непосредственно из французского языка слово «легитимность» использовалось в оригинальном значении, как «законность», и даже в работах немца М. Вебера. Первые переводы на русский язык работ последнего использовали такие варианты, как «законность власти», а не полуперевод «легитимность власти». Но затем под влиянием социально-политических интерпретаций термин «легитимность» получил самостоятельную прописку в других социальных науках. Это очередной раз подчеркивает потребность в квалифицированном освоении источников, а не в оголтелой интерпретации.
Английская и американская философия права также очень незначительно открыта для какого-то внятного диалога с другими традициями. Поэтому насущной задачей является бережное и внимательное квалифицированное прочтение в первую очередь собственной богатейшей традиции. Развитие истории политической и правовой мысли как научной дисциплины, а также выработка новой стратегии развития философии права, адекватной современным вызовам и общественно-политическим задачам, напрямую обусловлены преодолением навязанного «периферийного» мышления.
Знание зарубежной истории политической и правовой мысли имеет очень важное значение для понимания собственных достижений и недостатков, возможностей углубления существующих правовых знаний или для того, чтобы по возможности избегать ошибки других. Но сравнение требует действительно квалифицированного подхода. Прежде всего, исследователь должен научиться квалифицированному чтению классических источников, внимательному и объективно-критическому восприятию употребляемых слов и терминов, точному разъяснению вкладываемых смыслов, ясному тематическому анализу источников и т. п.
Кроме того, важно также отметить, что, к сожалению, сегодняшние исследователи в России очень часто совершенно некритично воспроизводят иностранные клише вместо того, чтобы проанализировать как положительные, так и отрицательные стороны того или иного учения.
Отношение современного исследователя к историческому правоведению вызывает много нареканий и вопросов. Основной формой обращения с источниками познания истории политической и правовой мысли стали интерпретации (как конституированный метод). С конца XIX в. интерес к интерпретациям привел к созданию целой парадигмы в философии. Однако уже даже для еще непосвященного в тему исследователя должно быть очевидным, что перемещение на передний план интерпретации вместо основного (авторского) текста неизбежно приводит к тому, что центральной фигурой делается интерпретатор, а творческая эволюция правовых и политических идей ставится в прямую зависимость от интерпретаций, которые моделируются в форме конфликта разных интерпретаций и перспектив их разрешения. Есть такие мнения, что мол интерпретация не более, чем акцент на роли текста, а не автора. Но такой подход зачастую игнорирует главное: тест как познавательная единица – объект или средство, безусловно, может обособляться в некий феномен и познаваться в этом «чистом» качестве, в отрыве от автора и других причинных факторов: исторических, политических, лингвистических и других; однако же феноменологический взгляд на природу источников познания политических и правовых идей, если он замыкается на себе, делает всю историю правовой культуры призрачной, оторванной от реальности и бытия права. Многие аспекты этой проблематике уже не раз обсуждались в литературе. Например, «Философия свободы» Н. А. Бердяева67 или «Апофеоз беспочвенности» Л. И. Шестова68.
Таким образом, классика нуждается в квалифицированном читателе, а не в интерпретациях (зачастую уничтожающих смысл и автора). Интерпретация стала сознательно подслеповатой парадигмой научного мышления (Дильтей и далее; модерн, постмодерн, метамодерн). Классика контрастирует как «предшествующее» и непрерывно устаревающее, а на ее место заступает цепляющийся за беспочвенность модерн, постмодерн, метамодерн («апофеоз беспочвенности»). Вместо разъяснения объективного (всеобщего, безусловного) содержания правовых знаний, отраженных в той или иной мере в истории политических и правовых учений, становятся уместными такие характеристики, которые совпадают с эволюцией направлений и жанров в литературе и искусстве. Популярность интерпретационных подходов в эпоху «неклассической» науки и до нынешней поры (отчетливо заметно с работ Л. И. Петражицкого и далее) формируют своего рода научный экспрессионизм – выражение эмоционального состояния исследователя вместо изображения правовой действительности. Как бы экспрессионизму не скатится в кубизм, сетовал один искусствовед, и по аналогии с этим своего рода юридический кубизм ведет к тому, что деформированные, огрубленные образы правовых явлений изображаются без каких-либо элементов «светотени и перспективы, как комбинация разложенных на плоскости объемов». Например, подобного рода эстетическая стилизация легко обнаруживается в интерпретациях западноевропейскими авторами истории политической и правовой мысли в России (в частности, в популярных изданиях по истории философии права в Германии в качестве наиболее авторитетных, показательных и исчерпывающих называются (причем лишь в виде интерпретаций отдельных фрагментов) работы Л. Н. Толстого, Е. Б. Пашуканиса, И. В. Сталина и А. Я. Вышинского). По такой логике можно интерпретировать историю философии права в Германии, скажем, исключительно кратким обзором нигилистического отношения к праву в некоторых высказываниях И. Гете, идеи пролетарской революции К. Маркса, теории насилия Л. Гумпловича и аргументов расовой теории права в некоторых трудах К. Шмитта. И какой тогда следует ожидать результат?
Общий вывод такой, что возможность развития истории политической и правовой мысли как научной дисциплины и ее эвристического потенциала обусловлена не эстетической стилизацией или интерпретационными практиками в угоду нездоровому идеологическому оформлению преимуществ той или иной национально-региональной школы, а заключается в квалифицированном прочтении источников познания в этой области, постановке адекватных сравнительных задач, в повышении требований к отбору источников и разъяснению этого отбора (довольно странно, когда ученый сопоставляет юридическую концепцию, разработанную в полноценной теоретической форме, изложенную в одном или нескольких крупных сочинениях, например, с высказыванием другого автора в небольшое статье или письме и т. п., или, например, когда по работе малозначительного автора реконструируются особенности всей национальной юридической литературы).