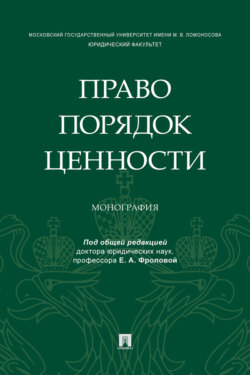Читать книгу Право. Порядок. Ценности - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 7
Философия и история права
Знание как онтологический базис права и фактор его стабильности
ОглавлениеБочкарев Сергей Александрович
научный сотрудник Института государства и права РАН доктор юридических наук
Введение
Актуальность вынесенной в заголовок монографии темы не вызывает сомнений. На пороге XX–XXI вв. право столкнулось с модифицированной реальностью. О качествах этой реальности идет много споров. Несмотря на незавершенность дискуссии, всем очевидно, что пришедшая из будущего реальность, основанная на высоких технологиях, характеризуется неустойчивостью прежде всего экономических и политических пространств. Бушующие здесь «штормы» имеют глобальный, региональный и локальный уровни.
В этом контексте обращение к праву как фактору стабильности выглядит вполне закономерным. Стремясь достичь равновесия в сложившейся обстановке, специалисты активно дискутируют о роли права в протекающих процессах и его потенциальной возможности нормализовать условия общежития. Они ищут ответы, по сути, на два ключевых вопроса: как право обеспечивает свое уравновешивающее воздействие? И что в праве необходимо изменить, чтобы оно стало эффективным инструментом стабилизации социума?
Эти вопросы не новы для истории права. Но с учетом современной специфики на них даются, как правило, два ответа. А именно либо с позитивистской позиции право рассматривается как фактор социальной стабильности, имеющий наивысший регулятивный потенциал и реализующийся через властное принуждение и нравственно-этическое ориентирование; либо на основе философско-антропологического подхода указывается на то, что право является далеко не основным, а только дополнительным организационно-управленческим средством, призванным уравновешивать и при необходимости блокировать деструктивные проявления в поведении человека.
В итоге одни специалисты рекомендуют для исправления ситуации в социальной сфере улучшать качество нормативно-правовых актов и повышать уровень морально-этического отношения к праву со стороны общества69. Другие предлагают прекратить низводить право до уровня машины, производящей единообразные формы из весьма разнообразного материала человеческого поведения, и приступить к формированию новой мировоззренческой парадигмы права через коренной пересмотр правовых критериев оценки узловых мировых проблем70.
Нестабильность права и знания о праве
Однако на фоне гиперактивности возникших трансформаций обнаружилось, что, как и другие социальные регуляторы, право само переживает кризис. Действующие правовые механизмы и принципы юридической оценки реальности не справляются с решением традиционно стоящих перед ними задач. Как известно, дошло до того, что было объявлено о крушении правовых ценностей, традиций, систем и правопорядка в целом71.
Критическое состояние права поставило ряд первоочередных вопросов, которые в науке пока недооцениваются. Между тем их актуализация сдвигает ранее обозначенные проблемы на второй план. Главным предметом обсуждения становится вопрос о том, что или кто в праве обеспечивает его стабильность. При каких условиях и обстоятельствах право утрачивает устойчивость либо само начинает производить беспокойство? В ком или в чем состоит его опора? Каково состояние этой опоры? Что привело базис к стагнации – критические перегрузки или его целенаправленный демонтаж?
Поиск ответов в этой дискуссии ведет к субъектам права, правосознание которых формирует и образует собой парадигму индивидуального и коллективного поведения. Эти субъекты к ΧΧΙ в. существенно изменились вслед за всей культурой, при этом каждый – по-своему. У одних появились новые сферы самовыражения (например, сеть Интернет), у других возникли заботы в области обеспечения условий безопасного и справедливого сосуществования в модифицированных форматах жизнедеятельности. Но есть то общее, что, несмотря на разность статусов и интересов, связывает всех субъектов права, обеспечивая их коммуникацию и взаимопонимание. Речь идет о знании. Оно – искомый базис права, неотъемлемо и естественно включающий в себя, помимо самого знания, проблемы ясного осознания и надлежащего познания социальной реальности.
Неслучайно сегодня знание в целом и знание о праве в частности подвергается активным атакам. Особенно в этом деле преуспели постмодернисты. Они не скрывают, что занимаются его низвержением. Классической рациональности, ориентированной на истину и объективность познания внешнего мира, детерминированность, универсальность, целостность, завершенность и непротиворечивость научного знания, противопоставили постклассику. Точнее говоря, классике противопоставили антиклассику с ее неопределенностью, неполнотой и неверифицируемостью, с амбивалентностью и случайностью человеческого существования. То есть все то, что образует релятивизм, который К. Поппер назвал «главной болезнью философии нашего времени»72, В. А. Лекторский подтвердил актуальность этого тезиса и распространил патологию на всю гуманитарную науку, где последовательное проведение релятивистской установки влечет отказ от таких фундаментальных ценностей культуры, как ориентация на поиск истины и получение знания, рациональность, необходимость осмысления мира и человека в нем73.
Ключевой идеолог постмодерна Ж.-Ф. Лиотар заявил, что знание впредь производит не знание, а оттачивает чувствительность к различиям и призвано усиливать способность выносить взаимонесоразмерность74, иными словами, не выполнять социально-эпистемологические функции, а достигать конкретных политэкономических целей. Знание, основанное у постмодернистов на принципах децентрализации и локализации, не дает сознанию возможности сосредоточиться и включиться, реализовать свои антропологические функции, которые служат обеспечению единства личности и сродства между человеком и миром и укоренены, по С. Л. Франку, «в почве реальности»75. Такой подход к знанию препятствует функционированию мышления, которое, как отмечал И. Кант, всегда есть собирание многообразия в единство76.
Неслучайно и то, что сегодня в ответ на эти посягательства многие науки обратили на знание особое внимание и внутри себя организовали прямо противоположное движение. Пользуясь поддержкой философии, они подошли к феномену знания поближе. Это утверждение может показаться парадоксальным или даже несостоятельным, ибо известно, что наука, являясь неотъемлемой и весомой частью всего знания, никогда с ним не расставалась. В свою очередь, философия как определенный способ мировосприятия и тип знания с древних времен имеет дело со знанием как одним из основных объектов своего познания. Эволюционируя от эпохи к эпохе, философия в основном ведет речь о знании, о знающих и незнающих субъектах.
Вместе с тем вся эта аргументация не опровергает, а подтверждает тезис о том, что философия на протяжении всей своей длительной истории занималась познанием знания, его исследованием в самых разных социальных контекстах и жизненных экспериментах. В итоге под грузом накопленной о знании информации она обрела представление о подлинном масштабе этого феномена и сегодня сигнализирует о том, что предмет наблюдения уже не является прежним. Философия осознала, что существенно недооценивала знание, а посвященный ему термин не отражает его реальное значение, определяя знание лишь как результат познания чего-либо. Философия увидела в знании, говоря словами М. Горького, абсолютную ценность нашего времени77 и то, как писал С. Франк, что «мы хотим знать, чтобы жить, а жить – значит… жить не в слепоте и тьме, а в свете знания»78.
На современном этапе философия переходит от осознания реального формата знания к его познанию в новом качестве. Что это за формат и в чем заключается его модифицированное качество? Какова роль знания в жизнедеятельности человека и человечества в целом? Для осмысления этих и других вопросов в ведущих отраслях науки появились новые направления. В философии – эпистемология (или философия знания), в экономике – экономика знания, в социологии – социология знания. Если поначалу в философии о знании вели речь как о форме социальной и индивидуальной памяти, то сейчас о нем заявляют как о фундаментальной онтологической структуре79. Если ранее в экономике знание относили к одному из многочисленных секторов экономики, то недавно этим термином начали именовать тип экономики80. Если в социологии исходно исследовались социальные предпосылки знания, то по мере развития представлений о масштабе этого явления социология скорректировала предмет своего познания, обнаружила и стала изучать «общество знания»81.
Состояние знания в правоведении
В правоведении обстановка сложнее. На фоне тотального релятивизма зарубежные юристы задаются рядом вопросов. Действительно ли сегодня благоприятное время для производства знаний? Действительно ли сейчас самое время искать аподиктические определенности? И надо ли полагаться на отточенные в прошлом методологические средства? Или, спрашивает П. Шлаг, в период всепроникающего и нескончаемого потока информации, когда социальные и экономические события значительно опережают наши интеллектуальные усилия, направленные на их осмысление, а выработка какой-либо стратегии в области производства знаний кажется неуместной, нужно заниматься чем-то противоположным – а именно экспериментированием и творчеством?82 Другие юристы, пренебрегающие эпистемологической темой, не задаются поставленными вопросами и при производстве знаний не затрагивают аспект издержек, сопровождающих этот процесс. Как следствие, они производят подобие знания, не отличающееся глубиной и наличием смысла.
Заинтересованные специалисты обратили внимание, что не только в правоведении, но и в правотворчестве и правоприменении многое напрямую связано с наличием или отсутствием знания, его качеством и количеством. Появились примеры восприятия, например, судопроизводства как эпистемологического события. Основанием для формирования такого подхода послужило обнаружение того, что сначала мы хотим, как отметил М. Пардо, чтобы судьи познали причины и обстоятельства происшествия. Затем стремимся понять, что судьи узнали в результате разбирательства. Далее выясняем обстоятельства, при которых суд получил соответствующее знание, и условия, на которых ему был обеспечен доступ к этому знанию83. Также исследователи указывают, что сама по себе истина не является конечным результатом и самодостаточным условием правоприменительного процесса. Право должно полагаться только на ту истину, которая основана на знании и является продуктом познания. Если право опирается на любую истину, то оно становится зависимым от так называемых случайных или ложных истин и, как следствие, само преобразуется в явление спорадического порядка.
Очередным поворотом на пути становления эпистемологии права стало ее развитие в основном в сфере процессуального права. Cвязь между двумя этими областями имеет давнюю историю84. К материальному праву, также нуждающемуся в верной и выверенной истине, эпистемологический взгляд подходит менее активно. В свет вышло незначительное число работ, в которых отмечается, что для выявления и определения ценностей, требующих защиты, право нуждается не только в приказании, но и в знании. В связи с этим особую значимость приобретает эпистемология, позволяющая разобраться с конкурирующими аргументами о необходимости криминализации тех или иных действий, определить исходные данные точек зрения и их конечные цели, сопоставить с разрешаемой в реальной жизни криминальной ситуацией, т. е. верифицировать высказанные позиции и дать заключение о достоверности и применимости предложенного ими уголовно-правового решения.
В отечественном правоведении ситуация сложнее. В основном наблюдается рефлексия над знанием в ее эмоциональном, еще не рационализированном виде. То есть активно идут отсылки к знанию, но сосредоточение вокруг него не происходит. Правоведы нередко указывают на неудовлетворительное состояние знания, когда говорят о причинах стагнации права. Д. А. Керимов, в частности, указал на кризис российского правоведения и связал его происхождение, помимо прочих факторов, с бессмысленным оперированием «устаревшими знаниями»85. В. Н. Кудрявцев подошел к вопросу шире и заявил о глубоком кризисе всего обществоведения. Ученый призвал овладеть богатством «современного знания» и отойти от стереотипов, прежде всего на идейно-теоретическом и методологическом уровне, уйти от догм и постулатов, оказавшимися ложными и односторонними. Для выхода из кризиса предложил изменить угол зрения на предмет исследования, избавиться от ограничений и деформаций, сохраняющих в этой плоскости86.
В теоретических разработках конкретных отраслей права появились упоминания о гносеологии и эпистемологии права. По случаям использования терминов в различных контекстах можно судить о том, что отечественное правоведение далеко от целостного понимания существа знания и его значения для права. Исследователи не выходят за пределы узкой и тривиальной ассоциации знания исключительно с правоведением. Гносеологию чаще сводят к проблемам методологии, т. е. связывают с дилеммами производного порядка. Таким образом, перехода на иной уровень, где не знание рассматривается в составе и на фоне права, а право оценивается на фоне знания как более глубоко укоренного в бытии феномена, не наблюдается.
В итоге, как видим, эпистемология стала предметом дискуссии среди юристов. Правоведы постепенно начали приходить к убеждению в том, что выявление сущности права невозможно исключительно за счет онтологического и аксиологического выбора. Необходимо еще эпистемологическое решение, обеспечивающее их коррелятивность и непротиворечивость. Вместе с тем наука не подводит право ближе к знанию. Тем более она не совершает попыток рассматривать знание в качестве формы бытия и формы права в частности, о чем заявляет философия. Наука не переводит правоведение в иное измерение, поскольку в ней не наступило понимание того, что знание, как писал К. Эмерих, «полагает себя как бытие, а бытие исполняет себя как знание»87 и, как отмечал Ж. П. Сартр, что знание «пронизывает нас насквозь и определяет наше место…»88.
Генезис российского правоведения вне знания и сознания
Основы современной теории права и ее отраслей получили развитие, как известно, в ΧVΙΙΙ—ΧΙΧ вв. преимущественно на базе классической, социологической и антропологической школ. Считается, что с тех пор правоведение прошло в научно-практическом плане немалый путь и за этот период сформулировало те категории и понятия, которые приобрели свойства универсальности и максимальной обобщенности. Уверовав в достижение некоего теоретического универсума, специалисты стали широко издавать литературу с заголовками «Общая теория права», «Общее учение о государстве», «Общая теория квалификации преступлений» и т. д.
На самом деле никакой универсализации не было и не могло быть, поскольку любая теория есть всегда теория определенного и ограниченного набора идей, основанного на конкретной логике их взаимопостроения. Несмотря на то что в науке о праве формально проходила борьба различных течений, на содержательном уровне неизменным оставалось и до сих пор остается то, что каждое из них получило путевку в будущее в период активного развития представлений о феномене воли, одним из конечных продуктов которой стала волевая теория права. При этом познание этого феномена отразилось на самой науке. Правоведение впитало и на долгие времена задержало в себе составляющий волю терминологический тезаурус. Правоведение получило семантическое насыщение множеством входящих в него значений. Каждое из них и все вместе они сообща акцентируют внимание науки на динамическом моменте воли, передают «волевые» смыслы, демонстрируют момент выбора или «движения души», ее готовность чего-то лишиться или что-то приобрести, совершить поступок. В итоге науку о праве наряду с другими дисциплинами включили в состав поведенческих. К их предмету отнесли познание поведения человека в обществе.
Крен в сторону волевого элемента привел к смещению на второй план сознательного момента. Доказательством тому служит учение о преступлении, представляющее ядро науки уголовного права. Согласно этому учению все событие криминального происшествия рассматривается с позиции состава преступления как общественно опасного и запрещенного законом деяния. Сознание как нечто самостоятельное в этом учении не представлено. Оно встроено в конструкцию деяния, где ему среди прочих элементов отведено рядовое место в составе субъективной стороны преступления. В результате не преступление рассматривается с высоты сознания, а сознание оценивается с позиции волевого акта. Сознание и знание о нем востребовано лишь в том объеме, в котором это необходимо для объяснения механики преступного поведения и выяснения его причин. Принимая это во внимание, учение о преступление, а через него и все уголовное правоведение можно отнести к одному из направлений бихевиоризма, изучающего все поведение с позиции рефлексов и реакций на определенные стимулы в среде.
Еще одним доказательством нивелирования значения сознания выступает теория квалификации преступления, имеющая ключевое значение в практической деятельности органов юстиции. Согласно определению В. Н. Кудрявцева, «квалифицировать – значит относить некоторое явление по его качественным признакам, свойствам к какому-либо разряду, виду, категории. В области права квалифицировать – значит выбрать ту правовую норму, которая предусматривает данный случай, иными словами – подвести этот случай под некоторое общее правило. Квалифицировать преступление – значит дать ему юридическую оценку, указать соответствующую уголовно-правовую норму, содержащую признаки преступления»89.
Эта дефиниция, как видим, переполнена глаголами. Каждая ее часть содержит указание на действие. Но автор не раскрывает, как правоохранитель должен «относить» некоторое явление к какому-либо разряду; каким образом «выбрать» правовую норму; каким способом «предусмотреть» данный случай и «подвести» его под общее правило; за счет чего «дать» юридическую оценку и с помощью каких средств «указать» на уголовно-правовую норму, соответствующую признакам преступления.
В уточнении правоведа прояснено немногое и вновь акцент сделан на волевые акты. Ученый попытался конкретизировать свою позицию, но в итоге в очередной раз ассоциировал процесс квалификации с обезличенным набором действий: указал на «работу органа дознания», «выбор соответствующей нормы», «сопоставление признаков преступления с признаками совершенного деяния» и «построение вывода»90. Только в одном случае он сослался на «изучение» обстоятельств дела, которое в некоторой мере можно связать с ушедшим на второй план сознательным элементом.
Во всех определениях просматривается одна и та же картина. Вовлеченность сознания в процесс квалификации и способность сознания влияния на эту процедуру не отмечены. Отношение к сознательному элементу выражается как к чему-то подразумеваемому, чем можно пренебречь или оставить за скобками. Можно подумать, что процедура юридической оценки совершается механически. Дефиниции сформулированы таким образом, как будто процесс квалификации совершается вне сознания, без сознания и не для сознания как единственно истинного субъекта правоведения, правотворчества и правоприменения. Как будто установление признаков преступления осуществляется без знания о запрещающем его законе, вне знания о событии происшествия и не для получения знания о наказуемости лица. Как будто возможно что-либо определить в юридическом пространстве без применения средств познания личности виновного и его отношения к содеянному, без изучения объекта посягательства и степени его значения для общества. Или как будто теория и все законодательство не являются знанием как результатом познания социальной реальности.
В дефинициях, выполненных по правилам волевой теории права, в конечном итоге упускается, что процесс и исход квалификации зависит не только от череды действий, порожденных мускульным движением и центробежным нервным током, но и от того, кто их совершает, каким он располагает знанием и какие методы познания применяет на месте происшествия. До сих пор, иными словами, в уголовном правоведении сильны позиции Э. Ферри, который утверждал, что «человек действует так, как он чувствует, а не так, как он думает». «Тут не может быть и речи, – настаивал мыслитель, – об исключительной привилегии человечества, о вмешательстве силы нравственной свободы, которая являлась бы чудесным исключением в общем строе происходящих в мире деятельностей»91.
Знание как онтологический базис права
Выясняется, таким образом, что наука не оценивает состояние базиса права и не отслеживает его положение в структуре предпосылок кризиса самого права и социальной нестабильности в целом, так как не имеет о нем должного представления. Вместе с тем укорененность права в знании имеет гносеологическое, онтологическое и аксиологическое обоснования.
Гносеологический аспект
Введение в право в полноценном виде и объеме феномена «знание» ведет к ряду последствий. Во-первых, к появлению в орбите права не менее масштабного и глобального, чем само право, явления бытийного порядка. Во-вторых, к возможности выхода с помощью названной категории за пределы узкой и тривиальной ассоциации знания исключительно с правоведением. В-третьих, к переходу в более широкую плоскость, где не знание рассматривается в составе и на фоне права, в качестве его спутника, а право оценивается на фоне знания как более глубоко укоренного в бытии феномена.
Посредством изменения ролей в паре «знание – право» осуществляется смена полюсов в правовой парадигме, обеспечивается обращение к знанию в его реальном масштабе, достигаются формирование и институализация представлений о знании как сфере реализации права. Здесь знание выступает субстратом, а право – его акциденцией, знание – формой, а право – ее содержанием. В этом формате право выступает как эмбрион, а знание – как его утроба, в которой право зарождается, формируется и живет по законам самого знания. Впредь не знание складывается и раскладывается по канонам права, когда не соответствующие традиционным представлениям о нем суждения исключаются из правоведения или остаются невостребованными. Картину права предлагается составлять и переживать в жизни по логике и правилам самого знания, которые подчинены единственной цели – обеспечению его полноты как условию истинности и достоверности.
Поскольку «знание есть путь от хаоса к космосу, от тьмы к свету…»92 (Н. А. Бердяев), то отождествление права с категорией знания прежде всего ведет к пониманию права как способа познания реальности и закономерностей ее функционирования. Действуя как средство разузнавания, право реализуется как юридическое восприятие и особого рода мышление. В ходе этого процесса реальный мир рассматривается через юридический концепт, представляющий собой систему общезначимых ценностей и набор правил оценки действительности. Как следствие, мы получаем знание, например, об уровне конфликтности разных социальных групп в обществе, о степени распространенности в них экстремистских и иных криминогенных настроений, а в целом – об уровне цивилизованности конкретного социума. Затем обретенное знание реализуется в жизни через применение на практике соответствующих этому знанию правовых средств и методов общественного урегулирования и примирения.
Знание предлагает не ограничивать процесс познания права исследованием взглядов на него субъектов правоотношений. Тем самым отстаивается оценка состояния права с точки зрения субъектов знания. Продвигается изучение влияния качества знания на качество правоведения, правотворчества и правоприменения. Первоинтерсом субъектов правоотношений становится не столько сам возникший между ними конфликт как реализовавшееся в пространстве и во времени событие, а знание о мотивах, причинах, механизме и последствиях деликта, которое им необходимо для получения нового знания о справедливом способе, месте и времени его разрешения. Также обнаруживается, что знание не ставит под сомнение формальное равенство всех перед законом как основной и абсолютный принцип права. Однако отмечается, что самого по себе этого принципа недостаточного для реализации права в реальной жизни. Его исполнимость зависима и уязвима от качества знания об этом принципе, о месте и условиях его реализации. Дееспособность лица обусловлена не только и не столько его антропологическими данными, сколько состоянием имеющегося у него знания. Без знания о наличии у него того или иного правомочия лицо не сможет им воспользоваться93.
Онтологический аспект
К трем основным формам бытия В. С. Соловьев, наряду с чувством и деятельной волей, отнес знание. Оно является в его понимании образующим началом общечеловеческой жизни, поскольку имеет своим предметом объективную истину94. Через знание, сообщал Н. А. Бердяев, бытие совершает акт самопознания и самораскрытия, расчленения и оформления, проходит путь от хаоса к космосу, от тьмы к свету. С помощью знания бытие в итоге просветляется и «побеждает безумие хаотического распада», «становится более истинным». Знание и бытие, как видим, отождествляются мыслителями. При этом делается это не спекулятивно и не априорно, а доказательно. Проведенное ими сравнение позволило обнаружить, в частности, что «то расчленение, и дифференциация, и объединение, и синтезирование, которые даны в знании, совершаются в самом бытии…». И наоборот, как писал философ, «в самом бытии происходит то, что происходит в знании…»95.
Бытийное происхождение знания тем интересно праву, что через обнаружение себя в знании и знания в себе оно получает легальные основания для отношения к феноменам онтологического порядка и возможность для преодоления невысокого о себе мнения позитивистов, считающих право предприятием во многом рукотворным и искусственным. Через категорию знания право получает не произвольное, а закономерное притяжение к человеку и антропологическое обоснование, поскольку оно производно от сознания и без сознания как единственного источника своего питания невозможно. Если в большинстве позитивистских школ человек получает место служителя или, в лучшем случае, выразителя права, то знание ведет право к человеку и человечеству, для которых знание является не только продуктом мышления, всецело и безраздельно совершающегося в уме индивида, но и «живой функцией бытия»96. Несмотря на индивидуально-психологическое происхождение, знание имеет общечеловеческое или бытийное значение. Знание приходит вместе с индивидом, но с его уходом оно не утрачивается, а остается с родом, обеспечивает его единство, преемственность и развитие. Через знание бестелесное и недействительное человечество становится реальным и бессмертным97.
Поскольку знание бытийно, представляет собой безусловный и неограниченный горизонт бытия, в котором сущее схватывается как истинное98, то его освоение обеспечивает вывод правоведения в сферы «сознания» и «познания» как области его предельных оснований. Появляется возможность объяснить логическую взаимосвязанность и онтологическую взаимообусловленность этих феноменов. Известно, что сознание существует в виде знания, а познание предполагает знание, включает знание и стремится к знанию. В свою очередь, любое знание всегда предполагает некоторые логические формы и «универсальные элементы сознания – сознание времени, без которого я не могу отличать одного состояния от другого, сознание пространства, причинности, без которых я не могу отличать вещей от ощущений, я от не-я и т. д.»99. Более того, знание правил «определяет успех в познании истин и ведет к нравственному совершенству…»100.
Выход в область сознания отодвигает на второй и третий планы такие традиционные источники права, как обычай и закон. Подлинным и перманентным источником права и знания о нем объявляется сознание человека. Прежде всего сознание, а затем уже иные символические и вещественные памятники поддерживают в активном состоянии представления индивида и общества о праве и его запретах. Если на ранних этапах эволюции правового знания его источником являлось в основном чувство, которого было достаточно для обозначения наглядности, очевидности и недопустимости правонарушения, то последовавший прогресс сознания, его эволюционное превращение в «существенное проявление жизни»101, развитие и усложнение социального бытия, движение его участников от индивидуальных форм существования к коллективным привели к замене прежних источников и их переходу от чувства к разуму, от инстинкта к сознанию.
Углубление в онтологию знания также дает правоведению понимание того, что для сознания человека привычно работать одновременно в разных режимах и форматах. При этом вне зависимости от преследуемой цели акт познания всегда прежде выходит в область знания в целом, которое предшествует научному знанию, вмещает и часто содержит в недифференцированном виде как научные, так и ненаучные представления о мире и его субъектах. В этот момент реализуется, как отмечал Н. А. Бердяев, «нерационализированное сознание», которое П. Риккерт обозначил как «иррациональное “переживание”»102. Затем, согласно заданной цели, сознание через эту самую дифференциацию пробивается и в конечном итоге переходит к научному знанию. Для права это означает, что акт правоведения на пути к самому себе, к своему свершению в виде знания проходит аналогичную дорогу. То есть взаимодействует не только и не столько с себе подобными науками, но также кооперируется, или во всяком случае содержит в себе элементы работы, с обыденным, художественным, религиозным, экономическим, политическим, мифологическим, философским, этическим и другими видами познания, которые также могут производить истинные суждения. «Научность, – как отмечал Н. А. Бердяев, – не есть ни единственный, ни последний критерий истинности»103.
Знание, таким образом, избавляет правоведение от абсолютизации науки и ее восприятия в качестве единственного истинно сущего. Такой вывод требует от науки права заниматься исследованием положения своего предмета не только среди наук иных отраслей права, но и среди альтернативных видов познания; не оставлять без внимания то, что помимо собственной теории к основным источникам правового знания относятся философия, история и социальный опыт, к каждому из которых как неотъемлемому элементу своей структуры это знание на протяжении своего развития реализовывало и реализует особенное отношение.
Аксиологический аспект:
Поскольку знание «соединяет нас с другими сознаниями, как с предшествовавшими, так и с существующими»104, то через эту категорию право естественно встраивается в сконструированный по ее образу и подобию социально-ценностный контекст. В этом контексте «знание о другом предполагает знание о самом себе», а человек не понимает ни себя, ни оппонента. Понимание для права является предтечей как правоспособности, так и дееспособности, знание о самом себе отчетливо разворачивается в знании о другом. «Если удалить из нашего индивидуального сознания совокупность всего унаследованного, всего внушенного и внушаемого нам, оно лишится и формы, и содержания, обратится в ничто»105.
Вхождение с помощью знания в область социального способствовало обнаружению понимания как универсальной и бытийной ценности, которой право подчинено и призвано служить. Через знание, говоря словами К. Ясперса, «сознание… делает возможным однозначное понимание, а тем самым и общность в объективно значимом»106. Без понимания как такового и скрытых за ним герменевтических практик невозможна совместная жизнь людей, немыслимо само общество. Для К. Ясперса понимание является и нормой, и условием жизнедеятельности. Нормально, когда люди понимают друг друга. И совсем ненормально, когда человек не понимает ни себя, ни другого, поскольку для реализации в жизни ему исходно надлежит понимать себя и первоначально научиться понимать другого. Лишь через взаимоотношение «знания о себе» и «знания о другом», как отмечал Э. Корет, «образуется отчетливое понимание бытия»107.
Понимание, таким образом, выступает не только физиологически обусловленной целью, но и социально необходимой ценностью для своих субъектов, т. е. идеалом, который для них в определенной степени недостижим, из-за чего возникают конфликты и потребность в правосудии как в способе разрешения противоречий и принуждения к пониманию. Но не в любом властно организованном правосудии, а только в том, которое принципы своего нормативного значения и регулятивного воздействия заимствовало у самого понимания.
Известно, что в императиве понимания скрыты не только гарантии свободы мнения и суждения, но и требования долга, обращенные как к понимаемому, так и к понимающему, которыми по совместительству являются и не могут не являться субъекты правоотношений. Как одну, так и другую сторону понимание призывает к взаимоуважению через взаимопознание.
Понимание не только предобусловливает право, но и определяет его содержание, поскольку сопровождает каждую норму права. Такое сопутствие обеспечивается за счет незримого присутствия понимания в принципе справедливости. Этот принцип позволяет требовать выполнения правового запрета только тогда, когда он осознается адресатом и имеет конгениальную возможность его выполнить. В случае если запрет отвечает критерию понимания, но не выполняется, а все для этого изъяснительные инструменты исчерпаны и в достаточной степени представлены в законе, должен включаться механизм нормативного акта для принуждения к его пониманию и исполнению.
С позиции знания и с помощью герменевтического учения обнаруживается, что финальное определение правовому запрету дает не законодатель и не закон как продукт его деятельности, а субъект правоприменения. Так, на первом этапе следователь оценивает: а) опасность преступления, которую имел в виду автор нормы, запрещающей это деяние; б) опасность преступления в восприятии виновного и потерпевшего, а также окружающего их общества; в) опасность преступления, представление о которой сложилось у самого следователя. Далее он согласовывает названные представления об опасности в своем логическом и мировоззренческом кругу. Затем выносит результаты собственного герменевтического труда на суд иных участников судопроизводства – руководителя следственного органа, защитника, прокурора, судьи. Каждому из них на соответствующем этапе надлежит пройти по аналогичному кругу и согласиться либо не согласиться с предыдущим интерпретатором происшествия. При этом каждому толкователю предоставлена возможность коммуникации с иными участниками процесса для обоснования и отстаивания своего понимания обстоятельств дела, а оппонентам – возможность перепроверить свои представления о рассматриваемом предмете и при согласии ответить взаимопониманием.
Здесь коммуникация, как пишет И. Т. Касавин, выступает «главным источником познания»108. Именно в ходе коммуникации участников судопроизводства в конечном итоге рождается выверенное и апробированное правовое знание о подлежащих доказыванию обстоятельствах. Право, таким образом, всецело находится на службе у знания. Не закон, а знание о событии, происшествия и о законе, которое вырабатывается в процессе коммуникации участников судопроизводства, служит единственно реальным и актуальным основанием ответственности. Не зря М. Хайдеггер в свое время обращал внимание на то, что «судить – значит правильно представлять… Судить это… представлять правильное и, через это, также, возможно, и неправильное»109.