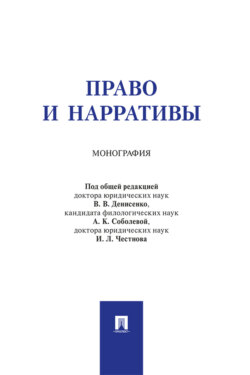Читать книгу Право и нарративы - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 7
Глава 1
Нарративы и риторическое повествование (prothesis, narratio): теоретические основы и практическое применение
1.4. Повествование (prothesis, narratio) как риторическая категория
ОглавлениеЗадолго до появления нарративистики вопросами построения судебной речи и роли изложения фактов в выгодном для стороны свете занималась классическая риторика. Повествование как значимая часть любого выступления или любой речи подробно рассматривается в главах риторических сочинений о частях ораторской речи. В них же даются практические советы, как следует выстраивать повествование, которое позже стало охватываться термином «нарратив», для того, чтобы убедить аудиторию в правоте своей позиции. В переводах античных сочинений по риторике наряду с термином «повествование» встречаются также термины «изложение» (др. – греч. prothesis) и «рассказ» (лат. narratio).
Аристотель считал изложение и способы убеждения необходимой частью любой речи, в отличие, например, от вступления и заключения30. Он подробно излагает, как нужно строить рассказ и какими свойствами он должен обладать в различных видах ораторских речей: совещательных, показательных и судебных. Он отмечает, что речь слагается из двух частей: части, не зависящей от искусства оратора («потому что оратор к фактам не имеет отношения»), и части, зависящей от его искусства, которая состоит в том, «чтобы показать или что предмет речи факт, если он кажется невероятным, или что он именно таков, или настолько важен, или все это вместе»31.
«Благодаря тому, что повествование удобно для восприятия, аудитория охотно следит за последовательностью и составом события», – пишет Ю. В. Рождественский32, известный русский филолог, создатель своей научной риторической школы, которую продолжает филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Ю. В. Рождественский отмечает, что «всякое повествование заведомо неполно», потому что «события, его составляющие, избираются так, чтобы подвести слушателя к определенным выводам»33. Эта неполнота делает повествование уязвимым для критики, потому что аудитория может привлечь внимание к опущенным событиям, тем самым опровергнув ход и смысловое содержание повествования, а то и речи в целом. «Поэтому, – пишет автор, – при повествовании выбор событий необходимо хорошо обосновать, а не просто опускать невыгодные для говорящего эпизоды (что нередко делают судебные ораторы)»34.
На роль повествования в риторическом убеждении указывает и А. А. Волков: «Поскольку повествование предполагает рассказчика, предметом оценки оказываются не только факты, но и достоверность изложения. Как способ изложения повествование субъективно, так как включает разделенные образы рассказчика и аудитории и основано на использовании глагола»35. Действительно, при построении повествования рассказ ведется в последовательном порядке, а действия передаются глаголами. Отношения между участниками общения (дейксис) передается личными местоимениями «я», «мы», «он», «она», «они» и «вы», которые позволяют разделять аудиторию и рассказчика или противопоставлять действия одной стороны действиям другой. Дейксис и модальность высказывания служат инструментом смысловой организации текста и позволяют построить изложение фактов наиболее эффективно для достижения целей ритора.
Продемонстрируем, как можно использовать модальность в построении изложения в нужном нам направлении. Допустим, прокурор утверждает, что обвиняемый знал, что распространяемые им сведения не соответствуют действительности. Адвокат, когда будет излагать факты дела в жалобе или ходатайстве, изменит модальность высказывания, чтобы подготовить судью к тому, что этот факт будет оспариваться, и напишет примерно так: «22 сентября 2012 года обвиняемый опубликовал в газете “Вечерние новости” сведения, которые якобы не соответствовали действительности». Степень достоверности информации, представленной прокурором, при использовании слова «якобы» снижается. Помимо данного риторического приема, при построении повествования можно сгруппировать факты так, чтобы из повествования следовал определенный вывод. Еще можно добавить убедительности своему повествованию, добавив в речь образность и необходимую патетику там, где это будет уместно. Как бы ни было выстроено повествование, оно все равно подлежит оценке другой стороной и может подвергаться критике, но если сами факты изложены верно, то историю, создаваемую с помощью пафоса и риторических изобразительных средств, опровергнуть будет сложно. Единственное, что можно будет сделать, – это противопоставить ей свое видение фактов, т. е. написать свое повествование, свой нарратив, добавив детали, о которых умолчала другая сторона, или по-иному расставив акценты.
Вот, например, как излагает факты дела об утоплении крестьянки Емельяновой в своей обвинительной речи А. Ф. Кони: «Мы знаем, что молодой банщик женился, поколотил студента и был посажен под арест. На другой день после этого нашли его жену в речке Ждановке. Проницательный помощник пристава усмотрел в смерти ее самоубийство с горя по мужу, – и тело было предано земле, а дело воле Божьей. Этим, казалось бы, все и должно было кончиться, но в околотке пошел говор об утопленнице. Говор этот группировался около Аграфены Суриной, она была его узлом, так как она будто бы проговорилась, что Лукерья не утопилась, а утоплена мужем»36.
Далее А. Ф. Кони к сухим фактам добавляет детали, но при этом уже использует фигуры речи, чтобы придать деталям, связанным с образом Аграфены Суриной, особую важность и отвести от нее подозрения в соучастии: «Говорят, что она была на него зла за то, что он женился на другой», «Правда, он променял ее, с которой жил два года, на девушку, с которой перед тем встречался лишь несколько раз», «Человек, который ее кинул, приходит с повинной головой, как блудный сын, просит ее любви, говорит, что та, другая, не стоит его привязанности, что она, Аграфена, дороже, краше, милее и лучше для него», «Мы слышали показание двух девиц, ходивших к гостям по приглашению Егора, которые видели, как он, в половине ноября, целовался на улице и не таясь с Аграфеной».
Однако далее повествование внезапно переключается на Егора Сурина, и оратор старается «проследить его прошедшую жизнь», отбирая те детали, которые создадут образ человека распутного, работающего банщиком при номерных банях, куда для господ приглашаются дамы из дома терпимости: «У него происходит перед глазами постоянный, систематический разврат», «Он видит постоянно беззастенчивое проявление грубой чувственности», «Средства к жизни добываются не тяжелым и честным трудом, а тем, что он угождает посетителям», «С товарищами живет Егор не в ладу, нет дня, чтобы не ссорился, человек “озорной”, неспокойный, никому спускать не любит», «Это человек, привыкший властвовать и повелевать теми, кто ему покоряется», «И вот является первая мысль о том, что от жены надо избавиться».
Далее повествование опять возвращается к Аграфене, и обвинитель начинает перечислять и анализировать ее показания, данные на допросах, действия и слова, сказанные знакомым женщинам. Отдельно выстраивается история несчастной жертвы – Лукерьи. Три истории пересекаются в момент, когда происходит убийство, и оратор то сводит всех троих в одном месте, то умело разводит, чтобы нарисовать ту картину, которую хочет представить присяжным: обвинение против подсудимого имеет достаточные основания («Поэтому я обвиняю его в том, что, возненавидев свою жену и вступив в связь с другой женщиной, он завел жену ночью на речку Ждановку и утопил»).
Защитником обвиняемого был известный адвокат В. Д. Спасович, который рассказывал присяжным совсем другую историю: по его версии, Лукерья покончила жизнь самоубийством. Версию Кони Спасович назвал «романом, рассказанным прокурором». Тем не менее присяжные сочли более убедительной именно ту историю события, которую им представил Кони, и подсудимый был признан виновным в убийстве с заранее обдуманным намерением. Кони прекрасно справился со своей задачей: ему удалось так встроить косвенные улики в ткань повествования и так визуализировать сцену убийства, что у присяжных не осталось сомнений в правдивости повествования.
Риторические приемы изложения фактов, казалось бы, позволяют манипулировать аудиторией, но правила риторической этики не допускают лжи и намеренной фальсификации. Л. Е. Владимиров в риторическом пособии для адвокатов Advocatus miles отмечает: «Так называемое извращение перспектив дела, одинаково практикуемое в речах обвинителями и защитниками, есть прием, присущий всякой умственной борьбе интересов и, говоря вообще, состоит в выдвигании на передний план фактов, наиболее благоприятных, с сильным их освещением, при постоянном забвении фактов противоположных, неблагоприятных и отвлечении от них внимания всякими способами. Страстная процессуальная борьба, к сожалению, неразрывно связана со всякими, даже софистическими, приемами в отстаивании односторонней идеи и терпит их, при одном, однако, условии, которое должно быть свято соблюдаемо. Это условие – точное, правдивое, без ухищрений, воспроизведение правдивости»37.
Л. Е. Владимиров, предлагая адвокатам свои советы по подготовке выступления в суде, кладет в их основу положения классической риторики. Анализируя части судебной речи, он уделяет особое внимание повествованию, называя его «рассказом (narratio)» и ссылаясь в своих советах на римского ритора Квинтилиана, написавшего всемирно известный труд «Наставления оратору» (Institutio oratoria