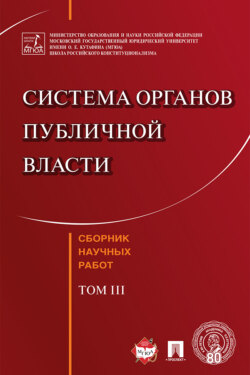Читать книгу Система органов публичной власти. Сборник научных работ. Том III - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 7
Часть 1
Динамика развития идей основоположников и последователей научной школы по вопросам публичной власти Российской Федерации
Раздел 1
Федеральный уровень публичной власти Российской Федерации
Садовникова Г. Д
Двухпалатная структура парламента: специфика российской модели[29]
ОглавлениеВопрос о структуре парламента – неотъемлемая часть конституционной политики построения системы государственной власти. «Структура парламента, определяемая количеством палат и методом их формирования, – справедливо отмечает профессор Б. С. Крылов, – самым тесным образом связана с компетенцией парламента в целом и палат, его образующих[30].
Выбор структуры парламента зависит от целого ряда факторов, в том числе идеологических, политических, исторических, социальных, др. Следует согласиться с Б. С. Крыловым, что в некоторых случаях на структуру влияет и то обстоятельство, что одна палата участвует в образовании другой[31].
Идеологическому фактору Б. С. Крылов отводит особую роль (не только применительно к структуре парламента), отмечая, что влияние идеологии как совокупности взглядов на отношения в обществе, политику и экономику государств очевидно и постоянно возрастает. Под идеологией ученый понимает «более или менее систематизированные идеи, определяющие оценку действительности и влияющие на проводимую государством внешнюю и внутреннюю политику»[32].
В качестве одной из предпосылок развития двухпалатного парламента Б. С. Крылов отмечает то, что в течение XIX в. усилиями политических деятелей и юристов «укрепился взгляд на необходимость второй палаты как орудия, выполняющего две задачи: а) сдерживающего «неоправданные», то есть радикальные порывы палаты, избираемой непосредственно избирателями, и б) ограничивающего злоупотребления исполнительной власти»[33]. Тем самым ученый констатирует влияние сложившихся в обществе взглядов, иначе говоря – идеологического фактора – на распространение бикамерализма как предпочтительной структуры парламента.
Такая структура высшего представительного органа государства имеет как достоинства, так и недостатки, отмеченные еще на рубеже XVIII–XIX столетий И. Бентамом. В качестве одного из достоинств ученый указал гарантированность досконального соблюдения установленных правил и процедур: «Если бы одна из палат их нарушила, то этим самым она дала бы законный повод другой палате отвергнуть всякое спорное представление»[34]. Кроме того, И. Бентам считал, что для всестороннего рассмотрения дела необходимо различие интересов, взглядов, что в наибольшей степени обеспечивает двухпалатность: «Люди, работающие долгое время вместе, приобретают… известный корпоративный дух», имеющий естественный противовес в другой палате[35].
К недостаткам парламентского бикамерализма И. Бентам отнес, следующее:
– вопрос, принятый даже единогласно в одной палате, может быть отвергнут большинством одного голоса в другой;
– возможность формирования двух различных направлений в законодательной деятельности в зависимости от состава палат;
– каждая палата может быть лишена части тех сведений, которые она имела бы при едином собрании;
– разделение на палаты неизбежно замедляет ход дела;
– окончательным результатом такого разделения может быть распределение прав, которое предоставит одному собранию инициативу, а другому – лишь право негатива. Тогда интерес той палаты, которая обладает лишь правом негатива, будет заключаться в отклонении всяких предложений[36].
В литературе существуют принципиально разные взгляды на двухпалатность как на историческую черту парламентов. Так, Н. А. Алексеев отвергает точку зрения С. Криппса, который считал: «Если мы хотим достигнуть эффективной демократии, то абсолютно невозможно иметь две Палаты, делящие суверенитет государства. Вторая Палата является либо представительной – в этом случае она не что иное, как дубликат первой Палаты, либо она не представляет народ в целом – в этом случае она не должна иметь место в подлинно демократическом Парламенте»[37]. Верхние палаты парламента, справедливо считает Н. А. Алексеев, вступили в новый исторический этап, получив новые, крайне важные полномочия в рамках государства. Необходимость реализации этих полномочий в различных государствах доказывает важность существования института верхней палаты Парламента. И кроме всего прочего формирование верхних палат, как правило, осуществляется на основе применения отличных от нижних палат методов, а само формирование двух палат Парламента разбивается во времени. Поэтому-то в свете разных сроков формирования во многих государствах верхние палаты являются не менее представительными, чем нижние. Кроме того, эти органы являются, как правило, менее политизированными и более профессиональными[38].
Причину сохранения влияния верхних палат в современных государствах можно видеть также в необходимости представительства штатов, земель, провинций, иных территорий. Действительно, структура парламента в определенной степени увязана с политико-территориальным делением государства.
Назначение и функции вторых (верхних) палат в унитарных и федеративных государствах неодинаковы. В последних нижняя палата призвана обеспечивать представительство народа страны в целом, а верхняя – представительство субъектов федерации. Парламенты федеративных государств, как правило, двухпалатные. Существовавшие в ЮАР по Конституции 1983 г. трехпалатный парламент и в Югославии по Конституции 1963 г. шестипалатный парламент, а по Конституции 1974 г. – трехпалатные Скупщины республик и автономных краев исключение из правил. По вопросу о структуре парламента федеративного государства – ФРГ, в частности о том, является ли Бундесрат ФРГ – орган земельного представительства – палатой парламента, в науке конституционного права нет единого мнения.
Что касается выбора структуры парламента в унитарных государствах, то в юридической литературе иногда делаются попытки определить некие критерии или закономерности в этом процессе. «Опыт показывает – считает Г. А. Василевич, – что двухпалатный парламент имеется всегда в федеративных государствах и обычно в государствах унитарных, где число жителей превышает 10 миллионов. Главное, что такой парламент при продуманном разграничении полномочий палат позволяет увеличить представительство в нем населения, как ни парадоксально, сэкономить средства налогоплательщиков, повысить эффективность его работы, обеспечить учет интересов органов территориального самоуправления, в большей мере обеспечивает проведение принципа разделения властей – законодательной и исполнительной, а значит, содействует стабильности в государстве. Традиционно двухпалатные парламенты состоят из палаты представителей (палаты депутатов) – нижняя палата (иногда название иное), сената, который является верхней палатой. Соотношение по численности между палатами различное, но всегда нижняя палата по числу депутатов больше верхней. Например, в Бельгии, государстве с более чем двухмиллионным населением, в палате представителей – 212 членов, в сенате – 178, Ирландии соответственно – 144 и 50, Нидерландах 150 и 75, Франции – 487 и 274. Оптимальное соотношение где-то 2:1 или 5:3»[39].
Однако в ряде случаев практика опровергает вывод Г. А. Василевича о зависимости структуры парламента в унитарных государствах от численности населения. Например, в многонаселенном Китае действует однопалатный парламент, а в некоторых государствах с небольшой численностью населения – Антигуа, Барбадос, Гаити, Санта-Лючия – двухпалатные. Видимо, в большинстве случаев на структуру парламента влияет конкретная политическая ситуация, исторические традиции, влияние других государств, иными словами – совокупность различных факторов. Исключением из правил можно считать наличие однопалатных парламентов в федеративных государствах Танзании, Сент-Китсе и Невисе, Федеративных штатах Микронезии и Коморских островах.
В унитарных государствах верхняя палата традиционно играла роль консервативного тормоза прогрессивных преобразований и формировалась менее демократичным путем, чем нижняя (по наследству или путем назначения). В демократических государствах, где и верхняя и нижняя палаты формируются целиком или в основном путем выборов, значение верхних палат постепенно утрачивается. Не случайно в некоторых странах верхние палаты после второй мировой войны были упразднены (Новая Зеландия, Дания, Швеция). В некоторых странах сохранение второй палаты – дань традиции, а в некоторых вторая палата – сдерживающий фактор на пути преобразований[40]. По мнению А. А. Мишина, верхняя палата была введена, во-первых, для представительства аристократии, во-вторых, для сдерживания радикализма нижней палаты[41].
Новейшая история российского бикамерализма начинается в 1990 г., когда в составе Верховного Совета РСФСР были сформированы две палаты – Совет Республики и Совет Национальностей. Эффективность реализации идеи двухпалатного парламента с 1990 до 1993 г. чаще всего оценивается отрицательно, поскольку палаты Верховного Совета РСФСР большей частью заседали совместно, доминирующую роль играл Президиум Верховного Совета – руководящий орган всего парламента, подавляющий инициативу палат[42].
Принципиально новое для России содержание двухпалатного парламента закрепила действующая Конституция 1993 г., установившая статус Совета Федерации и Государственной Думы как палат Федерального Собрания РФ. Двухпалатная структура российского парламента направлена, во-первых, на обеспечение представительства в Федеральном Собрании всего многонационального народа России, всех его слоев и социальных групп, возможность выражения их политических интересов; во-вторых, на наиболее полный учет интересов субъектов Федерации при принятии решений по вопросам исключительного ведения Российской Федерации; в-третьих, на повышение профессионализма парламента, имеющего мощный «фильтр» в лице Совета Федерации в законодательном процессе.
Некоторые особенности российской модели бикамерализма отметил Конституционный Суд РФ. В Постановлении от 12 апреля 1995 г. № 2-П Суд констатировал, что двухпалатность российского парламента, отражающая разные стороны народного представительства в Российской Федерации, обуславливает их самостоятельность, различность их компетенции, раздельность заседаний, в том числе при принятии федеральных законов. В то же время в предусмотренных Конституцией случаях палаты могут собираться вместе, однако голосования на таких заседаниях не проводятся и решения не принимаются[43].
Если обратиться к опыту организации и деятельности зарубежных двухпалатных парламентов, можно увидеть, что для некоторых стран характерны сильные верхние палаты, для других – слабые. Сильная верхняя палата означает ее полное юридическое равноправие с нижней. При этом фактически нижняя палата всегда сильнее, и не только потому, что она в значительной степени определяет «повестку дня» для верхней палаты, но и потому, что формируется на более демократичной основе и, следовательно, в большей степени олицетворяет саму идею народного представительства. Даже в тех странах, где палаты формально полностью равноправны (США, Италия), нижняя палата несколько более влиятельна, так как согласно конституционному обычаю большинство законопроектов первоначально рассматривается и принимается именно в нижней палате. По общему правилу, чем более демократичным способом формируется верхняя палата, тем она сильнее.
В государствах с сильной верхней палатой ни один закон не может быть принят без согласия обеих палат, и вносить законопроект можно в любую палату. Так, согласно ст. 70 Конституции Итальянской Республики законодательная функция осуществляется коллективно обеими палатами, а по ст. 72 – каждый законопроект, представленный в одну палату, изучается согласно правилам ее регламента комиссией, а затем самой палатой, которая одобряет его статью за статьей и в заключительном голосовании[44]. Конституция США (разд. 7 ст. 1) устанавливает, что каждый билль, прошедший Палату представителей и Сенат прежде, чем стать законом, подлежит представлению Президенту Соединенных Штатов[45].
Сильная верхняя палата, таким образом, может блокировать принятие любого закона. Система слабой верхней палаты, существующая в Испании, Индии и некоторых других странах, означает, что ее вето на законы может быть преодолено нижней палатой путем повторного принятия закона.
Существует и смешанная система, когда верхняя палата при определенных обстоятельствах является сильной, а в некоторых случаях – слабой (Франция, ФРГ, Россия).
В России при принятии федеральных законов (которые считаются обычными, или текущими законами) Совет Федерации является слабой верхней палатой, так как отклонение ею закона может быть преодолено Государственной Думой двумя третями голосов, но при принятии федеральных конституционных (аналог органических) законов, а также законов РФ о поправках к Конституции РФ, он становится сильной палатой, поскольку без его одобрения принятие этих законов невозможно. В этом одна из главных особенностей Российской модели бикамерализма.
Зависит ли воплощение идеи народного представительства от того, насколько сильна или слаба верхняя палата парламента – один из важных вопросов современной конституционно-правовой науки. Если рассматривать идею народного представительства преимущественно как право народа, всех его социальных групп и слоев на представительство в парламенте, предпочтительной является система слабой верхней палаты. Если же одним из главных аспектов народного представительства считать представительство в парламенте региональных интересов, верхняя палата должна быть сильной. Вопрос является крайне спорным, он не может иметь однозначного решения: важным является и то, и другое. Баланс может смещаться в ту или иную сторону в зависимости от конкретных условий, факторов. Этим можно объяснить компромиссное решение данного вопроса в Конституции РФ.
Компромисс представляется вполне обоснованным, поскольку изначально существование верхней палаты парламента имело косвенное отношение к идее народного представительства. На родине парламентаризма – в Англии верхняя палата возникла как инструмент сдерживания радикализма нижней и до сих пор является своеобразным фильтром для законов и других решений избираемой народом нижней палаты. В США, как известно, вторая палата возникла тоже не как воплощение идеи народного представительства, а как результат компромисса, позволившего обеспечить равное представительство штатов (это являлось условием их согласия на вхождение в федерацию), то есть послужила инструментом укрепления государства.
В науке конституционного права неоднократно высказывалось обоснованное мнение, что идея формирования парламентов из двух палат, обязанная своим происхождением случайному стечению обстоятельств и компромиссу, в последующем стала довольно удачно вписываться в государственную архитектуру федеративных государств, обеспечивая учет региональных интересов и равное участие всех частей федерации в решении общегосударственных задач. И сам федерализм таким путем обретает в глазах граждан уважение своей способностью обеспечить единство общих и региональных интересов и через двухпалатный парламент добиваться преодоления внутренних противоречий в государстве[46].
Смешанная система в России, при которой Совет Федерации может быть как сильной, так и слабой палатой, обусловлена тем, что при принятии законов приоритет должен отдаваться демократически избранной нижней палате, но при принятии наиболее важных, фундаментальных законов, учитывая, что при такой протяженности территории поддержка региональных представителей будет способствовать их более эффективной реализации на местах, целесообразно придать верхней палате больший вес.
В науке конституционного права не получили однозначного доктринального толкования и другие проблемы, отражающие специфику российского бикамерализма. Так, А. Я. Слива отмечает необходимость адекватной легитимации членов Совета Федерации как полноправных представителей субъектов РФ, единственным источником власти в которых (субъектах) являются граждане РФ, проживающие на их территориях. Основной вопрос о природе представительства в Совете Федерации продолжает трактоваться противоречиво. Хотя действующий Федеральный закон от 08.05.1994 «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в ред. от 03.12.2012)[47] и воспроизводит положение ч. 2 ст. 95 Конституции, из которого следует, что речь идет о представительстве субъектов РФ (ст. 1 Закона), однако далее он сводит его исключительно к представительству их органов государственной власти (ст. 2, 4 Закона). Другими словами, допускается отождествление двух различных конституционных категорий: субъект РФ и его органы государственной власти. Федеральному законодателю, по мнению А. Я. Сливы, предстоит преодолеть неопределенность в том, кого представляют члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ и можно ли быть одновременно представителем и субъекта РФ, и его органов государственной власти, а точнее, только одного из них (представительного или исполнительного)[48].
Можно возразить ученому в том, что упомянутый закон содержит неопределенность: в нем совершенно четко прописывается, что член Совета Федерации представитель субъекта РФ. Правовая неопределенность, и даже противоречие усматривается в том, что представителя субъекта РФ фактически делегируют органы государственной власти субъекта, а не население. Если представителя в Совет Федерации от законодательного органа избирают представители народа субъекта РФ – депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти, то порядок назначения представителя от исполнительного органа не позволяет считать лицо, получившее полномочия в соответствии с действовавшим до 03.12.2012 Законом «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» полноправным представителем субъекта РФ, скорее, он фактически является представителем высшего должностного лица субъекта. Действующий одноименный федеральный закон от 03.12.2012 № 229-ФЗ[49] усиливает элемент представительства в формировании верхней палаты российского парламента, закрепляя, что наделение полномочиями члена Совета Федерации осуществляется соответствующим органом государственной власти субъекта РФ на основе волеизъявления избирателей данного субъекта. В частности, при проведении выборов высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) каждый кандидат на данную должность представляет в соответствующую избирательную комиссию три кандидатуры, отвечающие требованиям и ограничениям, предусмотренным законом, одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта РФ.
Думается, в наибольшей степени реализации идеи народного представительства соответствовала бы выборность представителя в Совет Федерации от исполнительного органа государственной власти субъекта РФ народом субъекта РФ из числа кандидатур, выдвинутых данным коллегиальным органом. Кроме того, целесообразным представляется установить, что избранное лицо автоматически (по должности) приобретает статус заместителя должностного лица субъекта РФ, являющегося главой исполнительной власти. В этом случае он действительно будет представлять субъект Федерации, т. е. граждан России, постоянно проживающих на территории данного субъекта.
В современных условиях в структуре и организации представительных органов, учитывая федеративный характер государства и наличие муниципального уровня публичной власти, назрела необходимость введения так называемого «сквозного» народного представительства, и здесь также немаловажную роль призван сыграть институт бикамерализма: суть заключается в том, чтобы интересы каждой территории были так или иначе представлены в системе органов народного представительства снизу доверху. Это может быть достигнуто следующим образом:
а) в представительном органе местного самоуправления муниципального района должны быть представлены все входящие в него поселения, соответственно, агрегированы интересы их жителей. В настоящее время Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 25.12.2012) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»[50] не предусматривает таких гарантий;
б) представительные органы субъектов РФ должны быть двухпалатными, при этом одна из палат должна состоять из представителей муниципальных районов и городских округов, соответственно, в законодательной деятельности и при реализации иных полномочий данного органа интересы муниципальных образований будут учитываться более полно. Поскольку представительные органы субъектов РФ непосредственно «выходят» на федеральный уровень: делегируют своего представителя в Совет Федерации, имеют право инициирования пересмотра Конституции и конституционных поправок, законодательной инициативы, обращения в Конституционный Суд РФ, реализация указанных предложений обеспечит «сквозное» народное представительство снизу доверху.
Более того, реализация данной идеи усилит связь представительных органов различных уровней публичной власти, послужит более полному учету интересов муниципалитетов в ходе регионального законотворчества и при решении иных вопросов компетенции органов народного представительства субъектов РФ, учету интересов регионов в федеральном нормотворчестве, развитию парламентского бикамерализма, и, в конечном счете, будет способствовать развитию отношений народного представительства в России.
30
Крылов Б. С. Парламент буржуазного государства. Политическая сущность и формы парламента и парламентаризма на современном этапе. М.: Изд-во Института международных отношений. С. 62.
31
Там же.
32
Крылов Б. С. Вопросы политической идеологии в зарубежных странах // Конституционализм: идеал и/или реальность: Сборник материалов дискуссии за круглым столом 4 февраля 2011 года / под ред. Б. А. Страшуна, И. А. Алебастровой. М.: Институт права и публичной политики, 2012. С. 153.
33
Крылов Б. С. Парламент буржуазного государства. Политическая сущность и формы парламента и парламентаризма на современном этапе. М.: Изд-во Института международных отношений. С. 63.
34
Бентам И. Тактика законодательных собраний // Антология мировой политической мысли. М., 1997. Т. 1. С. 565.
35
Там же.
36
Там же. С. 565–566.
37
Цит. по: Алексеев Н. А. Палата Лордов Британского Парламента: от Суда Короля Эгберта до революции Премьера Т. Блера (825–2003 гг.). М.: БЕК, 2003. С. 28.
38
Алексеев Н. А. Палата Лордов Британского Парламента: от Суда Короля Эгберта до революции Премьера Т. Блера (825–2003 гг.). М.: БЕК, 2003. С. 27–28.
39
Василевич Г. А. Парламент Республики Беларусь: конституционно-правовой аспект. Мн.: Право и экономика, 1989 г. С. 15. Примечание диссертанта: в настоящее время данные о численности депутатов несколько отличаются от приведенных.
40
Автономов А. С. Правовая онтология политики: к построению системы категорий. М.: ООО Фирма «Инфограф». 1999. С. 310.
41
Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. М., 1996. С. 180.
42
Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. М.: НОРМА, 2000. С. 438.
43
Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1995. № 2–3.
44
Избранные конституции зарубежных стран: учеб. пособие / отв. ред. Б. А. Страшун. Перевод В. А. Кикотя. М.: Юрайт, 2011. С. 309.
45
Избранные конституции зарубежных стран: учеб. пособие / отв. ред. Б. А. Страшун. Перевод Б. А. Страшуна. М.: Юрайт, 2011. С. 401–402.
46
Ткаченко В. Г. Разделение власти как основа процедуры внутренней организации и функционирования Федерального Собрания Российской Федерации // Парламентские процедуры: проблемы России и зарубежный опыт. М.: Изд-во МГУ, 2003. С. 140; Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. М.: НОРМА, 2000. С. 438.
47
СПС КонсультантПлюс. Раздел: Законодательство.
48
Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. В. Д. Зорькина. М.: Норма; Инфра-М, 2011. С. 726.
49
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.12.2012.
50
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.12.2012.