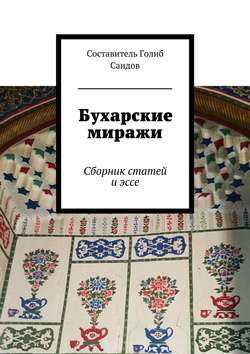Читать книгу Бухарские миражи - Коллектив авторов - Страница 7
Глава 1 – Биографии замечательных людей
Қози Мирзо Муҳаммад-Шариф (Садри Зиё)
ОглавлениеСадри Зиё
Биографическая справка:
Место не известно, скорее всего Бухара. Надпись слева по-арабски: /Это фотография несравненного Прибежища Шариата, обладающего достоинством садра, судьи Мирзы Муҳаммад-Шарифа Садра/, справа по-таджикски /Қози Мирзо Муҳаммад-Шарифи Садр/
Бухарский судья Муҳаммад-Шариф Садр-и Зийа (1867—1932) принадлежал к элитарному кругу бухарских интеллектуалов – чиновников, богословов, поэтов и писателей. Он происходил из семьи Абд ал-Шукура Айата, шариатского судьи, который в течение многих лет занимал высшие юридические посты в Бухарском эмирате и, в частности, пост Верховного судьи. Да и сам Садр-и Зийа на протяжении жизни занимал наиболее престижные посты шариатского судьи в различных провинциях Бухарского эмирата.
Благополучно сложилась и его так сказать академическая карьера – ещё в 1912 г. он был почтен титулом садр, высшим отличием для мусульманских учёных в эмирате. Садр-и Зийа занимался литературным трудом и искусствами, был известным прозаиком и каллиграфом. Писал он также и стихи.
Его дом в Бухаре был своего рода «литературным салоном», в котором регулярно собирались бухарские литераторы. Некоторые из них, как, например, Садр ад-Дин Айни и Абд ал-Ваҳид Мунзим, были учениками и младшими товарищами Садр-и Зийа.
С точки зрения политической ориентации Садр-и Зийа принадлежал к умеренным сторонникам реформ. Себя к джадидам он не причислял, но поддерживал с их лидерами близкие дружеские отношения. Более того, он участвовал в некоторых их предприятиях, например, финансируя новометодные школы. Он был убеждённым конституционным монархистом и сторонником независимости Бухары. Не разделял он и ставшего модным среди джадидов в те времена атеизма.
Весной 1917 г., после Февральской революции, он несколько недель был Верховным судьёй эмирата в новом либеральном правительстве Бухары. В административной системе эмирата это была вторая по значимости должность после қушбеги, премьер-министра. Однако под давлением консервативных сил внутри эмирата, Садр-и Зийа был отправлен в отставку, а после февраля 1918 г. арестован за близость к джадидам и чуть было не казнён.
После революции 1920 г. он не принимал активного участия в политической жизни. Некоторое время он работал в Министерстве вакуфных земель, в библиотеке. С присоединением Бухары к СССР он уходит на пенсию.
В 1932 г. Садр-и Зийа был арестован и заключён в медресе Муҳаммад-Шариф, использовавшейся тогда как тюрьма. В заключении он заболел и в апреле 1932 г. скончался.
«Осколки» старой Бухары.
ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ САДРИДДИНА АЙНИ «БУХАРА»
ШАРИФДЖАН-МАХДУМ И ЕГО СОБЕСЕДНИКИ
Шарифджан-махдум был вторым сыном дамуллы Абдушукура, верховного казия эмирской Бухары.
Отец Абдушукура и все его братья были отбельщиками, белильщиками тканей, да и сам Абдушукур в юности учился у них этому делу, хотя позже занял высшую должность при эмире.
Шарифджан был высок, белолиц; у него были круглые, словно овечьи, глаза и густая каштановая борода. Ему исполнилось двадцать семь лет. Никто из мулл Бухары не мог сравниться с ним красотой почерка, образованием, кругозором, глубиной понимания стихов.
Обычно дети высокопоставленных бухарских мулл, чванясь богатством и могуществом своих отцов, учились мало и небрежно, воспитывались плохо, вырастали бездельниками, гуляками и развратниками. Это не мешало им, пользуясь именами своих отцов,.получать высокие чины, доходные должности и все свои проступки и промахи покрывать отцовскими заслугами. О таких махдумах бухарские остряки сложили много издевательских анекдотов и эпиграмм. Например:
Махдум из двухсот голов сахара сварен.
Знатоки, отведав, сказали: «Бездарен».
Или
При сотворении мира бог всесильный
Махдума сотворил из пены мыльной.
Среди таких знатных махдумов мало встречалось сколько-нибудь образованных людей. Нетрудно себе представить, какой редкостью среди них был Шарифджан-махдум.
Три раза в неделю, накануне дней, свободных от занятий в медресе, вечерами по вторникам, средам и четвергам в доме Шарифджана бывали поэты, знатоки и любители поэзии, искусные рассказчики анекдотов и различных историй, а иногда – певцы или учёные. Вместе с Абдулвахидом я прислуживал им и слушал их беседы и рассказы. Эти вечера стали для меня большой литературной школой, здесь завязались мои знакомства со многими поэтами того времени.
Я расскажу о некоторых из них.
Абдулмаджид Зуфунун был учеником Ахмада Дониша. Он был астрологом, но занимался поэзией, историей литературы, хорошо усвоил все те знания, которыми смог овладеть в схоластических бухарских медресе. Был он сведущ также в теории и практике нашей средневековой медицины. За его глубокие знания в разных науках он был прозван Зуфунуном, что означает «обладатель знаний».
Под влиянием Ахмада Дониша Зуфунун относился критически к бухарским нравам и особенно к эмиру и эмирскому двору, придворным и лжеучёным Бухары. Когда находились слушатели, он резко высказывал им всё о корыстолюбивых и бесчестных поступках этих высокопоставленных лиц.
Но многое в поступках и внешности Абдулмаджида напоминало сумасшедшего. Постоянно он засовывал руку себе под рубашку, высовывал её из ворота и чесал бороду или нос. Иногда же, с силой выдёргивал волосы из бороды или усов. Если случалось встретить его на улице, я всегда видел его в одиночестве – он любил ходить один; насупив брови, глядя себе под ноги, он задумчиво проходил, никого не замечая.
В погожие дни он приходил на берег водоёма Диванбеги, любимое место прогулок бухарцев того времени. Он садился на краю низенькой крыши одной из небольших парикмахерских и, пощипывая бороду высунутой из ворота рукой, поглядывал на гуляющих. Когда мимо проходил приятный ему человек, он подзывал его, сажал рядом с собой, разговаривал с ним. Когда ему казалось, что интересная тема исчерпана, он заявлял собеседнику:
– Ладно. Ступайте! До свидания.
Без приглашения никто не решался подойти к нему. Его тёмное лицо, заросшее всклокоченной седой бородой, с гневным, огнемечущим взглядом из-под хмурых, густых бровей наводило на людей страх.
В дом Шарифджан-махдума он приходил редко и только днём. Если у хозяина оказывался гость, не интересный для Абдулмаджида, он, не здороваясь, смотрел на него некоторое время, словно приглядываясь к человеку, а затем так же молча уходил. Когда же гость или разговор его интересовали, он принимал участие в разговоре, особенно если речь шла об учёных или об эмирских придворных.
Шарифджан говорил о нем:
– Он разыгрывает из себя сумасшедшего. А нам известно, что это выдающийся учёный, очень знающий, очень глубокий. Но он не хочет, чтобы эмир затребовал его для каких-либо государственных дел, и прикидывается безумцем, лишь бы жить независимо.
Яхья-ходжа внешностью и поведением был своего рода двойником Абдулмаджида Зуфунуна. Он тоже представлялся сумасшедшим, но его «безумие» было шумливым и буйным. Тех, кто ему не нравился, он поносил, обрушивая на них потоки сквернословия. Высокопоставленные муллы и придворные, увидев его издали, спешили свернуть в переулок, спрятаться от его ядовитой брани.
Однажды, когда у Шарифджана сидели гости, среди которых были поэты, у ворот раздался крик:
– Эй, отбельщик! Как поживаешь? Что поделываешь? Заходить мне или нет?
Шарифджан приказал мне:
– Иди (скажи ему: пусть войдёт.
Яхья-ходжа был высокого роста, худой, с небольшой бородкой на бледном лице. В бороде у него белых волос было гораздо больше, чем черных, и по этому признаку ему могло быть: около шестидесяти лет.
Он происходил из почётного рода бухарских ходжей. Его отец и его деды занимали при эмирах высокие государственные, духовные или хозяйственные посты. По обычаю эмиров, таких ходжей надлежало всячески почитать и ублаготворять. Поэтому на выходки Яхья-ходжи смотрели сквозь пальцы, не решаясь потребовать от него ответа за его слова и поступки. Этим он пользовался, разыгрывал сумасшедшего и всячески закреплял за собой такую славу, ибо она давала ему возможность не только чудить, но и высказывать мысли, за которые простой бухарец немедленно расстался бы со своей головой.
О выходках Яхья-ходжи ходило много весёлых рассказов, из которых передам некоторые.
Один из рассказов касался муллы Кори Саме, которого украшала несравненная борода.
Кори Саме повязывал голову огромной пышной чалмой и, выпустив из длинного рукава длиннейшие чётки, перебирая их, бормоча молитвы, медленно проходил по базарам и по улицам Бухары, своим видом показывая всем и каждому, что, презрев все земное, всеми помыслами он устремлён к богу. В действительности же это был ханжа и плут, из корыстолюбцев корыстолюбец. От зоркого Яхья-ходжи не укрылось двуличие этого лицемера. Поэт решил проучить его.
Однажды Яхья-ходжа искусно составил ложные шариатские документы и передал их в суд, заявив:
– Этими документами подтверждается, что дом, занимаемый муллой Кори Саме, принадлежит не ему, а мне. Требую свой дом обратно.
После нескольких дней судебного разбирательства иск Яхья-ходжи был подтверждён казием, и Кори Саме уплатил Яхья-ходже пятнадцать тысяч тенег, составляющих стоимость этого дома. Кори Саме вынужден был принести деньги и в присутствии казия вручил их Яхья-ходже.
Но когда казий уже намеревался печатью удостоверить исполнение иска, Яхья-ходжа удержал его.
– Эти деньги я временно оставлю ответчику и возьму у вас свои документы, если Кори Саме даст мне слово, что впредь никогда нигде не появится с чётками в руках. Отныне он может выходить только без чёток и в обычной чалме. Пока это условие он выполняет, может не беспокоиться за свой дом. Если же снова примется за свои лицемерные проделки, я немедленно возобновлю иск, и тогда никакими деньгами он уже не откупится! Кори Саме поспешил дать слово, чтобы спасти свои деньги. С этого дня он до конца дней своих нигде не появлялся ни с чётками, ни в большой чалме. Но с этого дня он стал всеобщим посмешищем.
– Вон идёт мулла, продавший свои чётки и молитвы за пятнадцать тысяч тенег! – смеялись ему вслед.
В другой раз Яхья-ходжа неожиданно появился у верховного казия Бухары Бадриддина во время судебного разбирательства. Бадриддин, обомлев при виде злоязычного сатирика, встретил Яхья-ходжу с почётом, предупредительно, кланяясь, лицемерно улыбаясь, и попросил муллу Яхья-ходжу прочитать молитву, надеясь, что этим знаком внимания отвратит от себя жало сатиры.
Яхья-ходжа, вознеся длани свои к небесам, воскликнул:
– Господи, о, если б ты явил милость и сотворил казия Бадриддина богом взамен себя самого!
В изумлении от этой молитвы Бадриддин робко заметил:
– Э… э… э… Это же богохульство!
– Какое же богохульство? Я прошу бога о том, чего тебе не хватает. Ведь в Бухаре ты теперь выше самого эмира. По всему Бухарскому ханству участь и живых и мёртвых в твоих руках. Стоит захотеть тебе, и любого человека ты можешь погубить, обесчестить, разорить, обезглавить. Захочешь – и любого возвеличишь, вознесёшь, озолотишь, осчастливишь. И ни один человек пикнуть не посмеет против тебя. Теперь, кроме престола всевышнего, нет на свете никакой должности, которую ты захотел бы принять взамен своей.
Зала верховного казия при этом разговоре была полна народу. Истцы, ответчики, судейский люд – все окружили плотной стеной беседующих, жадно ловя смелые слова беспощадного поэта.
Бадриддин, торопясь любым способом избавиться от такого собеседника, бормотал:
– Так, так, согласен с вами. Вполне с вами согласен!
Но, наслаждаясь растерянностью наимогущественного человека Бухары, Яхья-ходжа продолжал:
– Согласен? Отлично. А если согласен, тебя не может не интересовать, почему именно я прав. А я вот почему прав. Посуди сам, казий, ведь тебе очень выгодно стать богом. Очень, очень выгодно и крайне необходимо: пока ты не станешь богом, тебе придётся отвечать перед богом за крестьян, безвинно выброшенных тобою из их убогих лачуг, за бедных сирот, у которых ты оттягал наследство, за обездоленных вдов и осиротевших детей, чьих мужей и отцов ты сгноил в темницах. Пока ты опасаешься божьего гнева, ты нет-нет да и задумаешься: «Не накажет ли меня бог?» И эти сомнения отравляют тебе жизнь, портят тебе настроение. А когда ты сам станешь богом, тогда спокойно начнёшь творить все, что ни взбредёт в голову, и совесть твоя не шевельнётся, и радости твои не омрачатся, и жизнь твоя станет безоблачна и безмятежна. Будешь копить сокровища, сколько ни вздумается, овладевать всем, на что ни польстишься. Ведь тогда за твои черные деяния бог не спросит с тебя ответа в день Страшного суда…
Останки былого великолепия.
Яхья-ходжа носил обычную одежду муллы – халат с мелким рисунком, обшитый узкой тесьмой; на голове белую чалму. Но однажды Яхья-ходжа пришёл к Шарифджану в зелёной чалме и в туфлях на высоких каблуках. Шарифджан, увидев его в таком наряде, удивился:
– Поздравляю с переменой одежды! Чему прикажете приписать неожиданное превращение муллы в уличного гуляку?
– Поздравление принимаю, согласен с тобой: наряд мой заслуживает поздравления, а почему я так оделся – охотно объясню. Представь себе, сегодня утром встречаю Абдул Карима, который торгует на базаре фарфоровой посудой. И вижу, лавочник одет муллой. Я спрашиваю: «Чем объяснить, что купцы обрядились муллами?» А он отвечает: «Сегодня настоятель нашей мечети – за утренней молитвой сказал на проповеди, что каждый человек завтра, в день Страшного суда, выйдет из могилы в том обществе, одежду которого он носил при жизни.
И бог, соответственно сему, предоставит ему место в раю или аду. Вот, говорит мне Абдул Карим, я и счёл для себя наиболее желательным и подходящим восстать из мёртвых вместе с богословами, чтобы вместе с ними войти в царство небесное, почему и решил одеться по их обычаю».
Яхья-ходжа пожал плечами
– Я подумал-подумал, и мне стало ясно, что если я окажусь в раю в обществе таких богословов, то лучше мне отказаться от рая. Хватит с меня и того позора, что судьбе угодно было включить меня в их компанию на земле. Но чтобы в этом обществе ещё и на Страшном суде стоять – благодарю покорно! Поэтому я решил одеться уличным гулякой, картёжником, головорезом, чтобы хоть на том свете оказаться среди этих весёлых людей, даже если с ними мне и обеспечена дорожка в ад. Вдали от богословов мне и ад покажется раем.
После этого Яхья-ходжа почти всегда ходил в туфлях на босу ногу и без обычного головного убора мулл.
В дни, свободные от занятий, Яхья-ходжа часто навещал Шарифджан-махдума.
Не заходя в комнату, он кричал:
– Эй, отбельщик! Что поделываешь? Заходить к тебе или не стоит?
Шарифджан передавал ему через меня или Мирзо Абдулвахида приглашение. Тогда, забравшись на суфу и сунув голову в дверь гостиной, он оглядывал присутствующих и, сказав каждому из них несколько колкостей, исчезал.
Однажды он пришёл, когда у Шарифджана было несколько поэтов. Оглядев их, Яхья-ходжа сказал хозяину:
– Ты простак, что собрал вокруг себя этих чертей. Думаешь, они к тебе на поэтические соревнования приходят или обменяться своими знаниями? Нет, они приходят твоего плова поесть.
Иначе, почему они у меня не собираются? Потому что у меня нет ни лишнего плова, ни лепёшек.
– Ладно – ответил Шарифджан, – пусть я простак. Не обижаюсь. Но зачем обижать этих безобидных людей, называя их чертями?
– Сейчас они кажутся людьми, но это их временная оболочка. Как только закончат обучение и выйдут из медресе, они кинутся искать чины и доходы. Чтобы добиться этого, они сочинят хвалебные стихи эмиру и верховному казию. А те из них, которым дадут место казия или раиса туменя, из простых чертей превратятся в сущих демонов.
– В таком случае, – ответил Шарифджан. – я таков же, каковы и они, не лучше: ведь я заодно с ними! Станут ли они казнями или раисами, ещё неизвестно, а мне подобное место обеспечено сразу, как только закончу обучение.
– Не принимаю! – отмахнулся Яхья-ходжа. – Тебя я не ставлю в один ряд с ними. Тебе от отца осталось большое наследство, и, если у тебя не появится особой жадности, ты не станешь столь жестоко грабить народ. А те, что впервые добираются до денег, хотят все их забрать себе. Голодный волк смелей и свирепей сытого волка.
Раз Яхья-ходжа явился к Шарифджану, когда хозяин принимал одного из богатейших купцов Бухары – Джурабека Арабова.
Яхья-ходжа вошёл, оглядел с ног до головы важного, нарядного гостя и, покачав головой, сказал:
– Эх, почтенный, я вижу, ты гордишься своим, происхождением от арабов? Напрасно! Ведь беспощадный Хаджджадж (В период его правления значительная часть Средней Азии была завоёвана арабами) с помощью Кутейбы ибн-Муслима пролил потоки крови в нашем Мавераннахре (От араб., обозначение территории, находящейся между Амударьёй и Сырдарьёй), а он был арабом. И нельзя тебе гордиться своими роскошными халатами, пышной чалмой, домом, подобным дворцу, множеством бойцовых петухов и скаковых коней. Я слышал, что для конских игр, для козлодранья ты держишь десяток отборных лошадей и при них содержишь несколько человек для той же игры. Для петушиных боев у тебя обучено двадцать пять петухов, и при них ты содержишь несколько дрессировщиков, знатоков петушиного боя. Я знаю, ты разрушил свой дом, построенный пять лет назад, чтобы за сто тенег построить новый дом, больше прежнего. И этим ты не можешь гордиться. Ты свой дом выставляешь напоказ, лошадей выводишь на козлодранье, петухов выпускаешь на бой, а дела свои думаешь заслонить всем этим! Хочешь скрыть, откуда у тебя богатство…
Из-под пышной чалмы Арабова, повязанной поверх златотканой тюбетейки, струился пот, широкая тесьма на вороте его халата взмокла.
Яхья-ходжа, глядя на это, помолчал, а потом спросил Арабова:
– Ты хоть грамотен?
Отирая платком лицо и затылок, Арабов пробормотал:
– Немного могу читать и писать.
– Бедиля читал?
– В школьном возрасте.
– А понял его?
Арабов молчал, пытаясь угадать, какой новый удар готовит ему Яхья-ходжа. А Яхья-ходжа покачал головой:
– Нет, ты его не мог понять. Ведь твой учитель, – если он помер, царство ему небесное, если жив, будь он трижды проклят, – этот твой учитель сам, небось, не понимал Бедиля. А у поэта сего есть и общепонятные стихи, но ты этих стихов не видел. А если и видел, то поспешил позабыть. Они могли повредить тебе, эти вот стихи Бедиля:
Никто не набьёт свой карман серебром,
Доколе не станет карманным вором.
Прочитав это двустишие, Яхья-ходжа отвернулся от Арабова и обратился к Шарифджану:
– Удивляют меня и раис Бухары, и миршаб: бедняка за карманную кражу хватают, избивают плетью и сажают в темницу, ведь карманник при удаче стащит пять тенег, самое большее – десять. А чаще случается, что вместо серебра выхватит сгоряча тыквенную табакерку, а её на базаре и за четыре гроша не продашь! Всякому понятно: не о таких бедняках писал Бедиль два века назад, а об этих вот, у которых сотни тысяч золота накоплены воровскими путями. Но этих никто не тронет; наоборот, чем больше у них наворовано, тем больше их почитают.
Яхья-ходжа помолчал, потом, вопреки своему обыкновению, сел.
Одна из ниш традиционного бухарского дома. Фото автора.
– Вчера я интересный случай видел. Был я на берегу водоёма Диванбеги, когда, незадолго перед полуденной молитвой, явился туда раис Бухары. Для него поспешно расстелили ковёр перед мечетью. Он расселся и разослал своих молодцов на поиски преступников.
Молодцы обежали все чайные и все харчевни вокруг водоёма, схватили какого-то человека и поставили перед раисом: «Это заядлый карманник!»
Раис осведомился: «Есть ли свидетели его воровства?» Люди толпились вокруг, но помалкивали. Тогда сквозь толпу протискался этот вот твой гость, Арабов, о подобных которому ещё двести лет назад Бедиль сказал, что они воры из воров, протискался и засвидетельствовал: «Я своими глазами видел, как он воровал!»
Раис, узнавши этого Арабова, подобострастно привстал, почтительно, приветствовал такого свидетеля, усадил рядом с собой, а слугам велел раздеть воришку, всыпать ему сорок без одной плетей и потом отвести в темницу. И объявил: «Завтра доложу о сем злодее его высочеству, всемилостивейшему эмиру нашему»
Яхья-ходжа сокрушённо развёл руками: – Ведь это крайняя мера – доклад о злодее самому эмиру. Если найдутся у бедняги какие-нибудь сбережения, он откупится и доклад эмиру не состоится. Раис заберёт его пожитки и отпустит его на все четыре стороны. И после этого мелкий вор станет крупным разбойником, потому что раис станет для него своим человеком. Если же у бедняги ничего за душой не окажется, эмиру о нем доложат, а эмир скажет: «Заточить! Чтобы гнил воришка до конца дней своих во тьме кромешной!»
Говоря это, Яхья-ходжа взволновался. Гнев охватил его, глаза его сверкали, пена белела в уголках рта.
– Плюю я на воров! На подобных вот воров и на самого крупного из них, на его высочество! – Порывисто встал и ушёл.
Яхья-ходжа не был профессиональным поэтом, но многие говорили о его сильном поэтическом даровании. От случая к случаю он сочинял сатирические стихи, произнося их перед теми, в кого они были нацелены, как бы ни был силен человек, рассердивший поэта. В одном из стихов он высмеял кушбеги Бухары – Джанмирзу.
Случилось так, что Джанмирза, гордившийся своей на редкость пышной, величественной бородой, пожелал понравиться Яхья-ходже и снисходительно попросил:
– В прежние времена великие поэты сочиняли панегирики своим знатным современникам, дабы увековечить их память. Не мешало бы и вам, достопочтенный поэт, чем-нибудь выразить внимание к вашему покорному слуге. Это оказало бы мне честь, а о вас сохранилась бы память.
Яхья-ходжа, не моргнув глазом, ответил на это такими стихами:
Взглянувши в зеркало, кушбеги, возгордясь,
Ликует: «Ах, какая борода!»
Но, к бороде Кори Саме оборотясь,
Тоскует: «Ой, какая борода!»
Затем Яхья-ходжа с сожалением развёл руками:
– Не прогневайтесь, уважаемый кушбеги, но, кроме бороды, я у вас не заметил ничего, чем вы могли бы гордиться и что я мог бы воспеть. Но и эта ваша борода ничто в сравнении с бородой муллы Кори Саме!
Однажды другой очень знатный эмирский военачальник также обратился к Яхья-ходже с предложением написать о нем. Это пожелание высказано было в присутствии многочисленных высокопоставленных придворных. Яхья-ходжа быстро сочинил и тут же, в присутствии всех собравшихся прочитал оду из пятидесяти отличных по рифме двустиший, размером, которым написана «Шахнаме» Фирдоуси (Мутакариб – разновидность метрической системы стихосложения аруз. Этим размером, как правило, писались эпические произведения). Но процитировать эту оду невозможно: она состоит из таких выражений и основной образ её таков, что для печати неудобен.
Яхья-ходжа был одним из близких друзей нашего выдающегося учёного Ахмада Дониша, его частым гостем и собеседником. Со слов Яхья-ходжи Ахмад написал большой рассказ, почти роман, под названием «Хаджи Бобо» в своей книге «Редкостные происшествия» («Наводир ул-вакое» – крупнейшее произведение Ахмада-махдума Дониша).
Садык ходжа Гулшани (Автор утраченного сочинения «Подробная география» и многочисленных любовных стихов, знаток поэзии, землемер, математик) был учёным. Когда я служил у Шарифджана, ему было лет тридцать. Белолицый, черноглазый, с большой широкой бородой, он был крепко сложен и красив. Одевался он скромно, но очень опрятно.
Он тоже хорошо рассказывал всякие истории, хотя и заикался слегка. Это заикание даже украшало его речь, придавая ей какое-то особое обаяние. Из учеников бухарских медресе он первым изучил русский язык.
Он жил в одном квартале с Ахмадом Донишем, постоянно с ним встречался, и, говорят, именно Ахмад Дониш убедил его заняться изучением русского языка, а благоприятствовало этим занятиям и ещё одно обстоятельство.
У Садык-ходжи был дядя, искусный ювелир. Бухарцы звали его Ходжа-печатник за мастерство, с каким он делал печати и всевозможные золотые изделия. При эмире Музаффаре он подвергался преследованию и, чтобы спасти голову, бежал из Бухары. Поселившись в Самарканде, он купил там дом и принял российское подданство.