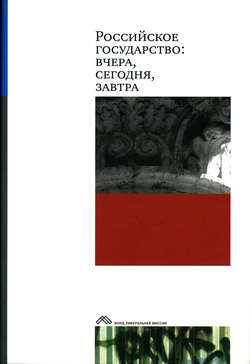Читать книгу Российское государство: вчера, сегодня, завтра - Каллум Хопкинс, Коллектив авторов, Сборник рецептов - Страница 3
Игорь Клямкин
Постмилитаристское государство
Предисловие
История и историческое сознание
ОглавлениеУчастники дискуссии часто и охотно обращаются к отечественной истории, которую видят неодинаково.
В глазах одних она выглядит историей «тысячелетнего рабства» и государственного произвола. В глазах других – историей подвигов и побед, в которых проявилась особая духовность народа и которые позволили создать могучую и влиятельную государственность.
Для одних это история европейской страны, сбившейся с первоначального пути. Для других – история азиатской деспотии, интегрировавшей в себя европейскую культуру и тем самым обрекшей себя на хроническое системное заболевание, которое как раз и проявляется как «проблема колеи», т. е. циклического чередования либеральных реформ и авторитарных контрреформ, «перестроек» и «застоев».
Одни считают, что сущность отечественной государственности на протяжении веков остается неизменной, меняются лишь ее формы. Другие полагают, что в эволюции форм проявляются трансформации самой сущности.
И все это – не просто разные интерпретации прошлого. Это разные типы исторического сознания, предполагающего соотнесенность образа прошлого с образами настоящего и будущего.
Дискуссия в очередной раз показала, что разнотипность исторического сознания на сегодня сохраняется. В том числе и потому, что оно предельно идеологизировано. Однако в ходе обсуждения были и попытки такого рода идеологизированность преодолеть, объясняя ее саму специфическими особенностями отечественной государственности и ее развития, на разных этапах востребующей разные типы идеологов и, соответственно, интерпретаторов прошлого. Думаю, что пафос объяснения продуктивнее и перспективнее оторванного от реальности пафоса долженствования. Но дискуссия выявила и то, что при этом возникает соблазн методологически репрессировать долженствование как таковое, о чем мне еще предстоит говорить. А главное, она показала, что и при установке на объяснение сама реальность, подлежащая объяснению, не очень-то ему поддается и не столько укладывается в те или иные объяснительные схемы, сколько вываливается из них.
Эта реальность отторгает теоретический язык, изобретенный западной гуманитарной наукой для описания европейской истории. Она отторгает и язык, созданный той же наукой для интерпретации истории Востока и фиксации ее отличий от европейской. Потому что в России было то, чего ни на Западе, ни на Востоке не было. Ни Запад, ни Восток не знали форсированной принудительной модернизации в духе и стиле Петра I, проложившей историческое русло для российского великодержавия, и даже не предполагали, что таковая возможна. Ни Запад, ни Восток не знали и модернизации типа сталинской, превратившей страну в одну из двух мировых ядерных сверхдержав. Нигде не было и прецедента распада такой сверхдержавы в мирное время. Но если для описания российской истории нет адекватного ей теоретического языка, то невозможна и рационализация исторического сознания: оно обречено быть на разный манер идеологизированным.
Проблема усугубляется еще и тем, что изобрести особый язык для описания реалий отдельно взятой страны невозможно в принципе. Потому что знание, претендующее на статус научного, имеет дело не с единичными объектами, а с классами явлений и процессов. Дискуссия показала, что проблема эта некоторыми участниками осознается. Предлагались и ее решения, причем не только с помощью уже существующих в мире подходов, но и посредством понятийных новаций. Я вижу в этом плодотворную тенденцию к преодолению идеологизированности нашего исторического сознания и его расколотого состояния. Но я вижу и то, что отмеченные выше и многие другие особенности отечественной истории объяснению так и не поддались. Более того, эти особенности развития не попадали даже в число фактов, интерпретируемых с помощью предлагаемых объяснительных схем. А если и попадали и даже оценивались как беспрецедентные (я имею в виду упомянутые выше форсированные модернизации), то вопрос о том, почему такой маршрут стал возможен именно и только в России, интереса все равно не вызывал.
Нам предстоит научиться описывать уникальный объект, каковым является российская государственность и ее история, не изолируя его от других, а как уникальный объект в ряду этих других. Как объект, чьи особые свойства свидетельствуют лишь о том, что в нем превышена некоторая мера того, что само по себе вовсе не уникально. Именно к такой постановке вопроса вплотную подводит, мне кажется, наша дискуссия, и я надеюсь, что внимательный читатель книги со мной согласится. Во всяком случае, вариант ответа, который я хочу предложить, явился непосредственным результатом размышлений над текстами ее участников: дискуссия заставила додумать многое из того, к чему раньше только подступался.
Рельефнее всего уникальность России проявилась в советскую эпоху, отмеченную наивысшим державным взлетом и последующим падением, сопровождавшимся территориальным распадом. И потому именно советский период может служить той точкой обзора, с которой лучше всего просматривается и многое из того, что было характерно для периодов предшествовавших. Речь, разумеется, идет не о властных институтах, лишь внешне сходных с самодержавно-монархическими, а тем более не о коммунистической идеологии, в отечественном прошлом аналогов не имевшей. Речь о том, какое историческое и культурное содержание было облачено в советские институциональные и идеологические формы.
Вспомним об «осажденной крепости» и других особенностях официальной политической лексики сталинской эпохи. Вспомним обо всех этих «штурмах», хозяйственных, культурных, бытовых и прочих «фронтах», не говоря уже о всепроникающей «борьбе». Вспомним об искусственно насаждавшемся образе врага и культе секретности. Вспомним, что даже достижения в труде поощрялись на военный манер – «медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют». Вспомним, наконец, о «солдатах партии» и о том, что сама партия во всех редакциях своего устава именовала себя боевой организацией. Все это свидетельствует о том, что Советское государство было милитаристским и что именно в этом заключалась главная его особенность.
Но милитаризм, фиксируя уникальность советской государственной организации, позволяет и сравнивать ее с государственными образованиями иного типа. Потому что сам по себе милитаризм ничего необычного собой не представляет: в разное время он имел место в самых разных странах. Он становится уникальным лишь тогда, когда мера милитаризации позволяет говорить о появлении нового исторического качества, аналогов не имевшего. Это новое качество и было продемонстрировано миру «первой страной победившего социализма».
Раньше милитаризм понимался как сдвиг экономической жизни в сторону увеличения расходов на армию и производство вооружений при одновременном насаждении в массовом сознании образа внешнего врага и предощущения неизбежной войны с ним. Но в сталинском СССР было не только это. Там было еще и то, что можно назвать милитаризацией повседневного жизненного уклада, т. е. выстраивание мирной жизни по военному образцу, что и позволяет говорить об уникальности советского типа государственности. Интересно, что некоторые немецкие идеологи предлагали Гитлеру заимствовать русский опыт милитаризации и героизации труда («административно-командную систему», как стали говорить во времена перестройки), но он к их советам не прислушался.
Почему же в Советском Союзе стало возможным то, что до того считалось немыслимым? Это стало возможным потому, что большевики получили в наследство культуру народного (прежде всего – крестьянского) большинства, в которой ценности военной и мирной жизни не были расчленены. Речь, разумеется, идет не о том, что в глазах населения не было никакой разницы между крестьянином-хлебопашцем и воином. И, тем более, не о том, что мирный и ратный труд в его сознании как-то совмещались. Наоборот, когда русским крестьянам такое совмещение было навязано посредством организации военных поселений, их возмущению не было границ. И от рекрутчины они были отнюдь не в восторге. Речь идет о том, что по военной модели выстраивались отношения людей с государством и что политической альтернативы этой модели в народной культуре изначально не было, а ее формирование властями блокировалось.
Славянофилы в свое время правильно указали на негосударственный, неполитический характер этой культуры. Но они не заметили, что она была догосударственной и дополитической, так как именно в таком состоянии столетиями консервировалась властями. Не заметили они и того, что в вопросах, касающихся отношений населения с государством, в ней ценностно не отчленились друг от друга военная и мирная составляющие. Однако после советско-коммунистического эксперимента не замечать это – значит закрывать глаза на очевидное. И, соответственно, оставлять наше историческое сознание в том растрепанном состоянии, в котором оно сегодня находится.
Культуру, о которой идет речь, насадили не большевики. Да, они использовали ее так, как никто до них, но отсюда не следует, что до них она в государственном строительстве не использовалась. Взгляд на досоветскую историю с советской точки обзора как раз и позволяет осмыслить эту историю иначе, чем обычно делается. Причем осмыслить в ее динамике, потому что сама советская государственность тоже менялась, пройдя в своем развитии два цикла – сталинской милитаризации и послесталинской демилитаризации. Но ведь то же самое без труда обнаруживается и в досоветской истории.
Ко времени большевистского переворота Россия тоже успела пройти длинные циклы милитаризации и постепенной демилитаризации жизненного уклада. Первый начался после освобождения от монголов, и это своеобразие начальной стадии развития давно зафиксировано историками самых разных направлений. Либерал В. Ключевский писал о «боевом строе государства» в Московской Руси, а евразиец Н. Алексеев – о том, что оно «имело характер военного общества, построенного как большая армия». Читая выступления участников дискуссии, ищущих аналоги послемонгольской Московии в Европе, Византии или средневековом Китае, примите во внимание и эти констатации старых историков, вызывающие скорее ассоциации с древней Спартой или империей инков. И тогда, возможно, дискуссия станет стимулом для дальнейших полезных размышлений о нашей истории, нашей самобытности и идентичности и, соответственно, о нашем историческом сознании.
Этот цикл милитаризации завершился при Петре I, который довел ее до предельных для своего времени глубины и масштабности, осуществив с ее помощью беспрецедентную по меркам той эпохи принудительную модернизацию. И возможной она стала только потому, что в культуре с размытыми границами между ценностями военной и мирной жизни в отношениях людей с государством для сопротивления такой модернизации не было и не могло быть необходимых ресурсов. Ее истоком и аналогом можно считать не знавшую таких границ культуру родо-племенную, но в постоянно воевавшей Московии она была приспособлена – с учетом опыта оккупационного ордынского правления, осуществлявшегося с помощью московских князей, – к нуждам государства и навязана всем его подданным. Поэтому на Руси и стал возможен уникальный феномен Петра, благодаря успешным войнам сумевшего заложить основы новой – державной – идентичности. Но при отсутствии культурной почвы, обеспечивающей непротивление государственному диктату и предписанным сверху радикальным переменам, не было бы ни модернизации, ни победной войны со Швецией, ни державности. Упадок всесильной Османской империи, в которой такой почвы для появления своего Петра не оказалось, – достаточно убедительное тому подтверждение.
Однако у такого рода милитаристской государственности есть ахиллесова пята. И обнаруживается она именно после того, как державный статус оказывается достигнутым. С одной стороны, его уже нельзя не поддерживать: став ядром государственной идентичности, он становится для власти важнейшим легитимирующим фактором. С другой – сверхнапряжение, которым сопровождается его достижение и которое требует полного, как на войне, растворения частных интересов в интересе общем, не может продолжаться бесконечно долго. Частные интересы рано или поздно начинают претендовать на признание – прежде всего интересы элиты. Поэтому после Петра она стала настоятельно просить самодержцев о послаблениях. Результатом и стало вступление страны в длинный цикл демилитаризации, начавшийся с раскрепощения дворянства и дошедший до упразднения крепостной зависимости крестьян, декларации прав и свобод в Октябрьском манифесте 1905 года и учреждения выборного института народного представительства. Помня о том, что происходило в СССР после смерти Сталина, мы получаем основание утверждать, что история страны представляет собой циклическое чередование милитаризаций и демилитаризаций жизненного уклада. И, тем самым, важный импульс для формирования рационального исторического сознания.
Такое сознание исключает как нигилизм по отношению к прошлому, так и его апологетику. Оно чувствительно к величию военных побед, имевших место в милитаризаторских циклах и даже за их пределами – правда, лишь до тех пор, пока достигавшийся в этих циклах военно-технологический уровень не становился уровнем вчерашнего дня. Чувствительно оно и к величию культурных взлетов, которыми отмечены циклы демилитаризации. Но такое сознание не может быть и апологетичным. И не только потому, что отдает себе отчет в цене, которой оплачивались модернизации и победы. Оно без труда обнаруживает и стратегическую неустойчивость российской государственности, которая к демилитаризованному состоянию оказывалась плохо приспособляемой. После обусловленных внешними и внутренними вызовами нескольких зигзагообразных колебаний между либеральными реформами и авторитарными контрреформами, сопровождаемыми порой частичной поверхностной ремилитаризацией (скажем, в духе Павла I или Николая I), она попросту обваливалась.
Эти колебания давно уже привлекли внимание историков, которые возвели их в ранг некоей закономерности и распространили ее на всю послемонгольскую историю страны. Некоторые участники дискуссии пошли еще дальше и, под влиянием опыта двух последних десятилетий, перенесли данную закономерность не только в настоящее, но и в будущее. Но при подобном понимании «проблемы колеи» стирается разница между такими «контрреформаторами», как Петр I и Сталин, с одной стороны, и Николай I или Брежнев – с другой: все они, вместе с Павлом I, Александром III и Владимиром Путиным, оказываются в одном ряду. Иными словами, милитаризаторские циклы, отмеченные форсированными модернизациями петровско-сталинского типа, растворяются в колебаниях внутри циклов демилитаризаторских. В результате же мы получаем не только концептуальное насилие над историей, но и искажение содержания современной проблемы, перед которой оказалась страна.
Ведь «проблема колеи» сегодня вовсе не в том, как вырваться из порочного круга сменяющих друг друга либеральных оттепелей и консервативно-авторитарных подмораживаний. Ее содержание иное. И заключается оно в том, существует ли в России альтернатива милитаристской модернизации на манер петровской или сталинской в условиях постиндустриальной эпохи, когда сам тип подобной модернизации выглядит, мягко говоря, нереалистичным.
При такой постановке вопроса историческое сознание актуализируется и фокусируется на «проблеме колеи» не только в ее прошлых истоках и вариациях, но и в ее принципиальной новизне, а сама проблема неизбежно обретает и культурное измерение. Дело в том, что в отечественной культуре, в силу обозначенных выше особенностей эволюции страны, не получило и не могло получить развития понятие об общем интересе, как интересе национальном, государственном. Точнее, невоенное понятие о нем. Именно поэтому в демилитаризаторских циклах и российский социум, и Российское государство начинали рассыпаться.
Понимаю: терминология не модная, напоминающая о временах, когда предписывалось «подчинение личных интересов общественным». Но конкретный смысл, которым наполняются в ту или иную эпоху те или иные слова, еще не повод для отказа от самих слов. Ведь понятие общего интереса придумали не коммунистические вожди, оно задолго до них, начиная с Античности, стало одним из базовых в европейской политической мысли. Если в отношениях между различными группами общества, социально или пространственно друг от друга отделенными, нет ничего, что этому понятию соответствовало бы, то неоткуда этому понятию взяться и в культуре. При таких обстоятельствах никакие апелляции к ценностям, идеалам, традициям, идеологическим принципам или правовым нормам устойчиво консолидировать общество не могут, что и проявилось уже в первом отечественном демилитаризаторском цикле.
Демилитаризация означала легитимацию частных и групповых интересов, которые сами по себе в органическую целостность не склеивались. Поиски же в культуре немилитаристских аналогов коллективистского «Мы-мировоззрения», о котором упоминалось, со ссылкой на С. Франка, в ходе дискуссии, успехом не увенчались. Славянофильская идея соборности фиксировала не столько то, что в данной культуре наличествовало, сколько то, что в ней отсутствовало, и призвана была это отсутствие идеологически компенсировать. Соответственно, били мимо цели и апелляции к крестьянским общинным устоям, как жизневоплощению принципа соборности. Потому что общинный коллективизм изолированных друг от друга крестьянских миров был локальным коллективизмом малых общностей, за деревенской околицей обнаруживавшим свою догосударственную, анархическую природу. Наконец, не принесло ожидавшегося эффекта и новое, немилитаристское толкование принципа законности как универсальной ценностной основы общественной консолидации.
В милитаризованном состоянии закон – это способ оформления приказа, не предполагающего субъектности тех, кому он адресован для исполнения. Ни в смысле их участия в законотворчестве, ни в смысле наличия каких-либо прав по отношению к государственной власти кроме права «беззаветного служения» ей. Демилитаризация же начиналась с дозированного предоставления прав, законодательно закрепляемых, и завершалась юридическим самоограничением верховной власти в пользу выборного института народного представительства с законодательными полномочиями. Но тут-то и выяснялось, что при отсутствии укоренившегося невоенного понятия об общем интересе интересы частные и групповые, освобожденные от дисциплинирующей милитаристско-закрепостительной скрепы, оказываются непримиряемыми. Институты народного представительства, созывом которых завершались оба демилитаризаторских цикла (и послепетровский, и послесталинский), не столько консолидировали общество, сколько выявляли его неконсолидируемость. Но и старые институты, будь то самодержавие (монархическое либо коммунистическое) или церковь (православная либо в виде коммунистической партии и ее идеологии), при трансформации военного понятия об общем интересе в невоенное обнаруживали в конечном счете свое бессилие, что, в свою очередь, подтачивало их авторитет. Это – и к вопросу о том, насколько плодотворно сводить природу отечественной государственности к таким институтам и насколько убедительными можно считать подобные попытки, неоднократно предпринимавшиеся в ходе дискуссии.
Вместе с тем выступления многих ее участников вплотную подводят к выводу: до тех пор, пока невоенное представление об общем интересе в культуре не укоренится, «проблема колеи» будет оставаться проблемой, шансов на решение не имеющей. Но рациональное историческое сознание фиксирует не только это. Оно фиксирует и то, что сама колея измельчала и что прежние ресурсы для модернизационных прорывов в ней полностью выработаны. Дополитическая культура, позволявшая предписывать представление об общем интересе посредством милитаризации повседневного жизненного уклада, т. е. выстраивания мирной жизни по военному образцу, осталась в прошлом. Однако и культура политическая, предполагающая закрепление понятия о таком интересе как о подвижной равнодействующей интересов частных и групповых, в стране не сложилась. Поэтому третьей милитаристской модернизации в России не будет, но вопрос о том, какой именно эта модернизация может быть и какая государственность способна ее обеспечить, остается открытым.
Этот вопрос в явном или неявном виде присутствует в выступлениях всех участников дискуссии, какую бы из трех групп они ни представляли. Посмотрим, как они на него отвечают (и отвечают ли) и попробуем понять, как такие ответы (или их отсутствие) соотносятся с особенностями исторического сознания дискутантов.