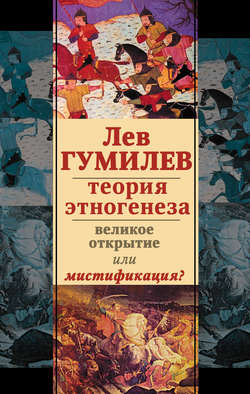Читать книгу Лев Гумилев. Теория этногенеза. Великое открытие или мистификация? (сборник) - Каллум Хопкинс, Коллектив авторов, Сборник рецептов - Страница 24
Л. Н. Гумилев. Опыт преодоления самообмана
(Глава 13 из книги «Поиски вымышленного царства»)
Поэт и князь
ОглавлениеА вот теперь настало время поставить вопрос о жанре изучаемого произведения. Это необходимо для того, чтобы узнать, в каком смысле мы можем использовать его как источник информации об эпохе, нас интересующей. Но проблема жанра всецело относится к филологии, и решающее слово принадлежит представителю этой отрасли знаний.
В статье, приложенной к цитированному изданию «Слова о полку Игореве», Д. С. Лихачев пишет: «„Слово“ – горячая речь патриота-народолюбца (стр. 249)… Однако было бы ошибочным считать, что перед нами типичное ораторское произведение (стр. 251)… Если это речь, то она близка к песне; если это песнь, то она близка к речи. К сожалению, ближе определить жанр „Слова“ не удается (стр. 252)».
Это действительно жаль, потому что, несмотря на то, что приведенные цитаты весьма изящны, они не снимают недоумений, с которых мы начали это исследование. Ведь и речь, и песнь, и поэма всегда бывают либо вымыслом, либо простой передачей сведений; либо прославлением и поношением, либо убеждением и т. д. Если наш анализ источника на фоне исторической конъюнктуры середины XIII в. правилен, то «Слово о полку Игореве» не героический эпос, а политический памфлет. Это соображение не противоречит определениям Д. С. Лихачева, а касается стороны вопроса, оставленной им без внимания.
Но мог ли этот вид литературы существовать в XIII в.? А почему бы нет! Он расцветал в древней Греции и Риме, примеров чему столь много, что не стоит их перечислять. Использовался в средневековой Персии, где Низам ул-мульк дал тенденциозное изложение движения Маздака, явно с дидактическими целями. Наконец, «Тайная история монголов» – памятник того же жанра, уцелевший среди многих, похищенных от нас жестоким Хроносом. Почему же русские должны считаться менее одаренными, чем современные им восточные народы? Поскольку есть потребность в жанре и есть талантливые авторы – жанр возникает и находит читателя. А после разгрома 1237–1241 гг. такая потребность была, и Русская земля талантами не оскудела.
Страшное и неожиданное поражение заставило всех мыслящих русских людей задуматься над судьбами своей страны. А вопрос стоял о том, кто хуже: татары или немцы? 67
Как мы уже видели, автор «Слова» настроен прозападнически. Следовательно, пущенная им литературная стрела направлена в грудь благоверного князя Александра Ярославича Невского, друга Батыя, побратима Сартака *1 и врага рыцарей Тевтонского ордена. Но образа этого князя в тексте нашего памятника нет. Есть другое: отдельные черты, характеризующие деятельность Александра Невского, а отнюдь не его личность. Почему так – вполне понятно. «Слово» писалось с расчетом на широкий резонанс и, следовательно, должно было дойти и до Александра Невского, а он был крут. Затем, обаяние личности Александра, поразившее даже самого Батыя, меньше всего могло стать объектом нападок. Автор «Слова» осуждает не персону князя, а его протатарскую политику. Осуждение же проскальзывает всюду. Опора на степняков осуждена в оценке Олега Гориславича, быстрота в передвижениях и ссоры с новгородцами – в характеристике Всеслава, которому «суда божиа не минути» (стр. 26), и, самое главное, индикатор враждебною направления – намеки на дружбу с иноверцами, недругами Богородицы, покровительницы Киева. Но что общего у несторианства с Александром Невским, да притом такого, что было очевидно дружинникам XIII в. без объяснений?
Готовясь к борьбе с Андреем Ярославичем, опиравшимся на католическую Европу, Александр Ярославич поехал за помощью в Орду, но не к самому Батыю, а к его сыну Сартаку 68, покровителю несториан. И победа в 1252 г. была одержана при помощи войск Сартака. Дружба Александра с Сартаком была хорошо известна, и поэтому противоположная партия намекала, и не без оснований, на склонность князя к несторианству, но в плане политическом, а не религиозном.
Но если наша гипотеза правильна, то наследник Олега, князь Игорь, как литературный герой, а не исторический персонаж, должен был выступать на борьбу с православными, а не только с язычниками-половцами. Действительно, див предупреждает все те страны, которым угрожают полки Игоря (стр. 79): «Землю незнаемую» – половецкую степь, Волгу – область христианских хазар, Поморье т. е. берег Черного моря, где в XII в. жили православные готы, Посулие, т. е. берега Сулы, где стоял Переяславль, цитадель русского грекофильства, Сурож, Херсонес и Тьмутаракань – греческие торговые города. Ни прикаспийские хазары, ни черноморские готы и греки никакого вреда Руси не делали, и поэтому версия, что поход Игоря был направлен против них, имеет совершенно иной смысл, нежели принято считать. Для XII в. он был бессмысленным, а для XIII в. – невозможным, так как между Русью и Черным морем находились войска Сартака Батыевича. Очевидно, и здесь не историческое описание событий, а иносказание.
В самом деле, ситуация середины XIII в. И в приведенном отрывке дана четко. Остатки разбитых, но непокоренных половцев, убежавшие от монголов в Венгрию, составили бы лучшие конные части войска, которое можно было двинуть на Золотую Орду. Они были бы надежнейшими союзниками русских, если бы те восстали против монголов. Поэтому див предупреждает не народы, а земли, занятые во время писания памятника народами, лояльными к Орде, но православными, очевидно бродниками и византийцами. Религиозный момент налицо, но половцы здесь не более чем литературная метафора.
В предлагаемом аспекте находит объяснение концовка «Слова». Как самое большое достижение излагается поездка Игоря на богомолье в Киев «к Богородице Пирогощей» (стр. 31). Это чистая дидактика: вот, мол, Ольгович, внук врага киевской митрополии, друга Бояна, «рыскавшего в тропу Трояню» (стр. 11), и тот примирился с Пресвятой Девой Марией, и тогда вся Русская земля возрадовалась. И тебе бы, князь Александр, сделать то же самое – и конец бы поганым! В этом смысл всего гениального произведения, которое стоило писать до того, как Александр решился порвать с Андреем и обратиться за помощью к татарам, т. е. до 1252 г.
Прав ли был автор «Слова» и его друзья Андрей Владимирский и Даниил Галицкий? В чем-то да, а в чем-то нет! Отколоться от Орды совокупными усилиями всех князей было, видимо, можно, но ведь это значило попасть под ярмо феодально-католической Европы. Тогда бы вся Русская земля разделила участь Белоруссии и Галиции. Александр Невский видел дальше своих братьев и идеолога их политической линии, автора «Слова о полку Игореве». Он не поддался на красивые слова: «лучше потяту быти, неже полонену быти» (стр. 10) и на гневные обличения: «А князья сами на себе крамолу коваху, а поганыи сами победами нарыщуша на Русскую землю, емляху дань по беле от двора» (стр. 18, 421). Дань от двора в 50-х годах татары брали 69, но уже в 1262 г. по инициативе того же Александра Невского сборщики дани, присланные центральным правительством хана Хубилая, были перебиты русским населением 70.
Самое интересное здесь то, что золотоордынский хан Берке не только не начал карательных мероприятий, но использовал мятеж в свою пользу: он отделился от Центральной Орды и превратил свою область в самостоятельное государство, в котором русский элемент играл не последнюю роль. После 1262 г. были порваны связи Золотой Орды с восточной линией потомков Толуя, обосновавшейся в Пекине и принявшей в 1271 г. китайское название – Юань. По существу, это было освобождение Восточной Европы от монгольского ига, хотя оно совершилось под знаменем ханов, потомков старшего Чингисида, Джучи, убитого по приказу отца за то, что он первый выдвинул программу примирения с побежденными 71. И не случайно, что тут же началась война Золотой Орды против персидских монголов, активных несториан, продолжавших чингисовскую политику завоеваний. Правительство хана Берке в 1262–1263 гг. еще колебалось, продолжать ли линию монгольских традиций или, уступая силе обстоятельств, возглавить народы, согласившиеся связать свою судьбу с Ордой. Можно думать, что последняя поездка Александра в Сарай, когда он отвел беду от народа, была именно тем подвигом, который определил выбор хана. Это было первое освобождение России от монголов – величайшая заслуга Александра Невского.
Итак, толковый князь оказался более прозорлив, нежели талантливый поэт. Но автору «Слова» нельзя отказать ни в искренности, ни в патриотизме, ни в призыве к единению, с той лишь оговоркой, что к единению призывала и противоположная сторона.
У читателя может возникнуть вопрос: а почему почти за два века напряженного изучения памятника никто не наткнулся на предложенную здесь мысль, которая и теперь многим филологам представляется парадоксальным домыслом? Неужели автор этой книги ученее и способнее блестящей плеяды славистов?!
Да нет! Дело не в личных способностях, а в подходе. Литературоведы использовали, и бесспорно блестяще, все возможности индуктивного метода, а они ограниченны. Конечно, не будь готовой подборки сведений, которую мы называем «прямой информацией», применение дедуктивного метода было бы неосуществимо, но в этом-то и цель данной работы, чтобы найти способ совмещения индукции и дедукции, равно необходимых в высоком ремесле историка.