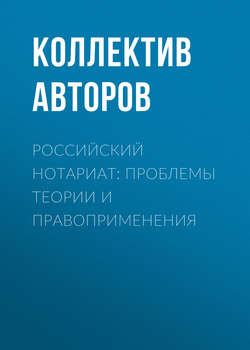Читать книгу Российский нотариат: проблемы теории и правоприменения - Коллектив авторов - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава II. Нотариат и вопросы применения гражданского законодательства
§ 1. Некоторые вопросы толкования и применения законодательства об обществах с ограниченной ответственностью
ОглавлениеНастоящий параграф посвящен анализу отдельных положений законодательства об обществах с ограниченной ответственностью (в дальнейшем именуемое также ООО), которое в последние годы претерпело значительные изменения. Следует сразу оговориться, что формат настоящей работы не позволил, к сожалению, охватить все сферы правового регулирования деятельности ООО. Мы остановились лишь на тех из них, которые, по нашему мнению, являются наиболее значимыми с точки зрения нотариальной практики. При этом мы исходили из того, что деятельность нотариусов по применению норм законодательства об ООО не может быть сведена исключительно и только к удостоверению сделок по уступке долей в уставном капитале ООО. Впрочем, и в последнем случае, нотариальные действия не могут осуществляться на должном уровне без полного понимания специфических особенностей ООО, как самостоятельного вида хозяйственных обществ, правовой природы уставного капитала ООО и доли в этом уставном капитале, причин изменений, произошедших в соответствующих законоположениях, основных тенденций в развитии современного корпоративного законодательства. В связи с этим в ходе анализа соответствующих положений действующего законодательства, сделана попытка осветить и некоторые из этих вопросов.
Следует отметить, что в рамках процесса обновления действующего гражданского законодательства, который, как мы видим, идет полным ходом, нас ожидают и дальнейшие изменения законодательного регулирования в интересующей нас сфере.
Так, Федеральным законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ "О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" в статью 2 ГК РФ внесены весьма существенные изменения – состав отношений, регулируемых гражданским законодательством дополнили отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отношения). Таким образом, произошло формальное признание корпоративных отношений отношениями sui generis (собственного рода (лат.)), которые следует отграничивать и от обязательственных и от вещных отношений. Это не может не повлиять на содержание и толкование всех других норм действующего законодательства, регулирующих эти отношения. Ведь до этого момента (впрочем, и в настоящий момент, поскольку соответствующие изменения внесены лишь в ст. 2 ГК РФ, но не в другие его нормы) корпоративные отношения регулировались исключительно как отношения обязательственные (п. 2 ст. 48 ГК РФ). Впрочем спорные вопросы правовой природы корпоративных отношений требуют специального внимания и не могут быть освещены в рамках настоящей работы, преследующей иные цели.
Общая характеристика общества с ограниченной ответственностью как самостоятельной организационно-правовой формы коммерческой организации
Общество с ограниченной ответственностью является одной из наиболее распространенных форм осуществления предпринимательской деятельности посредствам создания юридического лица. Это утверждение является верным не только для российской действительности.
Германские правоведы середины XIX века, чьими стараниями этот вид коммерческой организации и был введен в юридический обиход, пытались создать идеальную организацию, которая соединила бы в себе все достоинства акционерного общества и хозяйственного товарищества и лишенную их «недостатков». Собственно общество с ограниченной ответственностью и занимает промежуточное положение между этими организационно-правовыми формами юридического лица. Если акционерное общество воплощает в себе идею объединения капиталов его участников в ее наиболее полном выражении, а товарищества имеют ввиду, прежде всего, объединение участников (товарищей) как лиц, совместно участвующих в хозяйственной деятельности этого юридического лица, то общество с ограниченной ответственностью предполагает:
Во-первых, объединение капиталов в форме, позволяющей создать экономическую базу для совместной предпринимательской деятельности, но исключающей, при этом, ответственность участников за результаты этой деятельности другим своим имуществом (отличие от хозяйственных товариществ);
Во-вторых, обеспечивает сохранение товарищеских, лично-доверительных (фидуциарных) отношений между своими участниками, отношений в которых личность партнера имеет существенное значение (отличие от акционерных обществ).
В российском законодательстве общество с ограниченной ответственностью в современном его виде было введено в качестве самостоятельной организационно-правовой формы юридического лица частью I Гражданского кодекса РФ 1994 г. (далее – ГК РФ). В 1998 г. был принят специальный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», развивающий соответствующие положения ГК РФ.
К очевидным преимуществам этой формы коммерческой организации, которые не оставили равнодушными и отечественного предпринимателя, следует отнести следующие:
Отсутствие ответственности участников общества по его обязательствам. Эта особенность отличает данный вид коммерческой организации от таких ее видов как полное товарищество, товарищество на вере, общество с дополнительной ответственностью, производственный кооператив и др. (за исключением акционерного общества), учредители (участники) которых все же несут в том или ином объеме ответственность по обязательствам юридического лица. В связи с этим, наличие в названии этого вида хозяйственных обществ слов «с ограниченной ответственность» является лишь данью традиции и не несет в себе содержательной нагрузки. На самом деле, как это следует из легального определения общества с ограниченной ответственностью «участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества» (абз. 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ «Об ООО»)). Немногочисленные исключения из этого общего правила (так, например, абз. 2 п. 1 ст. 2 ФЗ «Об ООО» установлено, что участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества; см. также абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ) касаются лишь частных и исключительных случаев и не влияют на указанную характеристику имущественных отношений общества и его участников.
Минимальные требования к размеру уставного капитала общества с ограниченной ответственностью и весьма «мягкие» требования к форме и порядку его оплаты. На сегодняшний момент минимальный размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью установлен в 10 тысяч рублей, которые могут быть оплачены фактически в любой удобной для учредителей форме (деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами (п. 1 ст. 15 ФЗ «Об ООО»)). С некоторых пор допустимой стала также оплата участником доли в уставном капитале общества в том числе путем зачета его требований к обществу (соответствующие изменения в п. 1 ст. 16 ФЗ «Об ООО» были внесены Федеральным законом от 27.12.2009 N 352-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пересмотра ограничений для хозяйственных обществ при формировании уставного капитала…". Более того, на момент государственной регистрации общества его уставный капитал может быть оплачен лишь наполовину, а остальная часть – в течение года с момента государственной регистрации общества (п. 1 ст. 16 ФЗ «Об ООО»).
Отсутствие необходимости в соблюдении сколько-нибудь обременительных формальностей, связанных с оформлением и удостоверением прав участия в обществе. Этим данный вид хозяйственных обществ отличается от наиболее близких к ним по своей правовой природе акционерных обществ, участие в которых удостоверяется особым видом корпоративных ценных бумаг – акций выпуск которых осуществляется с соблюдением специальной процедуры их государственной регистрации.
Предоставление учредителям (участникам) общества с ограниченной ответственностью максимально широких (по сравнению с другими коммерческими организациями корпоративного типа) возможностей для свободного формирования условий ведения совместного бизнеса. Законодательство об обществах с ограниченной ответственностью буквально изобилует нормами диспозитивного характера, позволяющими самостоятельно, исходя из предварительно достигнутых между учредителями (участниками) договоренностей и в весьма широких пределах структурировать модель их взаимного участия в управлении и распределении прибыли общества индивидуальным образом, сделать это общество максимально «закрытым» для вхождения в его состав новых участников или напротив, «открыть» его для участия других лиц.
Все названные и некоторые другие особенности данного вида коммерческой организации предопределили то обстоятельство, что общество с ограниченной ответственностью вот уже на протяжении многих лет является самой привлекательной и распространенной формой ведения бизнеса. По данным Федеральной налоговой службы России, на 01.01.2009 г. в Едином государственном реестре юридических лиц было зарегистрировано 4 021 318 юридических лиц, из них обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью – 3 007 145 (т. е. около 75 %). Для сравнения: акционерных обществ – 195 911; полных товариществ – 483; товариществ на вере – 693; производственных кооперативов – 23 279, некоммерческих организаций – 659 233.
Несмотря на то, что последующая (после принятия ФЗ «Об ООО») десятилетняя практика применения законодательства выявила целый ряд явных недостатков в правовом регулировании отношений, связанных с созданием и функционированием обществ с ограниченной ответственностью, ФЗ «Об ООО» в его первоначальной редакции (1998 г.) практически не подвергался каким-либо изменениям вплоть до 2008 года. И это при том, что реформа корпоративного законодательства (и весьма активная) в течение этого периода практически не прекращалась. Правда сосредоточена она была, главным образом, на сфере правового регулирования акционерных отношений.
И все же с принятием в конце 2008 г. Федерального закона № 312-ФЗ была создана фактически новая редакция российского закона об обществах с ограниченной ответственностью, работа над проектом которой велась без малого шесть лет.
Эта новая редакция ФЗ «Об ООО» действует уже в течение почти четырех лет в достаточно стабильном виде (за исключением некоторых незначительных по объему изменений, которые были внесены в этот период). Между тем, как представляется, процесс освоения и теоретического осмысления этого нормативного материала далеко не завершен. Впрочем, то же самое следует сказать о законодательстве, регулирующем отношения связанные с созданием и деятельностью обществ с ограниченной ответственностью в целом. Содержательный и доктринальный анализ отдельных положений этого законодательства позволят понять основные направления и цели законодательной политики в этой сфере, сделать правоприменительную и, в том числе, нотариальную практику более единообразной и предсказуемой.
Итак, остановимся на наиболее важных, на наш взгляд, прежде всего с позиций нотариальной практики, положениях действующего законодательства об обществах с ограниченной ответственностью.
Состав учредительных документов общества с ограниченной ответственностью
Одним из самых принципиальных изменений внесенных в законодательство об ООО Федеральным законом № 213-ФЗ стало изменение состава учредительных документов общества. Теперь у ООО, как и у акционерного общества, имеется только один учредительный документ – устав. Собственно ООО оставалось единственной коммерческой организацией, имеющей два учредительных документа – устав и учредительный договор. В соответствии с п. 4 ст. 5 Федерального закона № 213-ФЗ учредительные договоры обществ с 1 июля 2009 г. утрачивают силу учредительных документов. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что законодатель не определил судьбу учредительных договоров, заключенных до этой даты, а также судьбу прав и обязанностей участников ООО в них зафиксированных. Представляется, хотя прямо об этом законодатель и не сказал, что они (учредительные договоры, заключенные до 01.07.2009 г.) должны рассматриваться как договоры о создании ООО (п. 5 ст. 11 ФЗ «Об ООО»). Формальное подтверждение такой позиции можно найти в тексте все того же п. 4 ст. 5 Федерального закона № 213-ФЗ, исходя из которого учредительные договоры утрачивают силу учредительных документов, а не утрачивают силу вообще.
Цель указанных изменений – практическое удобство. В принципе, положения устава и учредительного договора большей частью механически дублировали друг друга. При этом учредительный договор лишь содержал дополнительные сведения о конкретном составе вкладов участников ООО, вносимых в оплату приобретаемых ими долей в его уставном капитале, порядке и сроках их внесения, ответственности за неисполнение этих обязательств. То есть содержал условия, которые связывают участников лишь на стадии создания ООО и в период оплаты долей в уставном капитале ООО – в течение одного года с момента его создания. Вместе с тем, параллельное существование двух учредительных документов создавало известный дискомфорт для участников гражданского оборота. С одной стороны, закон устанавливал приоритет положений устава над учредительным договором (п. 5 ст. 12 ФЗ «Об ООО» в редакции, действовавшей до 01.07.2009 г.), а с другой – требовал квалифицированного большинства голосов для принятия решения о внесении изменений в устав и единогласия всех участников для внесения изменений в учредительный договор. Все это приводило к противоречию содержащихся в этих учредительных документах сведений и невозможности внесения в них одновременных изменений в связи с недобросовестным поведением участников, обладающих даже незначительной долей в уставном капитале ООО, или в связи с их отсутствием.
С внесением указанных изменений единственным учредительным документом ООО остался его устав. Впервые (при создании ООО) он утверждается всеми его учредителями единогласно (п. 3 ст. 11 ФЗ «Об ООО»), являясь по сути формой многосторонней сделки учредителей, а в дальнейшем может изменяться, по общему правилу, квалифицированным большинством в 2/3 голосов участников, если иное не предусмотрено законом или уставом общества (абз. 1 п. 8 ст. 37 ФЗ «Об ООО»).
Кроме того, отпала и абсурдная необходимость заключения учредительного договора в случае создания ООО путем реорганизации. При такой форме создания ООО нет его учреждения, отсутствует необходимость в определении порядка и сроков оплаты долей в уставном капитале ООО, ответственности за их нарушение. Однако до недавнего времени заключение учредительного договора требовалось, и он должен был содержать все эти условия.
Теперь все вопросы связанные с учреждением общества регулируются не учредительным договором, а специальным договором о создании ООО. Именно он, не являясь учредительным документом (п. 5 ст. 11 ФЗ «Об ООО»), определяет порядок совместной деятельности учредителей по созданию общества, размер его уставного капитала, размеры и номинальную стоимость доли в уставном капитале общества каждого учредителя, размер, порядок и сроки оплаты учредителями этих долей, их ответственность за исполнение этих обязанностей.
Содержание категорий «уставный капитал» и «доля в уставном капитале» общества с ограниченной ответственностью
Следует отметить, что категории «уставный капитал» и «доля в уставном капитале» являются базовыми не только для уяснения вопроса о процедуре создания ООО и формирования его имущества, но и для уяснения специфики правовой природы этого вида коммерческой организации и характера возникающих между ним и его участниками имущественных отношений. Без полного уяснения содержания этих категорий правильное понимание смысла и применение законодательства об обществах с ограниченной ответственностью просто не возможно. Попробуем разобраться в содержании этих терминов.
Легального определения понятия «уставный капитал ООО» действующее законодательство не содержит, что иногда вызывает недопонимание сущности этого термина у правоприменителей. Так, например, достаточно часто приходится сталкиваться с представлением об уставном капитале, как о некоторой совокупности имущества ООО, которая формируется при его создании и которая должна оставаться неизменной. Это не так. Уставный капитал и имущество общества явления связанные, но существующие в различных смысловых плоскостях. Представляется наиболее удачным следующее определение уставного капитала, выработанное доктриной: уставный капитал – это исчисляемая в денежном выражении величина, отражающая минимальный размер имущества ООО, гарантирующего интересы его кредиторов, определяемая совокупностью номинальных стоимостей долей участников общества в этом уставном капитале. Таким образом, уставный капитал ООО не может рассматриваться как имущество (или часть имущества) общества, он является лишь величиной, отображающей в денежном выражении совокупную оценку имущества, переданного участниками обществу в счет его оплаты. Последующее отчуждение обществом переданного ему в оплату уставного капитала имущества само по себе не приводит к изменению уставного капитала, который не является имуществом. Размер уставного капитала – своеобразная визитная карточка хозяйственного общества или точнее, обязательство общества и его участников перед другими участниками хозяйственного оборота. Заявляя о том, что общество будет иметь определенный уставный капитал, учредители общества тем самым принимают на себя обязанность во-первых, сформировать путем оплаты своих долей в уставном капитале первоначальную имущественную базу общества, стоимость которой должна быть не меньше заявленного размера уставного капитала, во-вторых, в дальнейшем обеспечить поддержание совокупной стоимости имущества общества, а точнее – стоимости его чистых активов, на уровне не ниже этого размера уставного капитала. Эти обязанности подлежат исполнению учредителями (участниками) ООО под страхом наступления предусмотренных действующим законодательством неблагоприятных последствий, вплоть до принудительной ликвидации общества (ст. 20 ФЗ «Об ООО»). Тем самым, институт уставного капитала призван создать определенный правовой механизм контроля за состоянием реального имущественного положения общества, гарантируя интересы его кредиторов.
Помимо указанной «гарантийной» функции, уставный капитал ООО выполняет и «учетную» функцию. Будучи разделенным на доли, распределенные между отдельным участниками ООО по их взаимному соглашению (как правило, пропорционально стоимости переданного каждым из них имущества в счет оплаты соответствующей доли в уставном капитале), он призван определять конкретный объем корпоративных прав, принадлежащих каждому из участников общества[29]. Размер доли в уставном капитале ООО определяется в абсолютных величинах – в виде ее номинальной стоимости, определяемой в рублях (например, доля в уставном капитале номинальной стоимостью 5000 рублей). При этом размер уставного капитала ООО равен совокупности номинальных стоимостей составляющих его долей. Кроме того, размер доли в уставном капитале определяется в относительных величинах – в процентном выражении (например, доля в размере 30 % уставного капитала) или в виде простой дроби (например 1/3 уставного капитала). При этом, размер доли должен соответствовать соотношению номинальной стоимости этой доли и уставного капитала общества (например, размер доли номинальной стоимостью 5000 рублей при размере уставного капитала 10 000 рублей – 50 % или 1/2 уставного капитала).
У участника ООО, как и у участника любой коммерческой корпорации, основанной на началах членства, имеется триада корпоративных прав: право на участие в управлении делами общества, право на получение прибыли и право на получение ликвидационной квоты (части имущества общества в случае его ликвидации) (см. ст. 8 ФЗ «Об ООО»). Конкретный объем этих прав как раз и определяется исходя из размера закрепленной за этим участником (принадлежащей ему) доли в уставном капитале общества. Так, например, по общему правилу, которое однако может быть изменено соглашением учредителей (участников ООО), часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества (п. 2 ст. 28 ФЗ «Об ООО»), каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества (п. 1 ст. 32 ФЗ «Об ООО»). Распределение имущества, оставшегося после ликвидации общества, между его участниками также осуществляется пропорционально их долям в уставном капитале общества (ст. 58 ФЗ «Об ООО»).
Таким образом, доля в уставном капитале ООО – это юридический термин, которым обозначается определенная совокупность корпоративных прав, принадлежащих участнику общества с ограниченной ответственностью (прав на участие в управлении ООО, на получение прибыли от его деятельности и части его имущества в случае ликвидации) объем которых, по общему правилу, зависит от размера этой доли.
Именно такое понимание категорий «уставный капитал» и «доля в уставном капитале» закреплены в действующем законодательстве об ООО. Об этом свидетельствуют и некоторые изменения (редакционного характера, но тем не менее весьма важные) в терминологический аппарат Закона «Об ООО» внесенные Федеральным законом № 213-ФЗ. Законодатель изменил ранее принятую в тексте Закона «Об ООО» формулировку «внесение вклада в уставный капитал ООО» на более удачную «оплата доли в уставном капитале ООО», что в большей степени соответствует правовой природе уставного капитала хозяйственного общества.
Как уже отмечалось выше, порядок совместной деятельности учредителей по созданию общества, размер его уставного капитала, размеры и номинальные стоимости долей в уставном капитале каждого учредителя, размер, порядок и сроки оплаты учредителями этих долей, их ответственность за исполнение этих обязанностей определяются специальным договором о создании общества с ограниченной ответственностью (п. 5 ст. 11 ФЗ «Об ООО»).
В целом, порядок оплаты учредителями своих долей в уставном капитале общества при его учреждении с принятием Федерального закона № 213-ФЗ не изменился. Значительным изменениям подверглись лишь нормы устанавливающие последствия несоблюдения учредителем обязанности по своевременной оплате своей доли в уставном капитале общества. Если раньше доля учредителя общества, не внесшего в полном размере в срок свой вклад в уставный капитал общества, переходила к обществу полностью с возникновением у него обязанности компенсировать учредителю действительную стоимость оплаченной им части доли (п. 3 ст. 23 прежней редакции ФЗ «Об ООО»), то теперь к обществу переходит лишь неоплаченная часть этой доли (п. 3 ст. 16 ФЗ «Об ООО»). Та часть доли, которая была оплачена, остается у учредителя.
Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 16 ФЗ «Об ООО» договором о создании ООО может быть предусмотрена неустойка за неисполнение обязанности по оплате доли в уставном капитале общества. Следует отметить, что здесь законодатель сохранил некоторую неопределенность в вопросе о том, кто является субъектом, имеющим право предъявлять требование к неисправному учредителю об уплате этих штрафных санкций и получать их: само общество или другие учредители. Видимо решить этот вопрос следует в пользу общества, поскольку именно оно является получателем имущества, подлежащего передаче в качестве оплаты доли в уставном капитале и, значит, неисполнение соответствующей обязанности неблагоприятно отражается, прежде всего, в его имущественной сфере. Представляется однако, что соответствующее требование может быть предъявлено как самим обществом, так и его участниками в интересах общества. По какому пути пойдет судебная практика нам еще предстоит увидеть.
Фиксация принадлежности и оборот долей в уставном капитале ООО Если проследить общую направленность эволюции действующего законодательства в этой области в течение последних лет, то следует признать, что она имеет направленность на придание большей публичности, открытости и достоверности сведениям о правах (ограничениям этих прав) на доли в уставном капитале ООО, введению дополнительных правовых механизмов контроля за их оборотом.
Ранее существовавший порядок оборота долей в уставном капитале ООО и учета (удостоверения) прав на них характеризовался следующими чертами:
– сделки по поводу долей в уставном катале ООО совершались в простой письменной форме, если необходимость квалифицированной (например, нотариальной формы) не была специально предусмотрена уставом общества (п. 6 ст. 21 ФЗ «Об ООО» в его редакции действовавшей до 01.07.2009 г.);
– права участника к приобретателю доли переходили с момента простого уведомления общества о состоявшейся уступке (абз. 2 п. 6 ст. 21 ФЗ «Об ООО» в его редакции действовавшей до 01.07.2009 г.);
– учет долей в уставном капитале ООО и их принадлежность конкретным участникам осуществлялись посредством отражения этой информации прямо в текстах учредительных документов ООО (п. 2 ст. 12, ст. 14 ФЗ «Об ООО» в его редакции действовавшей до 01.07.2009 г.).
Как мы помним, практика применения указанных положений выявила целый ряд их недостатков, ставших «питательной средой» для многочисленных злоупотреблений и нарушений прав добросовестных участников ООО. Так, например, указанный правовой механизм не исключал, а делал весьма простым заключение сделок с долями в уставном капитале ООО «задним числом». Вполне возможной и достаточно распространенной на практике являлась практика регистрации ООО на «подставных лиц» с одновременным заключением «договора купли-продажи» соответствующей доли «настоящим» участником «для подстраховки» и без внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц (далее также – ЕГРЮЛ). Все это позволяло с легкостью избегать обращения взыскания на доли в уставном капитале ООО со стороны кредиторов, обходить запреты на владение такими долями, установленные законодателем для некоторых категорий граждан, делало сведения о составе участников ООО и размере принадлежащих им долей, содержащиеся как в ЕГРЮЛ, так и в уставах ООО, фактически не пригодными с точки зрения их достоверности. Во многом, благодаря именно этой системе учета и оборота долей в уставном капитале ООО стали возможными многочисленные рейдерские захваты юридических лиц, созданных в этой форме.
Преодоление этих недостатков стало одной из основных целей, которую ставил перед собой законодатель при разработке новой редакции ФЗ «Об ООО». При этом предлагались и рассматривались различные варианты. Одним из них, например, было предложение, сохранив в целом все как есть, «привязать» момент перехода прав к новому приобретателю к моменту внесения (т. е. государственной регистрации) соответствующих изменений в учредительные документы ООО. Другими предложениями были предложения передать функции учета прав на доли в уставных капиталах ООО и перехода прав на них независимым профессиональным регистраторам или органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц[30].
В ходе обсуждения возможных решений этой проблемы была выработана и реализована в новой редакции ФЗ «Об ООО» модель совершения сделок с долями в уставном капитале ООО и учета прав на них, которая характеризуется следующими основными чертами:
– сделки с долями (их частями) в уставном капитале ООО подлежат совершению в нотариальной форме. Причем несоблюдение нотариальной формы такой сделки влечет ее недействительность (п. 11 ст. 21 ФЗ «Об ООО»). Немногочисленные исключения из этого правила составляют случаи, когда сделка опосредует переход доли в уставном капитале непосредственно от участника к обществу или наоборот (абз. 2 п. 11 ст. 21 ФЗ «Об ООО»)[31];
– нотариус, удостоверяя соответствующую сделку, осуществляет лишь проверку полномочия лица, отчуждающего долю (ее часть) в уставном капитале ООО на распоряжение ею (п. 13 ст. 21 ФЗ «Об ООО»). При этом объем и характер такой проверки строго ограничен указанием на те документы, которые являются для нотариуса необходимыми и достаточными для вывода о правомочности отчуждателя доли. Перечень таких документов исчерпывающим образом определен в законе (п. 13 ст. 21 ФЗ «Об ООО») и расширительному толкованию не подлежит. Анализ указанного перечня документов, приводит нас к принципиальному для нотариальной практики выводу о том, что нотариус не обязан и, что не менее важно, не имеет права проверять какие-либо иные условия законности сделки по отчуждению доли, кроме наличия у отчуждателя прав по распоряжению этой долей. В связи с этим, вся ответственность за соответствие такой сделки требованиям различного рода корпоративных ограничений (соблюдение преимущественного права покупки доли другими участниками общества, ограничения на отчуждение доли третьим лицам, ограничения и обременения, установленные договором об осуществлении прав участников общества и др.) возлагается исключительно на лицо отчуждающее долю в уставном капитале общества. Исследование соответствующих вопросов не входит в компетенцию нотариуса, который просто не имеет права вмешиваться в соответствующие корпоративные отношения. Ответственность нотариуса наступает лишь за удостоверение сделки по отчуждению доли в уставном капитале ООО лицом, которому право на эту долю не принадлежит;
– следующий момент, имеющий принципиальное значение, заключается в том, что доля (часть доли) в уставном капитале ООО (т. е., как было показано ранее, вся совокупность корпоративных прав участника ООО, за исключением дополнительных прав и обязанностей участника (ст. 8 и 9 ФЗ «Об ООО»), а также прав и обязанностей, вытекающих из договора об осуществлении прав участника) переходит к новому приобретателю в момент нотариального удостоверения соответствующей сделки и лишь в редких случаях, не требующих нотариального удостоверения, – в момент внесения соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (п. 12 ст. 21 ФЗ «Об ООО»). Следует отметить, что это довольно жесткое правило, которое лишает участников гражданского оборота возможности формулировать условия договора об отчуждении, касающиеся момента перехода к приобретателю доли в уставном капитале ООО иным образом, и, например, предусмотреть весьма распространенное для договоров купли-продажи иных видов имущества правило о том, что соответствующее право переходит к приобретателю не ранее полного расчета с отчуждателем по договору. В свою очередь, это, видимо, выведет из широкого употребления договоры купли-продажи доли в уставном капитале ООО с рассрочкой или отсрочкой платежа. Конечно, можно заключить предварительный договор, но он, в отличие от договора купли-продажи с рассрочкой платежа, не является надежной гарантией приобретения имущества по поводу которого заключен в случае недобросовестности потенциального продавца. Не станет адекватной заменой и заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО с ее одновременным залогом в обеспечение исполнения обязательств покупателя по ее оплате. Реализация прав залогодателя сопряжена с необходимостью соблюдения целого ряда формальностей, в том числе и судебных, и в конечном итоге, как правило, завершается продажей залогового имущества с публичных торгов. В связи с этим, продажа доли в уставном капитале ООО с условием перехода прав на нее к приобретателю лишь после полной ее оплаты являлось бы куда более удобным, и в известной мере, незаменимым механизмом отчуждения доли с отсрочкой или рассрочкой платежа.
Насколько оправданным является введение указанного правила, безусловно создающего дополнительные и существенные обременения для оборота, покажет практика его применения.
– в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли в уставном капитале ООО, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, уведомляет об этой сделке орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, путем передачи последнему заявления о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, подписанному отчуждателем доли (п. 14 ст. 21 ФЗ «Об ООО»). Тем самым, обеспечивается поступление в ЕГРЮЛ достоверных и актуальных сведений об участниках ООО и размере принадлежащих каждому из них долей в уставном капитале общества. Эта норма находится в системной взаимосвязи с положениями п. 8 ст. 11 ФЗ «Об ООО», в соответствии с которыми сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника общества вносятся в единый государственный реестр юридических лиц и положениями п. п. д) п. 1 ст. 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которыми в едином государственном реестре юридических лиц должны содержаться сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале ООО, принадлежащих обществу и его участникам, а также сведения об их обременении. Следует отметить, что внесение указанных сведений в ЕГРЮЛ не имеет того же юридического (правопорождающего) значения, что имеет внесение сведений в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Но, вместе с тем, по замыслу законодателя ЕГРЮЛ должен стать источником достоверных и доступных для широкой публики сведений о составе участников ООО, размере принадлежащих каждому из них долей в уставном капитале ООО и их обременениях. В связи с этим, законодатель уделяет весьма значительное внимание соответствующим процедурным вопросам, устанавливая для каждого вида сделки по поводу доли в уставном капитале порядок информационного взаимодействия, обеспечивающий оперативное поступление соответствующих сведений в ЕГРЮЛ (ст. ст. 22, 23, п. 6 ст. 24 и др. ФЗ «Об ООО»).
– в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли в уставном капитале ООО, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, уведомляет об этой сделке соответствующее общество путем передачи последнему копий заявления о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. Впрочем эта обязанность по уведомлению общества по соглашению лиц, совершающих сделку, может быть возложена на одно из них. В таком случае нотариус не несет ответственности за уведомление общества о совершенной сделке (п. 15 ст. 21 ФЗ «Об ООО»). Указанная норма находится в тесной взаимосвязи с положениями ст. 31.1 ФЗ «Об ООО» устанавливающими обязанность общества с ограниченной ответственностью с момента его государственной регистрации обеспечить ведение списка участников общества с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом. При этом на лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, возлагается обязанность обеспечить соответствие всех указанных сведений сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу. При возникновении спора, однако, приоритет имеют сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ (п. 5 ст. 31.1 ФЗ «Об ООО»).
Как мы видим, новой редакцией ФЗ «Об ООО» была создана принципиально новая система распределения компетенций по учету прав на доли в уставном капитале ООО и контролю за законностью их оборота, в соответствии с которой они были разделены между несколькими субъектами следующим образом:
– нотариус проверят лишь принадлежность лицу отчуждаемой им доли. При этом доля считается перешедшей к приобретателю именно с момента нотариального удостоверения соответствующей сделки. Кроме того, нотариус выполняет функцию по информированию о состоявшейся сделке органа, осуществляющего ведение ЕГРЮЛ и самого общества;
– соблюдение установленных действующим законодательством или в соответствии с ним корпоративных ограничений контролируется самим обществом и его участниками, которые имеют право восстановить соответствующие нарушенные права в судебном порядке (п. 18 ст. 21 ФЗ «Об ООО»);
– орган, осуществляющий ведение ЕГРЮЛ, лишь аккумулирует информацию о составе участников ООО, размере и обременениях принадлежащих им долей в уставном капитале общества и предоставляет ее третьим лицам в установленном порядке. При этом сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в случае противоречия имеют приоритет по отношению к сведениям, которыми располагает само общество;
– аналогичную информацию в форме списка своих участников хранит и само общество с целью внутреннего учета принадлежности и обременения долей в своем уставном капитале и информационного обеспечения внутренних корпоративных процедур[32].
Договор участников общества с ограниченной ответственностью об осуществлении прав участников
Еще одной из новелл, получивших в литературе оценки от сдержанных «любопытная» и «значимая» до «революционная», стало положение пункта 3 ст. 8 ФЗ «Об ООО» в его действующей редакции, позволяющее участникам ООО заключить договор об осуществлении прав участников общества[33].
В соответствии с ним участники общества вправе заключить договор, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Закон приводит примерный (не закрытый) перечень обязанностей, которые могут быть возложены на участника ООО таким договором:
– голосовать определенным образом на общем собрании участников общества или согласовывать варианты голосования с другими участниками; – продавать долю в уставном капитале общества по определенной цене и (или) при наступлении определенных условий, либо воздержаться от отчуждения доли до наступления определенных условий;
– осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, его созданием, деятельностью, реорганизацией или ликвидацией.
Подобную норму, несколько позже, законодатель ввел и в Федеральный закон от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО)(ст. 32.1).
Следует сразу отметить, что законодатель не предусмотрел для указанного вида договоров необходимость его нотариального удостоверения. Тем не менее, важность отношений, которые являются предметом регулирования в рамках таких договоров и безусловная значительность имущественных последствий их исполнения или ненадлежащего исполнения, безусловно будут стимулировать их участников к приданию этим соглашениям нотариальной формы. В связи с вышеизложенным, не вызывает сомнения тот факт, что нотариальные действия по удостоверению подобных сделок в скором времени станут частью нотариальной практики.
Указанные нормы являются по настоящему новыми для российского законодательства, развивающегося по пути усиления императивных начал в регулировании корпоративных отношений, и, возможно, ознаменуют новый подход к определению допустимых границ автономии воли участников хозяйственных обществ[34].
Возможность заключения такого рода «соглашений участников» (shareholder`s agreement) или «акционерных соглашений» уже давно признана правом многих зарубежных стран. Они известны, например, законодательству Германии, Франции, Швейцарии, Англии. Допустимость заключения таких соглашений между акционерами была предусмотрена и п. 4 ст. 3 Модельных законодательных положений для государств – участников СНГ о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг.
Тем не менее нашему национальному законодательству до недавнего времени, этот правовой институт известен не был. Отдельные попытки заключения подобного рода соглашений между участниками российских компаний на основании принципа свободы договора (п. 2 ст. 421 ГК РФ), как правило, не выдерживали «проверки на прочность» в случае их судебного оспаривания. Российские суды квалифицировали их как сделки, направленные на несанкционированное законом ограничение правоспособности их участников (отказ от прав предоставленных им в соответствии с российским законодательством), а значит – ничтожные в силу п. 2 ст. 9 и п. 3 ст. 22 и ст. 168 ГК РФ. Ярким примером такого подхода явилось дело ОАО «Мегафон» (Постановление ФАС ЗСО от 31.03.2006 № Ф04-2109/2005(14105-А75-11)…).
Указанные новеллы ФЗ «Об ООО» и Закона об АО, безусловно, изменят сложившееся устойчиво-негативное отношение судов к такого рода договорам. Однако, легализовав принципиальную возможность заключения соглашений участников хозяйственных обществ, законодатель оставил неразрешенными целый ряд вопросов, что в значительной степени снизит эффективность практического применения этого нового института.
Наиболее актуальным из таких вопросов, является вопрос об определении пределов автономии воли сторон такого рода соглашений, то есть границ свободы договора об осуществлении прав участников общества. Как следует из содержания п. 3 ст. 8 ФЗ «Об ООО», участники общества могут заключать договоры двух видов:
во-первых, об осуществлении прав, вытекающих из факта обладания долей в уставном капитале ООО, и, прежде всего (но не только), прав на участие в управлении делами общества посредствам голосования на общем собрании его участников;
во-вторых, о порядке и условиях осуществления прав по распоряжению принадлежащими участникам долями в уставном капитале общества.
Между тем, действующее законодательство уже содержит достаточно развернутую и весьма детальную регламентацию вопросов управления ООО и оборота долей в его уставном капитале, то есть тех вопросов, которые потенциально могут быть и предметом соглашения участников ООО. Многие из этих норм закона носят императивный характер. Кроме того, устав общества также может содержать соответствующие положения, конкретизирующие и дополняющие правила, установленные законом. Будучи включенными в устав эти предписания также приобретают для всех участников общества обязательный характер.
Таким образом, одной из проблем, которую придется решать, отвечая на вопрос о границах дозволенного усмотрения при заключении соглашений участников ООО, станет проблема их соотношения с императивными положениями закона, с одной стороны, и устава ООО – с другой.
Решение первой части проблемы, на первый взгляд, трудностей не составляет. Договор об осуществлении участниками ООО своих прав является гражданско-правовым, а значит, в силу ст. 422 ГК РФ, устанавливающей в общем виде границы свободы договора, должен соответствовать императивным нормам права под страхом признания его недействительным (ст. 168 ГК РФ). Именно поэтому, например, недопустимым будет соглашение участников ООО, по которому один из них обязуется воздержаться от осуществления своего права на получение информации о деятельности общества (абз. 2 п. 1 ст. 8 ФЗ «Об ООО») или от права требовать исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности, чем существенно затрудняет дальнейшую деятельность общества (ст. 10 ФЗ «Об ООО»).
Впрочем, как представляется, и здесь не обойдется без спорных ситуаций, вызванных различным толкованием содержания тех или иных положений закона. Так, например, неочевидным представляется ответ на вопрос о правомерности соглашения, устанавливающего обязанность участника ООО перед другим его участником, заинтересованным в совершении обществом сделки, голосовать в будущем за ее одобрение или соглашения, устанавливающего для отдельного участника (участников ООО) обязанность воздержаться от реализации своего права на получение части прибыли общества. С одной стороны, такого рода соглашения вполне укладываются в рамки модели, описанной в п. 3 ст. 8 ФЗ «Об ООО», и прямо не противоречат императивным предписаниям закона. С другой, они направлены на перераспределение между участниками баланса рисков и преимуществ, который исторически сложился в корпоративном праве. Этот баланс предполагает, что участник корпорации, как правило, имеет объем прав и несет риски, связанные с деятельностью корпорации пропорционально доле своего участия в ней. Кстати, и само возникновение корпоративного законодательства было вызвано в том числе или даже прежде всего, стремлением государства установить правила, позволяющие сохранить этот баланс, защитить интересы экономически более слабых участников корпоративных отношений, сделать эти отношения более справедливыми. Инициативы последних лет, предпринятые отечественным законодателем в области корпоративного права, как раз и были направлены на установление и поддержание этого баланса. С этой точки зрения, такого рода соглашения противоречат самой природе корпоративных отношений.
Более сложным в настоящее время представляется ответ на вопрос о правомерности соглашения участников ООО об осуществлении своих корпоративных прав, не нарушающих императивных предписаний закона, но противоречащих положениям устава общества или направленных на преодоление установленных уставом ограничений.
Например, в соответствии с п. 3 ст. 14 ФЗ «Об ООО» уставом общества может быть ограничена возможность изменения соотношения долей его участников. Соответствующие изменения в устав вносятся единогласным решением всех участников. Новая редакция закона (кстати, одновременно с включением в него положений, легализующих соглашения участников) дополнена нормой, устанавливающей последствия нарушения запрета на изменение соотношения долей. В соответствии с ней, лицо, которое приобрело долю в уставном капитале общества с нарушением этого запрета, вправе голосовать на общем собрании участников общества лишь той частью своей доли, размер которой не превышает установленный уставом максимально допустимый размер (абз. 2 п. 3 ст. 14 ФЗ «Об ООО»). Между тем, участники ООО, единогласно установившие в его уставе такой механизм противодействия консолидации корпоративного контроля в одних руках, теперь совсем не гарантированы от того, что частным соглашением отдельных участников все их старания будут сведены на нет. При этом, один или группа участников, договорившись о совместном или согласованном голосовании на общем собрании участников ООО, с одной стороны, обеспечат себе возможность контролировать количество голосов, превышающее установленный уставом предел, а с другой стороны, не нарушат положений п. 3 ст. 14 ФЗ «Об ООО». Можно, конечно, возразить, что такая группа участников ООО и без всяких соглашений может голосовать согласованно. Но ведь одно дело, когда такое согласование позиций по тому или иному вопросу повестки дня осуществляется в рабочем порядке в ходе свободного обсуждения и волеизъявления, и совсем другое, когда отдельные участники голосования уже связаны заранее заключенным и обязательным для исполнения, прямо предусмотренным действующим законодательством договором, который может действовать и не только в отношении конкретного вопроса и конкретного собрания участников (закон такую возможность не исключает). Такой договор будет иметь ярко выраженную направленность на преодоление единогласно установленного всеми участниками ООО и нашедшего императивное закрепление в его уставе ограничения на консолидацию «корпоративной власти» в одних руках.
К сожалению, действующее законодательство не дает никакого ответа на вопрос о квалификации соглашений участников, противоречащих императивным положением устава ООО или направленных на их «обход». Положение усугубляется еще и тем, что ни ГК РФ, ни ФЗ «Об ООО» не содержат нормы, прямо обязывающей участника ООО соблюдать предписания его устава. Такая обязанность, конечно же предполагается, но в легально закрепленный перечень обязанностей участника ООО она почему-то не включена. Конечно, оспаривая такого рода соглашения, можно в очередной раз обратиться к «резервной» ст. 10 ГК РФ, но ее применение в данном случае даст необоснованно широкий простор для «творчества» правоприменителя, в связи с чем будет сопряжено с известными трудностями.
Нами были обозначены далеко не все проблемные вопросы применения новелл законодательства об ООО, призванных регулировать соглашения их участников об осуществлении ими своих корпоративных прав. Целый блок не менее существенных спорных вопросов связан с определением последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения таких соглашений, возможных способов обеспечения их исполнения.
Представляется, что ответы на указанные вопросы применения законодательства об ООО не могут быть найдены только путем их судебного толкования, поскольку в данном случае суды будут вынуждены не столько толковать, сколько восполнять пробелы законодательного регулирования, выходя за пределы компетенции судебной власти. Эти вопросы должны быть решены на законодательном уровне, причем желательно, в кратчайшие сроки. Как уже отмечалось, соглашения участников и акционерные соглашения заключались и ранее, даже под страхом признания их ничтожными. Теперь же, после их формальной легализации этот процесс стает необратимым. Однако российское законодательство, как представляется, еще не содержит четкого и пригодного для эффективного использования механизма правового регулирования соответствующих отношений, способного обеспечить наличные потребности участников гражданского оборота.
Впрочем, в рамках процесса «обновления» Гражданского кодекса РФ, свидетелями которого мы сейчас являемся, в действующий ГК РФ предполагается внести и положения регулирующие в общем виде отношения, возникающие по поводу заключения и исполнения соглашений участников хозяйственных обществ. С этой целью предлагается установить в Кодексе общие правила о возможности, порядке заключения и предмете такого рода соглашений. В свое время в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации (подготовлена на основании Указа Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 118 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации», одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009 г.) были приведены основные ориентиры, которых следует, по мнению разработчиков, придерживаться при подготовке соответствующих изменений в ГК РФ. В соответствии с ними, такие соглашения в любом случае не могут менять корпоративную структуру, порядок принятия корпоративных решений и иные корпоративные правила, устанавливаемые в расчете на третьих лиц, не являющихся участниками соглашения. Их условия не могут противоречить законодательным, в том числе антимонопольным запретам, природе отношений или публичным интересам. Теперь слово за законодателем.
Ограничение права на выход из состава ООО
До недавнего времени одной из отличительных черт, характеризующих общество с ограниченной ответственностью как самостоятельную организационно-правовую форму хозяйственного общества, являлось безусловное и закрепленное действующим законодательством императивным образом (ст. 94 ГК РФ в редакции действовавшей до 01.07.2009 г.) право участника ООО в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников. При этом, выходящему из общества участнику гарантировалось право получить выплату действительной стоимости его доли в уставном капитале общества, либо, при наличии его согласия, получить соответствующую часть имущества общества в натуре. Именно эта особенность являлась одним из принципиальных отличий общества с ограниченной ответственностью от другой формы хозяйственного общества – акционерного общества. На первый взгляд, такое положение вещей является весьма удобным для участника ООО, который имеет возможность в любой момент не только выйти из совместного бизнеса, но и изъять часть имущества общества пропорциональную его доле. Вместе с тем, практика применения соответствующих положений действующего законодательства выявила целый ряд отрицательных моментов, связанных с наличием столь свободного и ничем неограниченного права на выход из ООО, сформулированного к тому же в форме общеобязательного и не подлежащего изменению правила.
Как нами уже отмечалось, ООО является, прежде всего, корпоративной формой ведения совместного бизнеса. И в этой связи желание отдельного участника выйти из общества может вступить и, как правило, вступает в противоречие с безусловно заслуживающими внимания и защиты интересами других участников, желающих хозяйственную деятельность в рамках этого общества продолжать. Кроме того, сам факт наличия возможности такого выхода делает такую форму объединения лиц и капиталов как ООО весьма не – стабильной, не позволяющей с уверенностью осуществлять долговременное планирование своей экономической деятельности не только его участникам, но и контрагентам такого общества. И те, и другие, строя свои планы, должны постоянно учитывать вероятность того, что это общество в любой момент может просто прекратить свое существование по воле отдельного участника (группы участников), либо лишиться значительной части своей имущественной базы. Все это, конечно, не способствует стабильности гражданского оборота.
Именно поэтому идея исключения или, по крайней мере, ограничения права на выход участника из состава ООО высказывалась как необходимый элемент реформы законодательства об обществах с ограниченной ответственностью задолго до того, как она стала свершившимся фактом.
В ходе изменений в законодательство об ООО произошедших в 2008 году законодателем в этом вопросе был сделан выбор в пользу максимально «умеренного» варианта. В новой редакции закона об ООО императивная норма п. 1 ст. 26 ФЗ «Об ООО», предоставлявшая участнику ООО безусловное право на свободный выход из его состава, была заменена условно-обязательной нормой, в соответствии с которой участник ООО вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества, если это предусмотрено уставом последнего. Указанные положения в устав ООО могут быть внесены как при его учреждении, так и в последующем, путем внесения в него соответствующих изменений. Однако, в любом случае соответствующее решение может быть принято учредителями или участниками ООО только единогласно (п. 3 ст. 11 и абз. 2 п. 1 ст. 26 ФЗ «Об ООО») и любой из учредителей (участников) ООО может заблокировать принятие такого решения, если он с ним не согласен. Как мы видим, возможность выхода из состава участников ООО появляется лишь тогда, когда все учредители (участники) общества заранее и непременно единогласно об этом договорились, а значит готовы принять все возможные последствия такого коллективного решения.
Таким образом, право участника ООО на выход из его состава не было запрещено, в строгом смысле оно даже не было ограничено законодателем. Учредителям (участникам) ООО предоставлено право самостоятельного решить вопрос о целесообразности сохранения такого запрета или отказа от него.
Кроме того, и в том случае, когда выход участника из конкретного ООО запрещен, законодатель предусматривает ряд случаев, когда такой выход, пусть и названный «приобретение обществом доли (части доли) по требованию участника» фактически все же может быть реализован.
Так, в соответствии с п. 2 ст. 23 ФЗ «Об ООО», общество обязано приобрести по требованию участника общества принадлежащие ему долю или часть доли в следующих случаях:
– если уставом общества отчуждение доли или части доли, принадлежащих участнику общества, третьим лицам запрещено и другие участники общества отказались от их приобретения;
– если не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику общества или третьему лицу при условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом общества;
– если общим собранием участников общества принято решение о совершении крупной сделки и соответствующий участник голосовал против принятия такого решения или не принимал участия в голосовании;
– если общим собранием участников общества принято решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества и соответствующий участник голосовал против принятия такого решения или не принимал участия в голосовании.
Первые два исключения, фактически отменяют запрет на выход из состава ООО в том случае, если участник не имеет права продать ее другому участнику этого общества или третьему лицу. В третьем и четвертом случае право участника на выход из общества является мерой, направленной на защиту его имущественных интересов, которые могут пострадать в результате совершения крупной сделки (например, если она повлечет уменьшение стоимости имущества общества) или в результате увеличения уставного капитала общества (когда это может привести к уменьшению размера доли в уставном капитале этого участника), при условии однако, что такой участник на соответствующее решение не может повлиять.
Еще одной новеллой новой редакции закона «Об ООО» стало дополнение его ст. 26 нормой в соответствии с которой выход участников общества из общества, в результате которого в последнем не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из него не допускается.
Появление этой нормы явилось вполне ожидаемым и не может не приветствоваться, как мера направленная на защиту прав кредиторов ООО и борьбу с возникновением противоестественной и не имеющей выхода ситуации когда общество оказывается без единого участника.
Среди других изменений в законодательстве об ООО, которые произошли в последние годы, но которые по изложенным выше причинам, не стали предметом рассмотрения в рамках настоящей статьи следует отметить изменения в составе и порядке реализации преимущественных прав участников ООО и самого общества (речь идет прежде всего о преимущественном праве приобретения отчуждаемой участником доли); перераспределении компетенции между отдельными органами ООО; изменения порядка обжалования решений его органов управления; пересмотр некоторых ограничений при формировании уставного капитала ООО, способов защиты прав кредиторов при уменьшении уставного капитала ООО; изменения требований к ООО в случае несоответствия их уставного капитала стоимости чистых активов и некоторые другие.
Как уже отмечалось, нас ожидают и другие изменения в этой сфере корпоративного регулирования. Остается лишь надеяться, что эти изменения сделают регулирование корпоративных отношений более эффективным, а практику применения соответствующего законодательства более стабильной.
29
По вопросу о понятии и функциях уставного капитала хозяйственного общества также см.: Поваров Ю. С. Гарантийная функция уставного капитала: новое в акционерном законодательстве// Право и экономика. 2010. № 7.
30
Подробнее об этом см.: Степанов Д. Реформа законодательства об ООО: к принципу свободы договора в корпоративном праве. Часть II // Корпоративный юрист. 2009. № 7.
31
Подробнее об этом см.: Менгден Г. Нотариус нужен не всегда// ЭЖ-Юрист. 2010. № 7.
32
О списке участников ООО также см.: Александрова А. А. Список участников общества с ограниченной ответственностью: теоретические и практические проблемы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 3.
33
См.: Экспертное заключение Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства по проекту Федерального закона «О внесении изменений в ГК РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в части урегулирования акционерных соглашений) // http://privlaw.ru.
34
Об акционерных соглашениях также см.: Ода Х. Акционерные соглашения: осторожный шаг вперед. Вестник гражданского права. 2010. № 1.; Плеханов В. Договоры участников общества с ограниченной ответственностью. Корпоративный юрист. 2009. № 6.; Степанов Д. Соглашения акционеров в российской судебной практике. Корпоративный юрист. 2008. № 9.