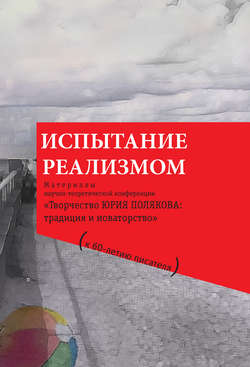Читать книгу Испытание реализмом. Материалы научно-теоретической конференции «Творчество Юрия Полякова: традиция и новаторство» (к 60-летию писателя) - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 8
I
«Творчество Юрия Полякова: традиция и новаторство»
материалы научно-теоретической конференции
Ю.Е. Прохоров
доктор филологических наук, доктор педагогических наук (Санкт-Петербургский государственный университет; Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина)
Знаки культуры в произведениях Ю. Полякова
ОглавлениеПисатель создает тексты. В самом обиходном понимании этого слова – некоторый связный словесный продукт любой протяженности, любой формы и любого содержания, который фиксируется как нечто целое в звуковом, печатном или электронном виде. Цель создания и презентации этого продукта – сообщить читателю (слушающему) нечто, что писатель считает важным для себя – и, в идеале, для читателя. Таким образом, текст – «результат целенаправленного речевого творчества, целостное речевое произведение, коммуникативно обусловленная речевая реализация авторского замысла… это сложное речевое целое… отдельно взятые существенные признаки этого целого (текстовые категории) образуют коммуникативную систему…». Если в этом определении слово «речевое» заменить на слово «языковое», то, в принципе, для наших рассуждений это будет приемлемо и достаточно.
Для нас самое главное, что текст создается автором не как самоцель, самовыражение, а как явление для коммуникации между автором и читателем. Как отмечал М.М. Бахтин, «человек в его человеческой специфике всегда выражает себя (говорит), то есть создает текст». По его мнению, текст представляет собой всеобщую форму общения людей, и проявить свою сущность он может только на рубеже сознаний. Отсюда вытекает и развитая М.М. Бахтиным идея диалогической сущности текста как генератора смысла. Внутренне диалогичен и сам текст. С одной стороны, каждый текст имеет в своей основе общепонятную и общепонимаемую знаковую систему, т. е. язык. С другой – каждый текст индивидуален, возникает здесь и сейчас, в определенное время и в определенном контексте.
Но из этого следует важный, на наш взгляд, вопрос: если изменяется «здесь и сейчас», то что происходит с текстом как единицей коммуникации? К функциям текста Ю.М. Лотман относит:
− обеспечение общения между адресантом и адресатом, передача информации от одного к другому;
− обеспечение общения между аудиторией и культурной традицией, аккумуляция коллективной культурной памяти;
− обеспечение общения читателя с самим собой и тем самым изменение его структурной самоориентации и степени его связи с метакультурными конструкциями;
− обеспечение общения читателя с книгой как равноправным собеседником;
− обеспечение общения между текстом и культурным контекстом; текст может выступать как модель культуры, а также как автономная культурная личность.
Поддерживая идею Ю.М. Лотмана о том, что текст является важнейшим антиэнтропийным механизмом, созданным человеком в противопоставление хаосу, В. Руднев отмечает: «Любой текст есть сигнал, передающий информацию и тем самым уменьшающий, исчерпывающий количество энтропии в мире. Таким образом, поскольку любой предмет реальности в нашем мире изменяется во времени в сторону увеличения энтропии, а текст ее исчерпывает, то, следовательно, можно считать, что сам текст движется во времени в противоположном направлении, в направлении уменьшения энтропии и накопления информации». Таким образом, чем старше текст, тем больше информации заключено в нем. Но из этого объективно вытекает и справедливость постструктуралистской теории парадигмы культуры и текста как сложной единицы: «Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки культурных кодов, формул, фрагменты социальных идиом и т.д. – все они поглощены текстом и перемешаны в нем…»
Базовым, всеобъемлющим в этом рассуждении нам представляется понятие «знаки культуры». Они отражают семиотическую функцию культуры, и традиционно выделяется пять типов таких знаков:
− естественные знаки, знаки – признаки ориентации в природной среде;
− функциональные знаки – знаки деятельности людей; кодирование и декодирование функциональных знаков;
− конвенциональные (условные) знаки – знаки-сигналы, знаки-индексы, знаки-образцы;
− иконические – знаки-образы, знаки-символы с историко-культурным смыслом;
− вербальные знаковые системы – естественные языки.
II
Обращаясь с этих позиций к произведениям Ю. Полякова, можно, на наш взгляд, отметить, что, во-первых, тексты у автора – всегда многоярусные интертексты, а во-вторых, в них прослеживается устойчивое и, на наш взгляд, целенаправленное переплетение всех типов знаков культуры. Более того – плотность представления этих знаков, как нам кажется, существенно превышает их среднестатическую плотность в произведениях других писателей этого поколения (присутствие автора позволяет ему согласиться или не согласиться с этим – но таково наше видение текстов Ю. Полякова с точки зрения представленности в них знаков культуры).
Во всех произведениях автора очень последовательно и, можно даже сказать, скрупулезно воспроизводятся признаки ориентации в пространстве – знаки конкретного города, определенной местности, иных пространственных, а также временных характеристик. Имеющий аналогичные «ориентировки» читатель в полной мере осознает реальность Парижа («Парижская любовь Кости Гуманкова»), вплоть до реальности маршрутов следования героев, реальность места действия повести «Демгородок» (исходя из собственного знания не конкретной местности, а типа местности, типа построек и т.п.). Предметный антураж «ЧП районного масштаба» и «Козленка в молоке» узнается как истинный, соответствующий картине мира, имеющейся в сознании читателя – современника автора и героев.
Следует признать и максимальную насыщенность произведений Ю. Полякова функциональными знаками – знаками деятельности людей. Это прежде всего обиходно-бытовая среда деятельности и среда литературно-художественная. Интересно в этом плане соотнести представленность таких знаков в работе собственно культурологической – Л. Парфенов, «Намедни. Наша эра», где представлены эти два типа знаков для определенного отрезка времени, и в произведениях автора этих же временных отрезков:
– «Намедни. Наша эра. 1981−1990 гг.» – «Сто дней до приказа», «ЧП районного масштаба», «Апофегей»;
– «Намедни. Наша эра. 1991−2000 гг.» – «Парижская любовь Кости Гуманкова», «Демгородок», «Козленок в молоке», «Замыслил я побег…»;
– «Намедни. Наша эра. 2001−2005 гг.» – «Грибной царь», «Гипсовый трубач».
Во всех произведениях Ю. Полякова практически стопроцентно представлены знаки культуры соответствующих временных отрезков, зафиксированные в культуроведческом издании Л. Парфенова – от социально-политических до психолого-бытовых фактов и реминисценций.
Не менее плотно в произведениях Ю. Полякова отражены всевозможные иконические знаки-символы, содержащие и отражающие историко-культурные смыслы – уже без временных ограничений. В этом плане, на наш взгляд, наиболее показательны романы «Замыслил я побег…» и «Грибной царь».
Наличие собственно вербальных и невербальных знаков культуры (языковой материи) обсуждать уже нет особого смысла, так как стиль Ю. Полякова неоднократно анализировался специалистами. Можно только отметить как широту тех языковых регистров, которые использует автор, так и точность их соотнесения с персонажами.
Достаточно ярким примером реализации всех типов знаков культуры может быть отрывок из романа Ю. Полякова «Парижская любовь Кости Гуманкова»: