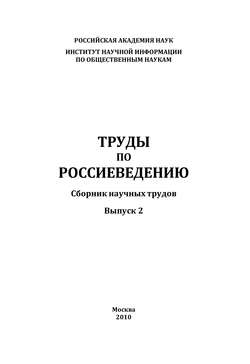Читать книгу Труды по россиеведению. Выпуск 2 - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 2
Конец десятилетия
(Вместо предисловия)
ОглавлениеРешение посвятить этот выпуск «Трудов по россиеведению» проблемам современной России (условно говоря, России 2010 г.) связано с целым рядом обстоятельств.
Юбилейный 2010-й
2010 год оказался «неожиданно» юбилейным. Причем в зеркале этих юбилеев мы можем увидеть некоторые важные черты России первого десятилетия XXI в. Итак, это и 100 лет со дня ухода и смерти Льва Толстого, и 90 лет со дня фактического окончания Гражданской войны и победы в ней «красных», или большевиков (о чем, кажется, никто не вспомнил), и 65 лет окончания Отечественной и Второй мировой войн, и 30 лет проведения московской Олимпиады (почему это событие так значительно, мы еще скажем), и 25 лет со дня начала перестройки, и 10 лет правления В.В. Путина (два последних, «медведевских» года в целом суть продолжение предшествующего режима).
Итак, по порядку. 1910 год. В России заканчивается «золотой» XIX в. Уход Толстого символизировал собою завершение периода расцвета и подъема (еще два-четыре года для истории не существенны, не заметны). «Бунт» Толстого по своим глубине и опасности был не менее значим, чем революция 1905–1907 гг. Может быть, самое яркое, что произвела Россия в свой «золотой» век, порывает с ней – ее церковью, ее государством, ее семьей, ее социальным устройством – всякие связи. Так Толстой, который был (здесь Ленин прав) «зеркалом русской революции», сам стал русской революцией. Кстати, такое в нашей истории уже случалось. Вспомним Пушкина, как-то в разговоре заметившего: Петр Великий есть настоящая революция. То же самое можно сказать и о Толстом. Сегодня мы не представляем себе масштабов того морального влияния на российское общество, которое имел этот яснополянский рюрикович. И потому его «нет» было грандиозным отрицанием всей той России. (Некоторые современники – например, Т. Манн и А. Блок – полагали, что если бы Толстой был жив в 14-м году, то не началась бы мировая война («всем стало бы стыдно»), а в 17-м году – революция. Конечно, они ошибались, особенно Блок: ведь, повторим, Лев Толстой и был революцией.)
В какой-то момент показалось, что если с уходом Толстого Россия вступила в свой страшный ХХ в., то с возвращением Солженицына, которое произошло три четверти столетия спустя, она вернулась на какие-то исконные, органические пути (чего так страстно хотел Александр Исаевич). Но этого не произошло. Как всегда, Россия идет, безусловно, своим, но – и опять же, как всегда, – новым, неизведанным путем. (Собственно, этому и посвящен очередной выпуск «Трудов по россиеведению».)
1920 год. Очевидная и безусловная победа большевиков в Гражданской войне. Всякому нормальному человеку становится ясно, что с вооруженным сопротивлением новому режиму покончено. Россия разрушена до основания, до тла – Россия «во мгле». Победители получают возможность строить свой новый мир. Именно тогда начинает складываться советская система, наследниками и продолжателями которой являемся мы. Но тогда же рождается и другая Россия («Россия в изгнании», З. Гиппиус), которая в интеллектуальной и эстетической форме блистательно реализует те интенции и тот потенциал, что были накоплены нашей страной в ее золотой век. К сожалению, они не воплотились в социально-институциональной сфере.
1945 год. Единственное, пожалуй, безусловное событие в советской истории. При всем том непредставимом ужасе 1941–1945 гг., при всех тех ни с чем несоизмеримых преступлениях сталинского режима (прежде всего по отношению к собственному народу), при всех тех неисчислимых жертвах, которые положили на алтарь Победы народы Советского Союза, война и Победа стали главным внутренним подвигом русских людей ХХ столетия. Внутренним потому, что режим сделал все от него зависящее, чтобы народ отказался воевать.
Война и Победа явились фундаментом еще одной попытки России построить гражданское общество. Оттепель, шестидесятничество, правозащитное и вообще диссидентское движение, мощный подъем русской культуры в послевоенные десятилетия имеют своим источником войну. Скажем больше. В ходе и в результате войны Россия вновь начала обретать себя. Она сумела доказать (в первую очередь, себе), что полного краха не произошло. Последовавшие подъем экономического благосостояния «широких народных масс» (середина 50-х – конец 70-х), научно-технические достижения, атомный проект, космос и т.д., несомненные успехи в сфере социально-гуманитарных наук, да и вообще модернизационный рывок также суть следствия войны и Победы. Именно в те годы первый поэт России ХХ в. Борис Пастернак зафиксирует: «Я как от обморока ожил».
65 лет со дня окончания Второй мировой войны, как это ни парадоксально, для России ничего не означают. Никаких эмоций относительно этой войны и этой победы у нашего народа нет. Может быть, единственное, что вызывает оживление или интерес, – это споры на тему, «каков был вклад союзников в нашу победу, была ли их помощь СССР значительной, решающей, несущественной и т.п.». Но все это второстепенно по сравнению с отношением россиян к Отечественной войне. Интернационализация войны и Победы для нашего человека – «элитарного» и массового в равной мере – невозможна, так как меняет (точнее, отменяет) ее смысл.
Этот пример демонстрирует важнейшую культурно-ментальную характеристику. Мы, русские, по-прежнему понимаем себя как весь мир, а не его часть, не желаем мириться со своей частностью. Поэтому и мировую историю, и мировую войну редуцируем к отечественным. Именно здесь источник нередкого у нас воинствующего национализма, отрицающего (презирающего) Другого и на этой основе возвышающего себя. Внутренняя «недостаточность», культурная «элементарность», неуверенность в себе, которые компенсируются комплексом «избранничества», – все эти болезненные свойства национального организма, на которые впервые так отчетливо и резко указал Чаадаев, в нас не просто остались, но в советские времена были развиты и укрепились в качестве «основы». На ней – видимо, за неимением других оснований – и стоит сегодняшняя Россия.
1980 год. Год обещанного коммунизма. Советская власть (власти) как всегда сдержала слово. Как пелось в популярной советской песенке: «И что было задумано, то исполнится в срок»… Исполнилось. Коммунизм пришел в СССР в виде и в рамках Московской олимпиады (у него даже был свой символ – «ласковый Миша» из «сказочного леса»). Советский человек, хоть и несколько дней, но пожил при коммунизме, о необходимости и неизбежности которого говорили двадцать лет. Кто-то поучаствовал в этом лично, другие (большинство) знали понаслышке, но время от времени всех еще подпитывает ощущение радости, счастья случившегося.
В 2010 г. об Олимпиаде вспомнили, по ТВ прошли соответствующие сюжеты и фильмы, создали даже Оргкомитет по празднованию 30-летия. Интересно, что говорили не о спортивных победах или неудачах, не о спортмероприятии, а об атмосфере тех дней – непривычно (для Москвы и СССР) доброжелательной, спокойной, радостной. В воспоминаниях ощущались невероятная, даже какая-то щемящая ностальгия, странное – человеческое, нежное – отношение к официальному, вроде бы, событию. Как будто люди пережили момент счастья, личного и общего одновременно, сближающий их и теперь. Мне всегда было непонятно такое восприятие Олимпиады 80-го. Оно явно не случайно, но чем вызвано?
«Разгадка», мне кажется, и заключается в том, что для советских людей спортивное событие приобрело важное социальное значение – реализовалась мечта. Тогда по Москве ходили шутки: мы и впрямь дожили до коммунизма. Москвичи вспоминают: летом 80-го, к мероприятию, в магазинах неожиданно появилось неслыханное по тем временам многообразие продуктов (т.е. некоторый выбор), город стал чистым, каким-то более уютным и нормальным. Он напоминал картинки Москвы из советских фильмов. Куда-то исчезли хаотические толпы, которыми и в то время была запружена центральная часть столицы (они составлялись не только из москвичей, но и из наезжавших в Москву в поисках продовольствия жителей «ближнего» и «дальнего…», командировочных и т.п., что было связано со сверхцентрализацией во всех отношениях советского общества). Из города убрали бо́льшую часть тех, кто потенциально (и актуально) мог нарушить общественный порядок. А в Москву приехали многочисленные зарубежные туристы, внесшие в нее непривычное разнообразие. И все это вкупе с празднично одетыми «хорошими» москвичами создавало иллюзию какой-то новой, необыкновенной, более богатой и красивой жизни. В общем, коммунизма.
Слово для обозначения происходившего нашлось совсем не случайно. В представлении и тогдашних советских вождей (начиная с Хрущева), и бо́льшей части народа «коммунизм» ассоциировался с сытой, «красивой», спокойной (в том числе безопасной) и праздничной (нерабочей, но и не безработной) жизнью. Образ коммунизма был в чем-то схож с наличной реальностью – скажем, с поездкой деревенского жителя в город и удивленно-радостным переживанием тех возможностей, недоступных в деревне, которые город в себе таил. Это зафиксировано, например, в прозе и кино В. Шукшина. Коммунизм воображался как «высшая стадия» нашей бытовой жизни, что-то сродни походу в магазин «Березка» или отдыху в Карловых Варах, на Балатоне, болгарском побережье Черного моря.
Вообще уровень мечтаний простого советского человека (а тогда он еще мечтал) был невысок. Коммунизм – советская мечта о нормальной жизни, нормальном городе (на манер обычного среднеевропейского), нормальных отношениях между людьми, между властвующими и подвластными и т.п. И вот мечта неожиданно «сделалась былью» в июле 80-го.
Конечно, «быль», как и все были, не могла быть точной копией мечтаний. «Реальный» коммунизм имел ограниченный – во всех смыслах этого слова – характер. Как вспоминают те же современники, необыкновенно сильным было ощущение искусственности, кратковременности и, как сказали бы сегодня, эксклюзивности происходящего. На деле вышел «урезанный», нестойкий, бедненький коммунизм. Но ведь и это понятно. Особенно его «урезанность», бедность: крайне ограничены были социальные ресурсы. Что касается искусственности, то представления о коммунизме всегда носили очень надуманный характер. Можно было тысячу раз получать пятерки на экзаменах по предмету «научный коммунизм», излагая историческую логику неизбежности «высшей стадии социализма», но как «стадия» должна устроиться в реальности, никто, разумеется, – от членов Политбюро до любого советского человека – наверняка не знал. Вот с «реальным социализмом» все было понятно: в нем жили. А коммунизм и в 1980-м оставался сладкой сказкой.
Говоря о ее воплощении, нельзя, конечно, забывать других знаковых событий 80-го года: вступления наших войск в Афганистан (это, кстати, как и «олимпиадный коммунизм», – нечто усеченно-непонятное, противоречивое и «недоделанное»; введение «ограниченного контингента» – не полновесное вторжение, не объявление войны, но точно и не «товарищеская помощь дружественному афганскому народу»), ареста Сахарова, разгрома диссидентского движения и полного зажима интеллигенции, ухудшения продовольственного снабжения по всей стране (особенно болезненного для нашего населения, неоднократно переживавшего в ХХ в. голод). И наконец, был еще бойкот Олимпиады ведущими странами Запада, что создавало ощущение если не провальности, то ущербности мероприятия. А ведь Олимпиада для тоталитарных режимов (Германия в 1936 г., СССР в 1980 г., Китай в 2008 г.) – событие прежде всего политического, а не спортивного характера; точнее, это эксплуатация спорта в интересах политической мобилизации.
Все вместе создавало вокруг Олимпиады атмосферу неуверенности, еще бо́льшей, чем прежде, изолированности, отъединенности от мира, опасного одиночества. К тому же со всех концов Союза в Москву нагнали милиционеров. Действуя вежливо, они тем не менее придавали столице имидж «режимного объекта». Это кредо советского: функция обеспечения порядка неизбежно влекла за собой установление полувоенного (в лучшем случае) положения.
Видимо, только так и мог быть построен коммунизм в СССР: на несколько дней, в одном городе, на фоне спортивных достижений, в формате одновременно декорации/зрелища и охраняемого «спецмероприятия». Парад, конкуренция – но только в спорте, охрана (с послаблениями в режиме), увеличение «пайка», порядок/безопасность, организованное народное ликование, ограниченное «конвоирование» (т.е. усеченная свобода передвижения и общения), некоторая степень открытости миру при угасании внутренних страхов и ощущения внешней угрозы – вот, видимо, советская формула «хорошей жизни» (социализма, «развившегося» до высшей стадии). В ее возможность так долго верили, что подобие с готовностью приняли за реальность. Но всякое счастье, как известно, ненадолго. Окончился наш краткосрочный и ограниченный коммунизм практически тогда же, когда и начался. Мы даже точно знаем дату: 28 июля 1980 г., в день похорон В. Высоцкого.
Впервые после 12 апреля 1961 г., дня полета Гагарина, огромные массы москвичей спонтанно – не по принуждению властей, а что называется «по зову сердца» – вышли на улицы. Там не было ничего искусственного, нереального – людей вело настоящее горе, ощущение потери. И потому из толп они мгновенно преобразились в народ. У И. Бродского есть слова: «Только размер потери и делает смертного равным Богу». С ортодоксально-христианской точки зрения это утверждение сомнительно. Но мы его используем, скорее, как метафору. Высоцкий в 70-е стал важнейшей составляющей внутреннего мира огромной части советского населения – от шахтеров до министров, от диссидентов до гэбешников. Именно его голос в то десятилетие был «эхом русского народа». Смерть первого в то время поэта России, народные похороны и народная скорбь «закрыли» московский коммунизм.
Только сегодня становится ясно, что выход масс на улицы и площади Москвы летом 80-го был исторической репетицией тех событий, которые произойдут – прежде всего в нашей столице – во второй половине 80-х: массовых демонстраций, митингов и шествий эпохи перестройки. Из дня сегодняшнего понимаешь, что народная акция «на смерть поэта» была свидетельством готовности советских людей к переменам (вскоре, кстати, об этом скажут другие поэты, ставшие голосом новой эпохи). Реальная история смела олимпийские декорации 80-го, весь тот советский коммунизм, который смог осуществиться лишь как «потемкинская деревня». Однако говорить снисходительно о нем не стоит. Ведь даже для установления коммунизма на несколько дней в одном отдельно взятом месте и в декоративной форме потребовалось сверхнапряжение всей страны, всех ее ресурсов (что засвидетельствовано участниками «строительства»). Кроме того, как показала дальнейшая история, то был единственный момент, когда мечта о коммунизме – хотя бы в таком виде – могла реализоваться. 1980 г. – «высшая стадия» развития советской жизни, советского мира. Не случайно с ним связано и воплощение советского мифа.
В начале 80-х советская история стала напоминать «хронику пикирующего бомбардировщика». Все пошло «вниз»: один за другим умирают властители, необратимо портится экономика, в «вязкой» и стойкой апатии цепенеют люди. А коммунизм улетел вместе с символом Олимпиады, Мишкой, в день ее закрытия. «До свидания, наш ласковый Миша!» – до сих пор звучит трогательно-ностальгически. А другой – вполне реальной, но тоже «ласковый» – Миша уже был в Москве.
1985 год. Начало перестройки. Конечно, тогда никто еще не знал, что в действительности надвигается. А сейчас мало кто помнит и понимает, что произошло. Хотим мы или нет, то была четвертая русская революция, антикоммунистическая и антисоветская по своей природе. На ней закончилась история коммунизма в России. Коммунистический эксперимент провалился – это факт, из которого следует исходить. Через четверть века мы живем в другой стране, с другим социальным строем, с другой территорией, с другим населением. Теперь, зная, чем закончился советский коммунизм и что сформировалось после его падения, граждане этой страны совершенно иначе видят (должны видеть) и свою историю в целом, и историю ХХ в., и – что, может быть, важнее всего – самих себя.
Четвертьвековая годовщина начала перестройки – прекрасный повод поразмышлять над тем, каков исторический субъект российской жизни, его качества, возможности, перспективы. Иными словами, именно по прошествии постперестроечной «переходной» эпохи мы можем спокойно, трезво, без всяких надежд, отчаяний, фантазмов рассказать (как и подобает исследователю), что делал русский человек в XIX – начале ХХ в. и чем это закончилось; чем занимался тот же человек на протяжении бо́льшей части ХХ столетия; что он совершил в его конце и начале следующего.
При этом мы находимся в абсолютно уникальной ситуации. Среди нас еще есть люди, воспитанные предреволюционным поколением; мы сами – стопроцентный продукт советского времени и непосредственные участники постсоветской эволюции. Не через книги и не понаслышке нам удалось пережить все три последние русские исторические эпохи. Причем, повторим, мы знаем, чем они начались и как закончились. Таких исходных условий в силу неумолимости биологических законов не будет у поколений, идущих за нами. Следовательно, главная наша задача – выработка адекватного знания о России. Или, выражаясь пафосным языком одного из самых известных персонажей нашего времени, у нас есть «единственный проект – наша страна» (А. Чубайс).
2000 год. К власти приходит новый человек, и при нем Россия постепенно обретает свой нынешний вид. То есть реализует одну из нескольких возможностей, которые сформировались в течение 90-х. Если говорить очень общо, их было три: окончательные распад и гибель (я лично в это мало верю, но так полагает ряд авторитетных исследователей); усиление демократического порядка, дальнейшая либерализация (и создание более европейского, т.е. более открытого) общества, постепенное становление той системы, которая заявлена в Конституции РФ; новое издание русской полицейщины, резкое сокращение прав и свобод, попытка во внешней политике вернуться на позиции влиятельного (и даже одного из главных) игрока. Последний вариант и был реализован, причем, заметим, весьма успешно. Его осуществлению способствовала благоприятная для России мировая экономическая конъюнктура (попросту говоря, высокие цены на энергоносители).
Для нас самое важное, пожалуй, даже не то, что «элиты» толкнули Россию на этот путь, а то, что подавляющее большинство народонаселения радостно и не ропща по нему двинулось. Следует признать, что это один из главных исторических уроков нашего времени. И как бы факт «властенародного» единства (при вроде бы полном несовпадении первейших жизненных интересов) ни интерпретировался, он должен быть не только осознан, но и признан. Другим важнейшим фактом является стабилизация социального состава русской властной верхушки. Ее большинство, от федерального до местного уровня, составляют выходцы из партсовхозвоенгэбешной номенклатуры. И здесь нет ничего случайного: такова характерная особенность постсоветской эволюции.
Учет этих обстоятельств и есть исходная позиция для россиеведа.
Событийный 2010-й
И сам 2010 год неожиданно стал очень важным и в истории Отечества. И запомнился он вовсе не тем, чем планировалось «сверху». 65-летие Победы – точнее, его официальная презентация – не стало главной темой года. Хотя сделано для этого было все – за ценой юбилейных торжеств власти в буквальном смысле слова «не постояли». Да и народ не остался в стороне, поддержав «верховных» всеобщим ликованием. В результате победной эйфории из массовой памяти удалось быстро вытеснить трагедии в московском метро 29 марта и на шахте Распадская Кемеровской области 8–9 мая 2010 г. Для массы сограждан Победа – один из немногих поводов гордиться страной и собой. Поэтому россияне совсем не против конструирования смысла современного существования на основе Победы. Для подавляющего социального меньшинства, «управляющих», Победа – главная находка 2000-х, «нацидея». Ее «розыгрыш» приносит им двойную пользу – экономическую и идеологическую.
Массмедийно-демонстрационно-церемониальная, официальная и всеобщая Победа переживается исключительно как праздник, без раздумий и скорби, теша великодержавные амбиции «верхов» и «низов» и создавая иллюзию их единства (в какой-то момент подумалось: а вдруг они в этом действительно обретают единство?). Однако сконструированный ею «жизнеспасающий» образ – победно шествующего во времени «избранного» народа – быстро рассеялся под напором реальности. Презентация имела нестойкий, краткосрочный эффект. Не удались и «затейки» «соправителей» (скорее, индивидуальные: одна – «самодержавного» премьера, другая – «самодержавного» президента) с объявлением 2010-го годом преодоления экономического кризиса и модернизационного «рывка». Невероятный рост цен, особенно в самом конце года, напомнил о неумолимо постоянной кризисности нашего существования, а сколковский проект – о традиционном варианте «верхушечной» («элитарной») модернизации для «избранных» и без народа. (Если учесть, что предыдущие попытки предпринимались за счет народа, можно говорить об определенном новаторстве нынешнего модернизационного замысла.)
Летняя природная катастрофа, беспрецедентная жара, помноженная на дымовое удушье, – это первое значимое событие 2010 г. – показали со всей очевидностью следующее: мы абсолютно беззащитны перед вызовами природы. Человечество еще не выработало соответствующих защитных механизмов – да и возможны ли они вообще? Однако в социальном отношении гораздо важнее другое. Десять лет мы слышим о восстановлении государственного порядка и порядка в государстве, о вертикалях, преодолении хаоса 90-х и т.п. Но летом 2010 г. все это куда-то исчезло, и мы остались один на один с погодой, природой, средой, угрозой здоровью, жизни… А ведь постепенное изъятие (и добровольная сдача) свобод 90-х, резкое ограничение свободы выбора и выборов, прямое подавление гражданского общества (целой серией ограничений, запретов и т.п.) шли под «смиряющее» сопровождение: сильная центральная (настоящая русская) власть мудро знает, что делать и куда идти; до широкой либеральной демократии мы не доросли (и строим ее всего-то десятилетие, тогда как другие – столетиями); самодержавность/недемократичность – это корневая русская традиция. Короче, власть может все, а народное счастье – в ее силе и стабильности.
На поверку это оказалось блефом, а власть, несмотря на свою «вертикальность», – социально неэффективной, декоративно-презентационной. Приведу здесь слова известного российского исследователя, сказанные за несколько лет до июльско-августовских событий: «…вопреки усилиям политтехнологов и менеджеров огосударствленного ТВ, социальную действительность не удалось “заговорить”, загнать на экран и выстроить по удобному для власти ранжиру. Ни стабильности, ни благополучия, ни безопасности россияне в большинстве своем по-прежнему не ощущают. А потому не выходит праздника послушания. Выходит лишь очередной номенклатурный пшик, головотяпство и беспомощность властей, на которые массы отвечают либо привычным равнодушием, либо… недовольным брожением»1. Это в очередной раз и с буйной отчетливостью в начале декабря ушедшего года подтвердили молодежно-погромное действо, в основе которого – официально поощряемая ксенофобия, агрессивное неприятие Другого, всеобщие неудовлетворенность настоящим и страх будущего, и реакция на него «сил порядка», вплоть до верховных.
Второе событие 2010 г. – завершение суда над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Суд доказал, что эти бизнесмены совершали преступные деяния, а потому должны сидеть в тюрьме. Долго. Если отбросить эмоции и попытаться подойти к судебному решению объективно и рационально, то вроде бы и возразить нечего. Они действительно виновны и заслужили наказание. Более того, прав премьер В.В. Путин – и с «вором», и с США, где за схожие действия «дают» по 100 лет и больше. Итак, дело закончено – забудьте… Но забыть не удастся. Как не удастся свести это событие к разряду третьестепенных, побочных.
Что же произошло? Родившиеся в начале 60-х годов Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, судя по всему, были обычными способными позднесоветскими мальчиками. Более того, Ходорковский, несмотря на свое еврейство (а это, как мы знаем, мешало карьере в официально интернациональном СССР), стал секретарем Фрунзенского (одного из самых престижных) РК ВЛКСМ г. Москвы. Свои особые дарования (прежде всего в смысле аккумулирования наличных социальных ресурсов) молодые люди подтвердили в конце 80-х – начале 90-х, превратившись уже в первые годы правления Ельцина в крупных российских олигархов. Совершенно ясно, что их молниеносное обогащение было «не релевантным» ни в правовом, ни в этическом, ни в каком-то другом смыслах. Впрочем, так (в рамках «так» имелись, конечно, оттенки и варианты) поступали тогда практически все – те, кто сколотил огромные (и даже изрядные или солидные) состояния. А потом что-то не пошло. В начале наступившего века между Ходорковским и тогда еще молодым президентом Путиным пробежала какая-то черная кошка. На этот счет есть разные версии, ходят разные слухи. Мы, разумеется, точно не знаем, как все это было. Но было. Финал (финал на сегодняшний день) известен.
Был ли Ходорковский среди олигархов единственной «жертвой» путинского режима? Нет. Вспомним Березовского, Гусинского (наверное, и еще кого-то). Но те предпочли быстро ретироваться. Кстати, первым в тюрьму определили не Ходорковского – первым среди этой публики на нарах оказался Гусинский. Но тот быстро смекнул (или ему «смекнули»): «Папа, надо делать ноги» (цитата из фильма К. Шахназарова «Мы из джаза»). А вот Ходорковский этого почему-то не сделал. Ну и, разумеется, сам себя определил на нары. Понятно, что акция «по посадке» была адресована всему российскому «клубу» миллиардеров и мультимиллионеров. Новый президент показал им, «кто в доме хозяин». В дальнейшем тем, кто это понял, было разрешено и оставлено многое и много. Но характер взаимоотношений власти и олигархического бизнеса принципиально изменился. Смысл «новации» емко сформулировал А. Кох, яркий и циничный представитель капитала 90-х: теперь бизнес может говорить с властью только так: «Разрешите исполнять Ваше распоряжение бегом?» Ходорковский по каким-то неведомым для меня причинам – но, безусловно, это связано и с личным мужеством, и, видимо, хорошо развитым чувством личного достоинства – не смог вписаться в эту, как любят теперь говорить, «картину маслом».
А вот дальше стало происходить то, о возможности чего мы как-то уже подзабыли. На наших глазах происходил процесс, принципиально более важный, чем превращение обезьяны в человека. Вместо удачливого «скорохвата» (выражение А.И. Солженицына) очередной русской смуты мы увидели человека – обычного, нормального, который, как определил В. Аксенов, «одновременно богатый и не гад» (говоря о М. Ходорковском, мы, разумеется, имеем в виду и П. Лебедева). У В. Высоцкого есть такая строчка: «Вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие». Разумеется, речь идет не об этнической трансформации. Это означает, что в нашей стране всякий русский – пострадавший, а пострадавший – русский. Причем «русский» именно в смысле – житель этой страны; этнически при этом можно быть кем угодно. Формула Высоцкого структурно напоминает рассуждение гр. Сергея Семеновича Уварова: «Если русский, – значит, православный; если православный, – значит, русский». Я думаю, Уваров ошибался, а вот Высоцкий нет. Во всяком случае, почти уже столетняя послереволюционная русская история подтверждает верность наблюдения поэта. Человек, живущий в России, русским может стать, лишь пострадав. Человеческое существо в России – это существо пострадавшее (страдающее).
В этом – главный итог процесса «Ходорковский – Лебедев», который стал важнейшим событием русской истории первого десятилетия XXI в. и важнейшим фактором восстановления, казалось бы, совсем увядшего в это десятилетие гражданского общества. Теперь уже не принципиально, нарушали ли законы эти «преступники». Важно то, что на глазах у всех (у всего мира) после большого перерыва русские вновь показали способность к мужественному и достойному поведению. Ходорковский доказал, что фразы из «последнего слова» на последнем (пока) суде о цене его веры, готовности идти до конца – совсем не пышная риторика. Он уже пошел до конца. А этого – вспомним Сахарова, Солженицына, Марченко, Буковского, других – не остановить ничем.
Скажу больше. Мужественное поведение Ходорковского и Лебедева в последние семь лет позволяет предположить: уходит время господства уваровской идеологии, которая по существу была подхвачена путинским режимом – «православие, самодержавие, народность» (в свое, уваровское время, это было, чтобы ни говорили профессиональные либералы, точным самоопределением России – ну, может быть, излишне резким). И на смену ей идет новая… нет, не идеология – скорее, программа, которую я, не претендуя, разумеется, на высокий уваровский эстетизм, сформулировала бы так: «пострадание», либерализм, гражданство. Русский – не православный; русский – пострадавший. Не самодержавие (в царской ли, советской или постсоветской форме) – оно уже показало свою историческую несостоятельность, но политическая свобода (либерализм). Мы уже способны к ней и достойны ее. Да и во всем мире – в том числе в отдельные периоды и у нас – была доказана ее бо́льшая эффективность. Наконец, не туманно-бесформенная народность (ныне это симбиоз Михалкова с Пугачевой плюс ЕР), но гражданское общество, гражданин, гражданское самоуправление, гражданская самоорганизация (эстетически это – если обратиться к совершенно оскандалившейся в последний год и явно, как говорили в советские времена, «морально разложившейся» сфере кино – Алексей Герман и Кира Муратова).
Знаменательно, что в предпоследний день уходящего года по всем медийным каналам транслировали две России: официальную (все больше выглядящую как уходящая натура) и гражданскую. Их и показывали одну за другой: за картинкой «Д. Медведев снова награждает в Кремле Н. Михалкова» (этот властенародный любимец и там не удержался – прошелся по Л. Парфенову, затем зачитал стихи своего отца, иронично обличающие его – отца, а значит, и сына, и всех, кто «знает, куда вести», – врагов) следовала другая – Ходорковский и Лебедев, спокойно слушающие приговор. Кроме того, множество бумажных и электронных СМИ за несколько дней до окончания суда распространили последнее слово Ходорковского, что придавало картинке определенный смысл.
В заключение заметим, что «расклад» картинок вовсе не так очевиден, как нам по привычке кажется: победа за тем, кто выносит приговор. Все наоборот. Мы это тоже уже проходили, но в погоне за «хорошей жизнью» успели забыть. На наших глазах ветшает и стремится к падению одна – властная, богатая, знаменитая, одним словом, «новономенклатурная», социально неэффективная – Россия и происходит становление другой. В этом и состоит социальный смысл 2010 года – при внешней неубедительности и пафосности выражающих его слов.
И.И. Глебова
1
Дубин Б. Медиа постсоветской эпохи: Изменение установок, функций, оценок // Дубин Б.В. Россия нулевых: Политическая культура – историческая память – повседневная жизнь. – М., 2011. – С. 177–178.