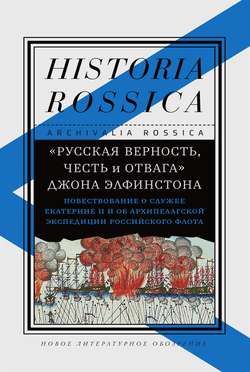Читать книгу «Русская верность, честь и отвага» Джона Элфинстона: Повествование о службе Екатерине II и об Архипелагской экспедиции Российского флота - Группа авторов - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Исследование
БРИТАНСКИЙ ОПЫТ ЭЛФИНСТОНА И ЕГО УЧАСТИЕ В ОБНОВЛЕНИИ РОССИЙСКОГО ФЛОТА
Оглавление…если бы не горстка англичан, русские и не нашли бы пути в Средиземное море, и не смогли бы атаковать османов.
Джон Элфинстон
Когда Джон Элфинстон вступил на русскую службу в 1769 г., он продолжил давнюю традицию, согласно которой иностранцев нанимали, чтобы поправить состояние дел в Императорском российском флоте128. Петр Великий приглашал иноземцев с момента рождения флота в России еще в конце XVII в. Эти иностранцы – голландцы, англичане, фламандцы, немцы, датчане – делились своими навыками в кораблестроении, инженерном деле и навигации, с их помощью Российская империя становилась морской державой129. Первой заботой на этом «повороте к морю»130 было освоение основ конструирования и строительства кораблей, но вскоре стали требоваться и знания иностранных специалистов для обучения русских моряков западноевропейскому искусству навигации. Иностранцев включили в штат созданных Навигацкой школы, а затем и Морской академии131.
В 1752 г. был открыт Морской кадетский корпус, в котором значительно расширился состав дисциплин, преподававшихся будущим морским офицерам. Помимо основ навигации и математики, которым учили и в открытых ранее Навигацкой школе и Морской академии, в программе Морского кадетского корпуса появились дисциплины, способствовавшие общему развитию юношества. На наем учителей, преподававших риторику, историю, политику, рисование, танцы и прочие «шляхетские науки»132, средств не жалели.
Растущие возможности обучать навигации и практиковать учеников в дисциплинах морского дела облегчили создание корпуса флотских офицеров российского происхождения. Этот корпус пополнялся офицерами, начинавшими службу с нижних чинов, но получившими возможность дослужиться до капитанского и даже адмиральского ранга133.
Талантливые иностранцы, жившие в Петербурге и сотрудничавшие в Российской академии наук, также внесли свою лепту в разработку научных основ мореплавания. Выдающиеся академические ученые, такие как, например, Леонард Эйлер, совместно с Михаилом Ломоносовым включились в общеевропейское обсуждение вопроса определения долготы и предприняли немало усилий для улучшения преподавания навигационных наук134.
Кораблестроение и мореплавание были лишь частью значительного круга вопросов, решавшихся между Россией и Британией в XVIII в., но их обсуждение привнесло новое измерение в отношения двух держав. Российско-британские торговые связи, редкие культурные контакты и попытки политического взаимодействия, существовавшие еще с XVI в., в XVIII в. стали приобретать новое стратегическое значение для обеих держав, влияя и на прочие государства Европы135. Этому способствовали и участившиеся взаимные визиты, и посредничество в торговых и политических делах; свою роль сыграли и разного рода «knowledge brokers», выполнявшие заказ на трансфер новых знаний, технологий и вербовку их носителей. Путешественники и дипломаты чаще стали посещать Россию, оставляя многочисленные записки о своем пребывании в ней136. Российскую империю как место службы стали выбирать эмигранты разных мастей: беженцы после якобитского восстания, купцы и предприниматели, военные и морские офицеры, переведенные на родине на половинное жалованье или вышедшие в отставку. Особенно благожелательно российские власти относились к прибытию на службу офицеров Британского королевского флота, и уже в 1715 г. современники отмечали усиление английского влияния на российском флоте, до того испытавшем преимущественно влияние Голландии137.
Только в середине XVIII в. показатели найма иностранцев на флотскую службу в Россию значительно снизились (что было связано с ухудшением всего состояния российского флота), но при Екатерине II численность приглашенных иностранных специалистов достигла наивысших значений за столетие138.
В отличие от своих предшественников Екатерина II использовала флот как для достижения своих военно-стратегических целей, так и для исследования морей и океанов. В обоих случаях иностранные моряки способствовали динамичному освоению западного научного знания и опыта. В числе первых приглашенных Екатериной опытных британских морских офицеров был и Джон Элфинстон, не только оставивший ценные свидетельства о состоянии российского флота в первое десятилетие Екатерининской эпохи, но и сумевший внести свой заметный вклад в обновление этого флота.
ВЕРБОВКА БРИТАНЦЕВ НА РОССИЙСКУЮ СЛУЖБУ
После выхода России из Семилетней войны намерение Екатерины II взяться за реформирование флота заставило обратить внимание на поиск и приглашение новых иностранных моряков в дополнение к тем, кто оказался в Российской империи при Анне Иоанновне или Елизавете Петровне139. Приглашением в российский флот иностранных морских офицеров в 1760‐е гг. занимались и высокопоставленные дипломатические представители, и военные агенты.
В 1763 г. с публикации рескрипта, который содержал форму приглашения иностранцев селиться в России, началась кампания по рекрутированию не только западных колонистов, но и моряков140. Такие формуляры приглашений вез с собой генерал-поручик Роман Фуллертон, которого отправили из России в Британию весной 1763 г., снабдив тысячей червонцев казенных денег и инструкциями относительно приглашения почтенных офицеров разного ранга служить на Российском флоте141. Вскоре Фуллертон сумел завязать контакты в Королевском флоте, в особенности с «адмиралом Гордоном» (вероятно, это был Уильям Гордон/William Gordon), который оказывал ему содействие в поисках претендентов на переход в российскую службу142. Переговорам с британскими офицерами способствовало и то, что Фуллертон действовал в контакте с российским посланником в Британии графом Александром Романовичем Воронцовым143.
Правила, касающиеся службы британских офицеров в зарубежных армиях и флотах, требовали, чтобы миссия Фуллертона сохранялась в секрете. Инструкции Фуллертону и его отчеты пересылались через генерал-губернатора Лифляндии Юрия Юрьевича Броуна (сам Броун был родом из Ирландии и состоял на российской службе с 1730 г.)144. Далее, когда были найдены офицеры, желавшие служить в России, разрешение на их приглашение должен был испросить у правительства один из дипломатических представителей (либо граф А. Р. Воронцов в Лондоне, либо граф Джон Хоубарт, первый граф Бакингемшир, британский посол в Петербурге), так как было известно, что сами офицеры не могли просить такого разрешения145. К середине 1764 г. результатом миссии Фуллертона стало приглашение в Россию по меньшей мере пяти британских офицеров146. Между тем в посланиях генерал-губернатору Броуну Екатерина II высказывала пожелания, чтобы Фуллертон пригласил до восьми офицеров (одного или двух флагманов, трех капитанов и двух-трех лейтенантов). И на этом императрица не собиралась останавливаться, она надеялась, что пример этих британцев и их добрые рекомендации заинтересуют и других их соотечественников принять российские приглашения147. Задача, впрочем, осложнялась тем, что в России требовали, чтобы эти офицеры (в особенности флагманы, офицеры адмиральского ранга) имели «добрую» репутацию, были знающими в «морской архитектуре» и «экономии корабельной», говорили не только на родном языке, но и по-французски или по-немецки и способны были принести пользу Адмиралтейству («могли бы достойными членами быть в управлении нашего адмиралтейства»)148. Не случайно Фуллертону так и не удалось уговорить отправиться в Россию подходящих под эти требования моряков высокого ранга.
Фуллертон покинул Британию в 1764 г., однако уже через четыре года начало Русско-турецкой войны придало новый импульс усилиям по поиску и вербовке опытных иностранных офицеров на российскую службу, прежде всего во флот. Согласно последним подсчетам, можно заключить, что около половины из 75 иностранцев, принятых на российский флот между 1764 и 1774 гг., были британцами149.
Российские дипломатические представители, прежде всего М. М. Философов в Копенгагене, И. Г. Чернышев и А. С. Мусин-Пушкин в Лондоне, получили указания приложить все усилия к поиску новых морских офицеров. Хотя и не вполне понятны способы, какими они выискивали кандидатов, но можно предположить, что дипломатические представители продолжали, как и Фуллертон, полагаться на посредников и рекомендации, получаемые ими по им одним известным каналам на местах150.
Переписка, сопровождавшая миссию Фуллертона, показывает, что для приглашаемых на российскую службу британских офицеров важно было урегулирование двух основных вопросов: вопроса о значительных денежных пожалованиях в России и вопроса о повышении офицеров в чине. Так продолжалось и позднее.
Поощрения, которые иностранные моряки офицерского ранга могли получить в начале своей службы в России, существенно зависели от их чина на новом месте, но обычно они включали повышение в чине на одну ступень, жалованье и пенсию, равно как и пенсию вдове и детям по смерти офицера, находящегося на службе151. Однако депеши миссии Фуллертона из Лондона показывают, что для офицеров адмиральского ранга эти условия в начале 1760‐х гг. не были привлекательными: помогавший Фуллертону адмирал Гордон предполагал, что британские адмиралы так разбогатели в Семилетнюю войну, что их невозможно было соблазнить на русскую службу никаким жалованьем или пенсией (а те флагманы, что могли согласиться, едва ли были пригодны к службе152). В то же время Гордон советовал российским агентам сосредоточить усилия на приглашении капитанов, так как среди них были талантливые моряки, которые не рассчитывали на продвижение по службе в Британии, но вполне подходили для того, чтобы получить адмиральские чины в России153. Отметим, что таким капитаном был в 1769 г. и Джон Элфинстон, принявший приглашение от российского посла графа И. Г. Чернышева.
Описав подробнейшим образом свое пребывание на российской службе, Элфинстон обошел молчанием детали своего вступления на эту службу. Вероятно, подобное умолчание может свидетельствовать о том, что в поведении обеих сторон, заключавших соглашение (графа И. Г. Чернышева, с одной стороны, и Элфинстона, с другой), было нечто весьма щекотливое. К тому же согласие российской стороны в 1773 г. удовлетворить денежные претензии Элфинстона позволяет предположить, что не только имевшиеся в распоряжении Элфинстона секретные бумаги, которые Россия не хотела предавать гласности, но и сам порядок его приглашения на службу шли вразрез с деликатными «политическими правилами», принятыми в Британии. В России это должны были понимать.
В инструкциях Фуллертону и другим агентам, занимавшимся вербовкой на российскую службу иностранцев, подчеркивался секретный характер их миссии: соблюдение тайны в том, что касалось способов поиска опытных офицеров с хорошей репутацией и желанием служить в России. Благовидным прикрытием для Фуллертона было то, что он родился в Британии, и считалось, что он навещает отечество, а не выполняет инструкции Российского двора154.
В дальнейшем и Элфинстон, описывая в «Повествовании» свои отношения с И. Г. Чернышевым, А. С. Мусиным-Пушкиным, Н. И. Паниным, т. е. теми дипломатами, кто, по сути, обеспечил его переход на российскую службу, ни разу не коснулся подробностей вступления британских офицеров на службу российской императрице. Этим вопросом уже в XIX в. задался его внук. В подготовленной им биографии деда Александер Фрэнсис приводит явно недостоверную информацию о том, что якобы смелый маневр капитана у берегов Голландии поразил российского посла, который «проводил день в гостинице на берегу», и тот «представил императрице России (собиравшейся отправить флот атаковать турок), как желанно было бы иметь столь опытного морского офицера, как капитан Элфинстон, командовать эскадрой, и она на основании этого представления обратилась к британскому правительству позволить капитану Элфинстону вступить на ее службу, получив его взаймы на сезон» (с. 561). Это утверждение Александера вызывает серьезные сомнения, так как российского посла в момент «смелого маневра» Элфинстона в Нидерландах не было, а посол в Лондоне И. Г. Чернышев в депешах в Санкт-Петербург указал лишь на то, что заручился относительно Элфинстона «хорошей рекомендацией»155.
Еще при осуществлении миссии Фуллертона щекотливость ситуации с рекрутированием британских моряков на российскую службу усугублялась тем, что переговоры между Лондоном и Петербургом о согласовании размеров жалованья офицеров в России занимали длительное время; эти переговоры также велись через рижского генерал-губернатора Броуна. Как выясняется, особенно непреклонны были британские «поручики», желавшие вступить на российскую службу в чине капитана первого ранга с окладом 600 рублей годовых в дополнение к «столовым деньгам» и покрытию прочих расходов156. Поскольку во всей корреспонденции между сторонами из осторожности имена потенциальных офицеров российской службы были опущены, остается неясно, кого на этих условиях могли приглашать и чьи претензии были удовлетворены. Примечательно, что статьи соглашения, аналогичные подписанным при вступлении на российскую службу Элфинстона, обсуждались и были согласованы еще при ранних переговорах в 1763–1764 гг.
Изучение социального и материального положения офицеров Королевского флота разных рангов показывает, что материальная заинтересованность становилась важным стимулом для перехода на службу другой державе. Вероятно, материальная сторона могла стать решающей и для Джона Элфинстона. Не похоже, чтобы Элфинстон как капитан (с 1759 г.) Королевского флота во время Семилетней войны приобрел в Англии те богатства, о которых рассказывал Фуллертону адмирал Гордон. Нежелание британских офицеров адмиральского ранга служить в России, о котором он сообщал, лишь подтверждает, что призовые деньги, получаемые от захвата купеческих судов, рассматривались в Британии как весьма прибыльная статья дохода на королевской службе. Не ясным только остается вопрос, просили ли другие британские офицеры включать в их соглашения о переходе на российскую службу пункты о призовых выплатах. Элфинстон попросил, чтобы ему выплачивались призовые деньги по английской формуле, и в его договоре при переходе на российскую службу было указано, что он получит 1/8 всех призов, которые он и его эскадра захватят157. В дальнейшем уже российский контр-адмирал Джон Элфинстон подчеркивал, что призовые деньги серьезно могли способствовать и мотивации команд. Поэтому когда он получил свою эскадру, то ввел в ней именно английскую систему распределения призов (с. 239–240).
По прибытии в Петербург и в морском походе Элфинстону пришлось взаимодействовать с другими британскими моряками, разными путями оказавшимися в России. Прежде всего таковым был шотландец С. К. Грейг, попавший в Россию в 1764 г. во время миссии Фуллертона, но задержавшийся на долгие годы. Он скончался в России в 1788 г. в чине адмирала, и его заслуги были высочайшим образом оценены158. Примечательно, что Элфинстон при первых встречах не скрывал своего расположения к Грейгу, надеясь, что тот станет для него поддержкой в отношениях с командующим Архипелагской экспедицией графом А. Г. Орловым и что их объединяют общие представления о стратегии и тактике морского боя. Но Элфинстон не смог найти в Грейге союзника против Орлова и Спиридова. Надежды на него сменились раздражением, когда Грейг не убедил Орлова в преимуществах плана Элфинстона в Хиосском сражении и при Чесме и когда командор Грейг посмел вмешаться в тактический план контр-адмирала Элфинстона159. Позднее Элфинстон и вовсе обвинил Грейга в предательстве, когда тот не пожелал раскрыть ему – соотечественнику! – хитрый план Орлова по удалению Элфинстона в Россию (правда, не ясно, знал ли сам Грейг об этом плане!). Впрочем, родственника Грейга – Уильяма Роксбурга, также принятого на российскую службу в 1764 г., – Элфинстон лично просил стать капитаном на своем корабле и до самой гибели «Святослава», кажется, был вполне доволен его службой.
В «Повествовании» Элфинстона читатель встретит имена и других британских моряков (шотландцев, ирландцев и англичан), служивших в Архипелагской экспедиции. Их путь на российскую службу различался. Роберт Дагдейл вступил на борт «Св. Евстафия» в 1769 г., когда первая эскадра Спиридова была у берегов Англии, капитаны Престон и Арнолд в 1770 г. были наняты на английские транспортные суда, но когда эти суда пришлось отправить назад в Англию, в 1771 г. они обратились к А. Г. Орлову и вступили на российскую службу. Престон прослужил до 1799 г., когда был уволен со службы в чине контр-адмирала160.
Несколько дюжин английских моряков оказались на российской службе на кораблях, которые были наняты у английских судовладельцев и мастеров в Портсмуте и в Средиземноморье. Капитаны Джеймс Боуди, Джордж Арнолд и Дишингтон привели в Архипелаг из Англии три транспортных корабля экспедиции, которым Элфинстон на время дал названия «Граф Панин», «Граф Орлов» и «Граф Чернышев». Английские моряки упоминаются в «Повествовании» Элфинстона и как члены команды брандера Томаса Макензи161 и других вспомогательных судов. Элфинстон замечает, что около 40 англичан составляли команду пинка «Св. Павел», когда тот шел из Кронштадта к Портсмуту, но затем они сошли на берег и на пинк собрали русскую команду. Позднее в тексте появляется указание на то, что всего в составе экспедиции служили около 40 англичан, которых Элфинстон предлагал отправить в Ливорно или Маон. По представлениям османской стороны, о чем сообщает Элфинстон, эскадра под командованием англичанина Элфинстона состояла преимущественно из английских моряков, что усиливало у турок страх от прибытия «российского» флота. Однако реального числа англичан (моряков, лекарей, лоцманов и др.), как отмечено ниже (с. 418–419), подсчитать пока не представляется возможным.
Многие англичане числились в экспедиции волонтерами, а потому их имена и послужные списки сложнее обнаружить в источниках, так как не все из них получали жалованье и потому их имена не упоминаются в документации о выплатах или о спорах по задержке выплат после отъезда Элфинстона из Архипелага. Несмотря на детальные инструкции Элфинстона о суммах, которые, согласно контрактам, должны были получать британские моряки, их материальное положение в его отсутствие оказалось ненадежным из‐за отказа со стороны адмирала Спиридова эти контракты соблюдать.
По замечаниям Элфинстона, между русскими и английскими моряками и особенно между английскими лоцманами и командирами судов напряженные отношения усугубились после Чесменской победы (с. 478). Русские отказывались исполнять приказы англичан, а те не сдерживались, упрекая в «трусости» и недостатке флотских навыков своих русских соратников. Чтобы свести к минимуму возможные конфликты, Элфинстон даже раздумывал о расторжении заключенных им контрактов с английскими моряками. Таким образом, несмотря на свои заявления о «беспристрастности», Элфинстон оказался надежным покровителем соотечественников, озабоченным судьбами тех из них, кто был в его подчинении. А потому он с удовольствием пересказал замечание турок о том, что «если бы не горстка англичан, русские и не нашли бы пути в Средиземное море, и не смогли бы атаковать османов» (с. 419).
Весной 1771 г. по возвращении в Петербург Элфинстон встретился еще с одним британцем, принятым на Российский флот Екатериной II. Им был Чарльз Ноулс (Ноульс)162. Его прибытие в Россию, организованное главой российской лондонской миссии А. С. Мусиным-Пушкиным, стало реализацией давнего желания императрицы приобрести в Российский флот британского флотоводца, не в России, а еще в Британии получившего адмиральский чин.
Чарльз Ноулс действительно был замечательным приобретением для Российского Адмиралтейства. Прослуживший в Британском королевском флоте с четырнадцатилетнего возраста, он блестяще проявил себя в качестве инженера. Он поднимался по ступеням британской флотской иерархии и даже был назначен губернатором Ямайки (1752–1756). В 1765 г. ему был пожалован титул баронета, он стал контр-адмиралом Королевского флота, и предполагалось, что он вскоре станет преемником лорда-адмирала Эдварда Хока163. Но в 1770 г. Ноулс оставил королевскую службу, чтобы отправиться в Россию и прослужить в ней с 1771 по 1774 г.
В отличие от Элфинстона Ноулс прибыл в Россию как гражданское лицо и занял пост генерал-интенданта. В связи с его приездом в Россию указывалось, что из уважения к нейтралитету Британии в Русско-турецкой войне Ноулсу пришлось покинуть Британский королевский флот и ему было запрещено командовать эскадрой164. В военных действиях Русско-турецкой войны Ноулс в отличие от Элфинстона действительно участия не принимал. В 1772 г. он лишь совершил поездку в Яссы, где должен был содействовать созданию дунайской флотилии для поддержки армии П. А. Румянцева165.
С именем Ноулса в России связаны важные технические достижения. Его планы по обновлению российских верфей, судоремонтной базы и береговых служб, по усовершенствованию конструкции новых кораблей и осуществлению многочисленных исправлений на действующих судах снискали ему славу «второго отца российского флота»166. В числе его наиболее впечатляющих инженерных нововведений были усовершенствования Кронштадтского канала, устройство в нем новых сухих доков и серии затворов167.
Как и Элфинстон, получив щедрое вознаграждение за согласие служить в России, Ноулс, казалось бы, принес серьезную пользу Российской империи, но и он по непроясненным причинам всего через три года потерял расположение Екатерины и в 1774 г. покинул Санкт-Петербург. Его биографы подозревают за этим политическую подоплеку и интриги. Некоторые считают, что против Ноулса сыграли его расследования о денежных расходах на нужды флота, а также самоуверенные предложения относительно реорганизации Адмиралтейства168. Однако в отличие от истории с Элфинстоном, вклад Ноулса никогда не вызывал сомнений ни у современников, ни у потомков, а историки флота лишь расходятся в вопросе о том, какое вознаграждение Ноулс заслужил за его службу во благо российского флота169. Сам Ноулс дополнительного вознаграждения от российского двора не требовал. Впрочем, он умер вскоре после возвращения в Англию.
ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
План Джона Элфинстона по подготовке его эскадры к походу опирался на целый ряд полученных в Британии знаний и навыков. Элфинстон понимал, что его задача заключается в том, чтобы передать русским свои знания о навигации и технике, так как «по небрежению или невежеству», как он часто повторял, в России явно многого недоставало для успешной подготовки и продвижения в походе170. Чтобы совершить длительный морской переход в Восточное Средиземноморье, Элфинстон хотел получить на свои корабли последние технические новинки, появившиеся в Британии после Семилетней войны, а также использовать новейшие достижения в медицине, которые могли сохранить здоровье и жизни его подчиненных. Элфинстон прилежно записывал каждое свое решение, касающееся подготовки к походу, от предложений по исправлению судовых конструкций до текущих вопросов снабжения провизией и такелажем. Все это дает возможность оценить, как он намеревался устранять обнаруженную им «российскую отсталость», опираясь на знакомые ему британские образцы.
Джон Элфинстон и его поколение британских моряков стали важными трансляторами знаний о морском деле, передав свой опыт и умения от флота одной страны флоту другой171. Первая тетрадь «Повествования» Элфинстона посвящена как раз описанию его усилий по подготовке к предстоящему походу. Корабли ремонтировали и загружали преимущественно в Кронштадте на главной базе Балтийского флота, но постоянные проблемы с поставками заставляли командующего нередко отправляться и в столицу. Раз за разом, наблюдая пристани и доки Кронштадта, Элфинстон сокрушался по поводу «разрухи» («shattered condition»), которая царила в доках, на складах и на кораблях; он не скупился на обвинения в том, что многое вовсе «прогнило» и стало непригодным к службе. Элфинстона поражало и то, что первая эскадра Архипелагской экспедиции, которой командовал адмирал Г. А. Спиридов, не оставила на складах Кронштадта даже пеньки для работ конопатчиков и подготовки такелажа, не лучше дело обстояло и с парусиной для шитья новых парусов. Элфинстон вовсе не случайно выказывал удивление таким состоянием дел, зная, что Россия снабжала пенькой и льняным полотном всю Европу, тогда как в главном военном порту Кронштадте перед походом ему пришлось закупать пеньку через английского посредника (с. 125).
В Петербурге и Кронштадте, как, впрочем, и во время похода в Копенгагене и Портсмуте, Элфинстону, рвавшемуся в бой и мечтавшему поскорее выйти в море, приходилось месяцами согласовывать детали починки кораблей своей эскадры, требовать необходимых конструктивных изменений, разгрузки и кренгования судов, укрепления обшивки кораблей и фрегатов.
Опытный капитан Королевского флота, Джон Элфинстон, безусловно, владел навыками кораблестроения: на такие навыки Адмиралтейств-коллегия обращала серьезное внимание, приглашая британских офицеров. Он вполне доказывал свою компетентность и в российском Кронштадте, и в иностранных портах, где обращался к «лучшим» корабельным мастерам, добивался постановки «опасных кораблей» в сухие доки и призывал бригады плотников и конопатчиков для необходимых починок и профилактики. Этот британец настойчиво старался доказать русским, что его опыт сформировался в результате длинных походов, а не, как у русских, «редких летних поездок по Балтике» (так, вероятно, Элфинстон пытался высмеять опыт адмирала Спиридова, ревность к которому не давала ему покоя!).
Из опыта своих длительных походов в Атлантике он знал о важности правильной укладки провизии и балласта и неспроста бранил русских за подобные упущения (с. 128). В отношении своих российских сослуживцев и подчиненных Элфинстон часто в самом буквальном смысле использовал слово «backwardness» (т. е. отсталость, замшелость), когда писал о неготовности в Кронштадте парусов, мачт, корабельных снастей для его эскадры.
Противоположностью Кронштадту представлялся Элфинстону Портсмут. Портсмут казался идеальной гаванью, где исполняются приказы, где любые запасы и материалы быстро доставляются, где корабли исправляют, а также правильно оснащают и нагружают.
Стремление к принятию всех возможных технических усовершенствований стало к концу XVIII в. idée fixe в Британии, а главная и важнейшая из мировых верфей XVIII в. – Портсмут – описывается Элфинстоном именно как пространство технологической эффективности и научного прогресса. Безотносительно к собственным недостаткам, в том числе волоките, задержкам в выполнении текущего ремонта, проблемам в управлении, Портсмут действительно стал в XVIII в. площадкой для экспериментов и технических инноваций, способствовавших появлению новых машин и механизмов для флотских нужд172.
Но пройдет немного времени после описанных Элфинстоном событий, и на главной российской морской базе в Кронштадте тоже будут происходить перемены. Как признано в историографии, этими переменами во многом Россия будет обязана Чарльзу Ноулсу и Самьюэлу Бентаму. Но не стоит, вероятно, игнорировать и вклад Джона Элфинстона, который начал испытывать новшества на кораблях при подготовке похода в Эгейский архипелаг. Представляя своей эскадре новые помпы, деревянные блоки, а также «паровые котлы мистера Ирвинса», Элфинстон, несомненно, желал подчеркнуть свою причастность к новейшим практическим достижениям ученой мысли Запада, и каждое приобретенное им новшество наполняло его гордостью, возвышая над «отсталостью» его врагов и соперников. Саймон Уэррет назвал публичные технические эксперименты, устраивавшиеся в Век Просвещения для демонстрации превосходства новых мировых изобретений, «technical drama», обращая внимание на театрализацию подобных опытов173; в таком театре готов был участвовать и Элфинстон.
В увлечении новшествами он нашел сочувствие у большого любителя разного рода новинок графа Ивана Григорьевича Чернышева, когда попросил того раздобыть в Англии деревянные блоки (wooden rigging blocks) у собственного поставщика оных на Королевский флот Британии (с. 133)174.
С приобретением новых корабельных помп Коула–Бентинка Элфинстону помог лорд Эффингем. После того как старые помпы, установленные на кораблях в Санкт-Петербурге, подвели эскадру при первом шторме, Элфинстон настоял на покупке новых (и наверняка не дешевых) помп, незадолго до того прошедших испытания в Портсмуте. Об этих испытаниях Элфинстону и рассказал лорд Эффингем, удостоверившийся, что новые помпы способны были выкачивать по две тонны воды в минуту при меньшем количестве рук175. Элфинстон «убедился в их полезности и в их высшем качестве» (с. 212) и заказал несколько таких помп для своей эскадры. Демонстрируя пользу новых инструментов при показательных испытаниях все тех же помп, Элфинстон рассчитывал завоевать и уважение графа Алексея Орлова, но на «сухопутного офицера» Орлова они, кажется, не произвели большого впечатления (с. 93).
Джон Элфинстон мог иметь и иные заслуги, например, если бы откликнулись на его предложение установить цепную помпу Бентинка не только на российских кораблях, но и в каналах Санкт-Петербурга и окрестностей. Но этого так и не произошло. Впрочем, через короткое время в Кронштадт и в Российское Адмиралтейство все-таки пришли серьезные перемены. При Чарльзе Ноулсе и Самьюэле Бентаме российский флот и российские верфи порой оказывались в числе первых в мире, принимавших и использовавших новые технологии в корабельном деле, и Кронштадт стал своего рода лабораторией для испытания новых инструментов даже до того, как те получали признание и принимались на регулярной основе в Британском флоте. Однако и опыты Элфинстона с техническими нововведениями на кораблях его эскадры могут вполне служить подтверждением вывода С. Уэррета о том, что российский флот не был «пассивным реципиентом» британских достижений, но скорее щедрым инвестором, предоставлявшим базу для практического применения теоретических знаний176.
ФЛОТСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА
Поход российских эскадр Архипелагской экспедиции в Средиземное море оказался серьезным испытанием не только для кораблей парусного флота России, но и для всех участников трудного и долгого плавания. В Санкт-Петербург с самого начала похода стали поступать сообщения о высокой смертности от болезней на всех судах, а в дальнейшем потери личного состава от болезней значительно превышали потери в боевых действиях177. Е. В. Тарле, ссылаясь на данные Александра Петровича Соколова, пишет, что из 12 200 человек, которые были отправлены в экспедицию, не вернулись 4516 человек, правда не упоминает, сколько из не вернувшихся погибли от болезней178.
Болезни стали серьезным испытанием сразу после выхода эскадры Спиридова, но Элфинстон вначале видел в этом лишь подтверждение слабости русского адмирала в морском деле. Спиридов сообщал из Гулля, что только в его экипаже число больных доходило до 600, а у двухсот из них состояние оценивалось как серьезное179. Когда же с конца 1770 г. эскадры обосновались на Паросе, на госпитальных кораблях и в госпитале, основанном на морской базе в Аузе, часто лечились по несколько сотен человек180.
Элфинстон неоднократно останавливается в «Повествовании» на усилиях, потраченных им ради сохранения в строю подчиненных. Снаряжая эскадру в Кронштадте и в Портсмуте, он договаривался об особой провизии и припасах, которые смогли бы помочь раненым и заболевшим, предлагал переделывать транспортные и прочие непригодные для иного суда в госпитальные, хлопотал, чтобы на госпитальном судне разместились лекарь, шестеро подлекарей и даже десять сиделок (c. 122). Он настаивал на соблюдении чистоты на кораблях, так как зловоние и нечистоты в его время уже прочно ассоциировались с распространением болезней. В других случаях он отмечал важность окуривания и беспокоился об уничтожении одежды, с которой могли переносить паразитов и заразу.
Свои текущие заботы о распределении ограниченных ресурсов (прежде всего воды, но также и продовольствия) и о пополнении запасов Элфинстон часто объяснял беспокойством именно о здоровье личного состава. Хотя контр-адмирал мог и преувеличивать свои заслуги в спасении раненых и больных, дабы в наилучшем свете представить свою службу российской императрице, его «Повествование» становится важным источником для сравнения европейских и российских стратегий по сбережению жизней моряков в середине – второй половине XVIII в.
В Европе главным бичом корабельных команд в длительных походах в XVIII в. признавалась цинга. В 1740‐х гг. Британию поразили известия, что в кругосветном путешествии Джорджа Ансона именно цинга стала причиной гибели половины экипажа181.
В XVII–XVIII вв. словом «scurvy» (скорбутка, цинготная болезнь) обозначали ряд заболеваний и лихорадочных состояний, которые даже медики слабо различали и лечили почти одинаково: вентиляцией помещений, окуриванием и «свежими», а не солеными или копчеными продуктами182.
В середине XVIII в. общие представления о влиянии воздуха и климата на здоровье моряков сложились в теорию о «климатической патологии», согласно которой такие болезни, как цинга, происходили от дурного воздуха и климатические условия могли усугублять положение. Холодный и влажный морской воздух, как предполагали, способствовал приступам цинги подобно тому, как в теплом климате поджидали опасные тропические болезни; современники Элфинстона предполагали, что на гниение плоти влияет и влажность воздуха. Именно как гниение и описывалась цинга из‐за возникавших во время болезни открытых язв и мышечных повреждений. Также было распространено мнение, что на большую смертность от цинги простых матросов, а не офицеров влиял спертый воздух нижних деков, в которых нижние чины и содержались183.
Хотя пища долгое время и не считалась единственной и даже основной причиной цинги, тем не менее многие современники Элфинстона настаивали, что здоровый рацион, включающий свежие продукты, важен для предотвращения болезни. Историк военно-морской медицины Эрика Чартерс показывает, что даже терминология, использовавшаяся при закупках продовольствия на корабли, отражала веру в лечебные свойства некоторых продуктов. Используемое часто и Элфинстоном понятие «refreshments» (мы его переводили именно как «свежие продукты») свидетельствует о признании необходимости для заболевших цингой свежих воздуха, воды и провизии; считалось, что благодаря этим «refreshments» можно не только вылечить больных, но и предотвратить распространение болезни184.
Появление цинги в XVIII в. нередко связывали и с преимущественным потреблением в долгих походах солонины и пресного хлеба. Не случайно и Элфинстон возмущался, что его моряков при подготовке к экспедиции на берегу кормили «старыми солеными припасами», что «из‐за необходимости вымачивать соленое мясо некоторые заболели цингой, и каждый день по 8–10 человек с каждого корабля нужно было отправлять в госпиталь» (c. 148). В конце концов Элфинстон сумел распорядиться «относительно недопустимости выдачи соленой провизии людям, которые вскоре ничего иного и получать не будут» (c. 148).
Хотя отказаться от солонины и хлеба во флотах разных держав еще долгое время не решались, однако попытки изменить или дополнить рацион питания моряков в XVIII в. были известны. В Британии Джеймс Линд проводил свои эксперименты с апельсинами и лимонами185, а его современник Дэвид Макбрайд предлагал в качестве противоцинготного средства солодовое сусло186. Последнее испытывалось в числе прочих и во время первого путешествия капитана Джеймса Кука в Тихом океане. Макбрайд пришел к заключению, что раз сквашивание предотвращает гниение продуктов, оно может предотвратить и «гниение человеческого тела» при цинге, а потому настаивал на важности употребления в пищу продуктов брожения (к примеру, квашеной капусты).
В период Семилетней войны Комиссия по лечению раненых и больных Королевского флота Британии проводила и собственные медицинские опыты, чтобы проверить, какие продукты, потребляемые в плавании, помогали предотвратить цингу187, а какие усугубляли состояние больных.
Как отметила Маргарет Линкольн, казалось, что забота о здоровье моряков притягивала все большее внимание читающей публики в Британии, во всяком случае, так исследовательница объясняет появление значительного числа журнальных и газетных статей на медицинские темы188.
Таким образом, не только в мореплавании, но и в профилактике болезней Элфинстон, готовя свою эскадру к долгой экспедиции, мог опереться на значительный опыт европейских морских держав. Впрочем, доверял он и старым «проверенным средствам», которые в его время медицинским сообществом Лондона могли считаться шарлатанскими, но зато в народе и в популярной литературе долго и после Элфинстона эти средства считали весьма действенными, причем помогавшими от разных недомоганий189. Так, в список необходимых для его эскадры аптекарских препаратов попали порошок от лихорадки доктора Джеймса и некий препарат, названный sago. Элфинстон был так озабочен приобретением этих порошков, особенно порошка от лихорадки, а также хинина («Jesuit’s bark»), что специально совершил путешествие из Портсмута в Лондон, закупив препараты в Аптекарском ведомстве (Apothecary Hall), пока его корабли стояли в гавани на ремонте.
Не чужд был Элфинстон и предубеждений относительно физических особенностей русских, уверяя, что русские наследственно предрасположены к болезням и к заражению паразитами. В двух разных частях своего «Повествования» он пишет о том, что русские с рождения имеют под кожей вшей, так что почти невозможно, находясь среди них, не подцепить этих паразитов (c. 472–473). Впрочем, в этом контр-адмирал был не одинок: многие посещавшие в это время Россию писали, как и он, о том, что русская баня была главным средством спасения от этой напасти.
Однако высокая смертность на кораблях двух русских эскадр во время перехода в 1769 г. из Кронштадта к берегам Англии заставила Элфинстона всерьез задуматься о причинах таких высоких потерь, и он смог найти лишь одно объяснение – пренебрежение правилами соблюдения чистоты. Он не мог не указать, что на фрегате с английской командой в том же походе потерь от болезней удалось практически избежать. Может показаться, что настойчивое повторение Элфинстоном призывов к чистоте могло научить ценить чистоту и капитана С. П. Хметевского, прошедшего с Элфинстоном весь путь до Эгейского моря. И вот уже Хметевский в своих воспоминаниях об экспедиции посвящает пространные рассуждения порядку и чистоте на его корабле, чему якобы немало удивились даже французы: «24 число [1772] апреля пришел в порт Аузу военной французкой фрегат <…> Был капитан со всеми своими афицерами на корабле у меня и не могли довольно чистоте в карабле и хорошей оснаске надивиться так, что капитан, вошедши в канстапельскую, во удивлении чистоты и убранству ружей перекрестился. Напротив того, я своими афицерами делал как капитану, так и афицерам французким визит. Нашол фрегат в великой нечистоте и в дурной оснастке»190.
Однако едва ли правилами гигиены и созданием на флоте медицинских служб в России были обязаны урокам британских моряков. Соблюдение чистоты было частью наставлений флоту еще со времен Петра I, а лечебные травы и госпитальные суда были обычными средствами борьбы с эпидемиями и потерями на российском флоте. Историки военно-морской медицины в России отмечают быстрое увеличение, начиная с петровских регламентов, числа распоряжений относительно военной и флотской медицинской службы вплоть до специального Генерального регламента о госпиталях (1735), в котором давались строгие предписания соблюдать чистоту и оговаривалось присутствие на судах медицинского персонала. Историки приводят доказательства в пользу того, что в противоположность Британии и Франции, где военно-морские медицинские учреждения конфликтовали с медицинскими организациями практикующих гражданских врачей, в России XVIII в. медицинские службы флота были лучше организованы, хотя и испытывали хронический недостаток персонала191. К тому же в России не противопоставляли Галенову и практическую медицину и разные средства вполне готовы были сочетать192. Так, в статьях Генерального регламента о госпиталях существовало предписание строить госпитали на плодородных землях, чтобы при них находились собственные аптекарские огороды193.
Российское Адмиралтейство имело собственных лекарей, которые назначали лечение и вели исследования, как и их известные английские коллеги, а в своей практике учитывали медицинские знания, накопленные в Западной Европе. Главный медик российского флота Андрей Гаврилович Бахерахт (1726–1806) разработал рекомендации, похожие на те, что выпустил Элфинстон. Они вошли в классический труд Бахерахта «Способ к сохранению здравия морских служителей и особливо в российском флоте находящихся», изданный типографией Морского кадетского корпуса в 1780 г., через девять лет после отставки Элфинстона. В 1783 г. Бахерахт добился, чтобы его рекомендации относительно использования лекарственных средств и трав для лечения болезней во время длительного плавания были приняты государственной Медицинской коллегией194.
Но Элфинстон пока не знал об этом, зато его пиетет перед британской флотской медициной, казалось, был беспредельным. После того как он поместил значительное число заболевших членов своей эскадры в Королевский госпиталь в Хаслере, он написал: «Лекари и хирурги Королевского госпиталя в Хаслере имели немало волнений и выказали величайшую заботливость и человеколюбие к больным, которые уже [поправились], перевезены на корабли и все чувствуют себя хорошо. Поэтому я счел своим долгом ради чести России выказать им знаки благодарности и одобрения и, написав им письмо с выражениями признательности, приложил к письму банкноту в 100 фунтов для докторов и главных офицеров королевского госпиталя» (c. 244). Впрочем, госпиталь в Хаслере по достоинству оценил и капитан Хметевский, также описывавший его в самых уважительных тонах195.
ДИСЦИПЛИНА И НАКАЗАНИЕ
Носитель британских флотских традиций, выросший в семье моряка и рано сам отправившийся на флотскую службу, Джон Элфинстон столкнулся в России с иными правилами поведения офицеров и нижних чинов и яростно взялся за дисциплинирование команд по британскому образцу. Уверенный в превосходстве своего опыта и знаний, он приходил в замешательство и досадовал на то, что его приказы могли вовсе не исполняться или исполнялись из рук вон плохо. Он пытался объяснять такое положение русской ленью или чаще – небрежностью и невежественностью своих подчиненных. Еще в Кронштадте во время подготовки эскадры к походу он впервые столкнулся с вопиющей «медлительностью офицеров в исполнении их обязанностей» (c. 127); вначале он посчитал эту медлительность проявлением лености его российской команды, но затем счел, что офицеры таким образом хотели избежать выхода в море в необычно позднее осеннее время. Элфинстона возмущало, что во время его отлучек из Кронштадта работы почти прекращались, погрузка велась медленно, не спешили готовить мачты, укладывать такелаж и шить паруса. В эти решающие месяцы перед походом Элфинстон вынужден был обращаться за поддержкой к самой императрице, и лишь ее личное вмешательство переломило положение дел и оживило работы в Кронштадте. Однако после выхода в море у Элфинстона за спиной уже не было тех, кто должен был внушать страх его капитанам и командам, а конфликты командующего с подчиненными лишь усугубились.
Элфинстон, безусловно, осознавал, что на отношения между ним и его русскими подчиненными влияли непонимание языка, чуждость религиозных традиций и поведенческих норм. Но он приписывал это лишь предвзятому отношению русских к иноземцам, из‐за которого, по его мнению, «иностранцу невозможно добиться успеха на российской службе» (с. 234).
При этом Элфинстон обнаружил и то, что различные группы матросов и офицеров по-разному реагировали на его стиль командования. «Простые» люди, как он заявлял, «любили его», тогда как его отношения с офицерами оставались натянутыми. Частично он объяснял эту напряженность поступками своего секретаря Джонсона Ньюмана, допускавшего в своих переводах от имени Элфинстона оскорбительные для русских офицеров формулировки.
Русские моряки, вероятно, действительно не всегда понимали, чего Элфинстон хотел от них, хотя он выпускал подробнейшие приказы с разъяснением своих требований. Он желал пунктуальности и послушания, угрожая суровыми наказаниями для офицеров и матросов (а в его понимании только угрозы могли заставить его офицеров подчиниться). Более всего Элфинстона раздражало, что в ответ на его, как он полагал, «справедливые» требования опытного командира, выучившегося на лучшем в мире Британском флоте, непокорные русские вчитывались в статьи устаревшего Морского устава Петра Великого и спорили по мелочам, указывая, в чем его распоряжения противоречили этому Уставу.
Между тем статей о подчинении приказам командира в Уставе было предостаточно. С самых первых вариантов документы русского морского права, предшественники Морского устава 1720 г., были нацелены на утверждение дисциплины и регламентации поведения моряков.
В конце концов все жалобы и недовольства в связи с невыполнением его приказов Элфинстон излил на капитана-командора Ивана Яковлевича Барша. Барш должен был отправиться в поход с Первой эскадрой адмирала Спиридова, но из‐за «валкости корабля „Святослав“» в августе 1769 г. вернулся в Ревель, где его корабль был поставлен на ремонт; Барш на «Святославе» догнал не Спиридова, а Элфинстона уже в Копенгагене. В течение семи месяцев похода вокруг Европы Элфинстон неоднократно обвинял Барша в «небрежениях». А после того как Барш не выполнил сигналов Элфинстона о погоне за турецким флотом от Наполи ди Романия, Элфинстон пошел на экстраординарный шаг, понизив командора Барша до лейтенантского чина, надеясь, что это послужит острасткой для прочих офицеров.
Но Элфинстон просчитался: разжалование командора, сына вице-адмирала, имевшего высоких покровителей196, принесло ему лишь неприятности. За Барша после Чесменской победы заступился генерал князь Ю. В. Долгоруков, Баршу вернули его корабль и командование всего через месяц после понижения, в дальнейшем уже по возвращении в Петербург единоличное решение Элфинстона наказать офицера было расценено как противоречащее российским законам, так как командующему в этом случае полагалось представлять дело на решение военного суда. Так что в Санкт-Петербурге Элфинстона заставили ответить за его «тиранию», и он смог привести немного объяснений в пользу своих «права или власти» действовать без созыва военного суда.
В связи с делом о понижении командора Барша вопреки Уставу вновь приводя доводы о своей величайшей преданности службе, Элфинстон летом 1771 г. писал графу И. Г. Чернышеву: «Вы не будете удивлены, что я был довольно занят непосредственными и срочными интересами Екатерины II, а не Морским уставом Петра I, и я выбирал без колебаний то, что требовалось ради интересов службы Ее императорскому величеству».
Однако императрица, кажется, вовсе не была склонна во имя своих «интересов» в тот момент принижать Морской устав и в целом заслуги создателя российского флота: не случайно именно Петра Великого в 1770 г. объявили главным вдохновителем Чесменской победы197.
НАГРАДЫ И ПРИЗЫ, ИЛИ ОСТАЛАСЬ ЛИ РОССИЯ ДОЛЖНА ДЖОНУ ЭЛФИНСТОНУ?
Джон Элфинстон не был излишне сосредоточен на утверждении дисциплины только через наказания: он готов был разрабатывать и систему индивидуальных поощрений за хорошую службу. Дабы поддержать «субординацию и хорошее поведение» моряков, контр-адмирал предложил новые возможности для продвижения по службе во время похода. Поручив составить список способных моряков, в котором только служебные заслуги принимались во внимание, он во всеуслышание объявил о своем намерении продвигать поименованных в списке на открывающиеся вакансии.
Важным стимулом для своих подчиненных, как и лично для себя, Элфинстон считал призовые выплаты, которым в Британском флоте придавали большое значение. Элфинстон с гордостью писал о том, что распространил на всех членов своей эскадры выплаты за взятые «призы», что порядок и размеры выплат были громко зачитаны и объявлены всем членам корабельных команд198 еще в Портсмуте, и нужно отдать должное контр-адмиралу: предложенное им распределение денежных наград было для моряков значительно выгоднее того, что было прописано в русских регламентах.
Впрочем, на российских морских офицеров повлияли не только оговоренные Элфинстоном размеры выплат, но и правила, согласно которым захваченные или уничтоженные суда можно было рассматривать в качестве призов. Эти предложения нашли отражение и в тех инструкциях, что Элфинстон получил от Екатерины II (c. 164–165).
Для самого Элфинстона вопрос о вознаграждении, особенно о призовых деньгах, стал, пожалуй, не только темой длительной переписки с Адмиралтейством, Коллегией иностранных дел и лично с И. Г. Чернышевым. Этот вопрос стал важной побудительной причиной для создания его «Повествования».
После получения отставки и удаления из России Элфинстон особенно жаждал получить обещанные награды. Последняя часть его «Повествования» отражает беспокойство и окончательное разочарование суммой немногим более 10 тысяч рублей, которую он получил от российского правительства за подвиги в Архипелаге. Добавило ему обиды и то, что все пожалованные суммы были опубликованы в London Gazette для всеобщего обозрения, и это стало новым ударом по его самолюбию, так как он считал, что его подвиги преуменьшены, а его репутацию и прежде порочили публикации в европейской прессе199.
В своих заметках Элфинстон жаловался, что расчеты пожалований, произведенные в Адмиралтействе в России, были «актом величайшей несправедливости» – особенно потому, что именно брандер с командой от его эскадры зажег турецкий флот при Чесме (а именно за Чесменское сражение все прочие командующие были осыпаны монаршими милостями).
Элфинстон закончил свое «Повествование» на этой ноте обиды на несправедливости в распределении наград и призовых денег. Свои призовые деньги он рассчитывал получить как командующий, что, как он настаивал, было даже «одобрено Ее императорским величеством» [в начале 1770 г.], когда эскадра еще стояла в Портсмуте. Невыплаченные призовые деньги позднее дали основание для требований и внука Джона Элфинстона, Александера Фрэнсиса, к российским императорам в 1820–1830‐х гг.
Согласно одним подсчетам, Элфинстону причитались призовые деньги и пенсия, всего около 40 000 рублей200. В своих прошениях Александер Фрэнсис называл сумму в £150 000201. Оба этих расчета исходили из положения о разделе наград за военные акции – захват, сожжение или причинение ущерба неприятельским кораблям, что было оговорено в Морском уставе 1720 г. (книга IV, глава 5). Остается только неясным, понимались ли в России XVIII в. эти военные акции как часть призового права, т. е. так, как их понимал Джон Элфинстон. До того как узаконения 1806 г. определили, что призом должны считаться как военные, так и торговые суда, взятые во время войны, в России, как показывают исследования, призами считались только торговые202. А поскольку не сохранилось точных сведений, какие торговые суда были захвачены эскадрой Элфинстона, российское Адмиралтейство в XVIII–XIX вв. на требования о дополнительных выплатах отставленному контр-адмиралу постоянно отвечало отказом.
Но разочарования постигали не только Элфинстона и его наследников. Непростым был опыт службы в Российской империи и других британцев. Однако когда по инициативе А. Г. Орлова Джона Элфинстона отозвали из Архипелага в Россию и британский посол лорд Каткарт сообщал, что контр-адмиралу был причинен великий ущерб («a great disservice had been done»), когда сам Элфинстон уверял, что «англичане разочаровались в российской службе» и стали покидать российский флот, оказалось, что его опыт мало кого отвратил от попыток сделать в России карьеру. Элфинстон не был первым, но отнюдь не был и последним иностранцем, чей опыт в России использовался, хотя далеко не у всех, как и у него, русская карьера была успешной.
Однако читатель «Повествования» Джона Элфинстона едва ли откажет контр-адмиралу Екатерины II в том, что его рассуждения о «русской верности и чести» содержат немало новых аргументов для тех, кто готов к взвешенной оценке западноевропейского влияния на военные успехи и просчеты Екатерины II.
Ю. Лейкин
128
В англоязычной историографии долгое время роль западных специалистов в превращении России в морскую державу признавалась решающей. Это, вероятно, замедлило изучение как допетровских традиций российского мореплавания, так и представлений самого Петра о потребностях морской державы. Подробнее литературу об иностранцах на русской службе см.: Меркулов И. В. Российский морской офицерский корпус в царствование Екатерины II: социальные аспекты комплектования командного состава флота: Дис. … канд. ист. наук. СПб., 2005. С. 51–105.
129
Хотя и не исчерпывающее, но, безусловно, превосходное исследование биографий ключевых фигур британцев, служивших в России, принадлежит Энтони Кроссу: Кросс Э. Британцы в Петербурге: XVIII век / авториз. пер. с англ. Юрия и Надежды Беспятых. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. С. 176–241. О шотландцах см.: Fedosov D. Under the Saltire: Scots and the Russian Navy, 1690s–1910s // Scotland and the Slavs: Cultures in Contact 1500–2000 / ed. M. Cornwall & M. Frame. Newtonville, MA., 2001. P. 21–53. См. также: Лабутина Т. Л. Британцы в России в XVIII веке. СПб.: Алетейя, 2013. О вкладе голландцев см.: Cracraft J. The Petrine Revolution in Russian Culture. Cambridge, MA: Belknap, 2004. P. 40–96; Кротов П. А. Голландцы и фламандцы в российском флоте в петровскую эпоху // Голландцы и бельгийцы в России, XVIII–ХХ вв. = Noord- en Zuid-Nederlanders in Rusland / Нидерланд.-Рос. арх. центр (НРАЦ) – Гронинген; под ред. Эммануэля Вагеманса, Ханса ван Конингсбрюгге; пер. с нидерланд. Д. Сильвестрова. СПб.: Алетейя, 2004. С. 290–302.
130
Термин «nautical turn» заимствован нами у Дж. Кракрафта (Cracraft James. The Petrine Revolution in Russian Culture).
131
Ryan W. F. Navigation and the Modernisation of Petrine Russia: Teachers, Textbooks, Terminology // Russia in the Age of the Enlightenment / ed. Roger Bartlett and Janet Hartley. Basingstoke: Macmillan, 1990. P. 75–105; Hans N. The Moscow School of Mathematics and Navigation (1701) // The Slavonic and East European Review. 1951. Vol. 29, no. 73 (June 1951). P. 532–536.
132
Веселаго Ф. Ф. Очерк истории Морского кадетского корпуса с приложением списка воспитанников за 100 лет. СПб.: тип. Мор. кадет. корпуса, 1852. С. 121.
133
Меркулов И. В. Российский морской офицерский корпус в царствование Екатерины II. С. 58–59.
134
Werrett S. «Perfectly Correct»: Russian Navigators and the Royal Navy // Navigational Enterprises in Europe and Its Empires, 1730–1850. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015. P. 111–133.
135
Об этом, например, новейшее исследование: Romaniello M. P. Enterprising Empires: Russia and Britain in Eighteenth-Century Eurasia. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
136
Cross A. In the Lands of the Romanovs: An Annotated Bibliography of First-Hand English Language Accounts of the Russian Empire (1613–1917). Cambridge: Open Book Publishers, 2014.
137
Кротов П. А. Голландцы и фламандцы в российском флоте в петровскую эпоху. С. 297–298.
138
Несмотря на большое внимание зарубежных исследователей к иностранным и особенно британским офицерам на российской службе, их численность не стоит преувеличивать. Так, по подсчетам И. В. Меркулова, англичане в 1772 г. составляли не более 5% линейных офицеров флота. Меркулов И. В. Российский морской офицерский корпус в царствование Екатерины II. С. 274.
139
Там же. С. 59–62.
140
О мотивации и последствиях приглашения иностранных колонистов в Россию в 1763 г. см.: Bartlett R. Human Capital: The Settlement of Foreigners in Russia, 1762–1804. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. Возможно, после издания циркуляра 1763 г. армейские офицеры заинтересовались, относится ли и к ним это приглашение. Однако И. В. Меркулов замечает, что в отличие от офицеров флота армейским офицерам было отказано в праве обосноваться в России на основании Указа 1763 г. как иностранным специалистам (Меркулов И. В. Указ. соч. С. 62).
141
Инструкции миссии Фуллертона изд.: Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. Рига, 1883. Т. 4. С. 321–332. О карьере Фуллертона см.: Генералы и штаб-офицеры русской регулярной армии 1729–1796 гг. М., 2019. Т. II. С. 2167. Благодарю Д. А. Сдвижкова за данные о Фуллертоне.
142
Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. С. 325. К 1763 г. Уильям Гордон был главнокомандующим Нора (Nore) – административной единицы, в ведении которой находились устье Темзы и река Медуэй (Thames Estuary and the River Medway). Таким образом, Гордон был командующим ряда подразделений на востоке Англии, включая Четем, Лондон, Ширнесс, Харидж и Хамбер (Chatham, London, Sheerness, Harwich and Humber). См.: Schomberg I. Naval Chronology, Or an Historical Summary of Naval and Maritime Events From the Time of the Romans, to the Treaty of Peace 1802. London, 1802. Vol. 5. P. 238. Отметим, что это не тот самый У. Гордон, который также в связи с миссией Фуллертона в 1764 г. вступил в российский флот, а в 1768 г. скончался. О нем см.: ОМС. Ч. 3. С. 421.
143
Рескрипт А. Р. Воронцову см.: СИРИО. М.: Унив. тип., 1885. Т. 48. С. 565; Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. С. 327.
144
Биографию Броуна см.: Сдвижков Д. А. Письма с Прусской войны. Люди Российско-императорской армии в 1758 году. М.: Новое литературное обозрение, 2019. С. 575–577; Henderson T. F. Browne, George, Count de (1698–1792) // Dictionary of National Biography, 1885–1900. London: Elder Smith & Co., 1886. Vol. 7. P. 45.
145
Инструкции Фуллертону (Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. С. 326, 330–332).
146
Меркулов И. В. Российский морской офицерский корпус в царствование Екатерины II. С. 64. См. также: Cross A. G. Samuel Greig, Catherine the Great’s Scottish Admiral // Mariner’s Mirror. 1974. Vol. 60. No. 3. P. 252. Меркулов и Кросс называют имена Грейга, Роксбурга, Гордона, Клеланда и Дугласа как офицеров, рекрутированных в результате миссии Фуллертона, однако в опубликованной переписке Фуллертона и Броуна встречается только имя Дугласа.
147
Инструкции Фуллертону (Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. С. 321, 324). Один из биографов отмечает, что Чарльз Дуглас привел в Россию Самуила Грейга, однако Дуглас, видимо, посчитал возмутительным и грозящим обвинением в измене предположение, что он мог бы рекрутировать британских работников для помощи в строительстве российских кораблей: Valin Ch. Fortune’s Favorite: Sir Charles Douglas and the Breaking of the Line. Tucson, AZ: Fireship Press, 2009. P. 17.
148
Екатерина II – Ю. Ю. Броуну (Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. С. 321).
149
Меркулов И. В. Российский морской офицерский корпус в царствование Екатерины II. С. 68. Э. Кросс ранее называл цифру 55 (Кросс Э. Британцы в Петербурге: XVIII век. С. 202). Многие из этих рекрутированных прибыли в Россию во время Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. Бенджамин Тисдэйл вспоминал, что принимал присягу 7 июля 1771 г. вместе с 11 другими лейтенантами российского флота: [Тиздель Б.] Записки командира корабля Мария Магдалина капитана Тизделя 1771–1793 / изд. с сокращ. Р. Севериков // Морской сборник. 1863. № 10. С. 1–116.
150
Меркулов И. В. Российский морской офицерский корпус в царствование Екатерины II. С. 67–68.
151
Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. С. 321.
152
«…они в прошедшую войну нажились и теперь имеют великое и неумеренное богатство, а хотя некоторые флагманы и есть, кои бы сюда ехать желали, но в службе вашего императорскаго величества не полезны быть могут» (Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. С. 326).
153
Там же.
154
Там же. С. 322, 324, 330.
155
АВПРИ. Ф. Сношения с Англией. Оп. 35/6. Д. 217. Реляции И. Г. Чернышева императрице Екатерине II. Л. 91; Д. 220. Депеши И. Г. Чернышева Н. И. Панину. Л. 23.
156
Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. С. 338–339. В переписке указывалось, что капитанам полагалось жалованье 800 рублей в год и на российской службе ранг капитан-командора; нижним офицерам, которые желали быть поручиками, было положено жалованье 180 рублей в год. Также все желали получать жалованье с момента их принятия на российский флот и требовали, чтобы их перемещение от места жительства до Петербурга производилось за счет российской казны (Там же. С. 339–340).
157
Rodger N. A. M. Honour and duty at sea, 1660–1815 // Historical Research. 2002. Vol. 75. Issue 190. P. 438–439. Об английской формуле расчета призовых денег см.: Kemp P. Prize Money: A survey of the history and distribution of the naval prize fund. Aldershot: Wellington Press, 1946. P. 16–17.
158
Cross A. Samuel Greig, Catherine the Great’s Scottish Admiral // Mariner’s Mirror. 1974. Vol. 60. No. 3. P. 251–265.
159
Это также отметил даже позже приехавший в Россию Джеймс Тревенен, современник Грейга. В 1780‐е гг. в своем дневнике он писал: «Admiral Elphinston first taught the Russians to fight at sea, but disagreeing with Spiridov, so that they thwarted each other in all their notions, Count Orlov perceived that it was absolutely necessary to take the command of the fleet upon himself, which he did, and then depended totally upon the counsels of Greig, who was Captain of his ship. This is a known fact to all that were there and nobody disputes it, so that whatever naval transactions passed in that war belong to Greig». Цит. по: Cross A. Samuel Greig, Catherine the Great’s Scottish Admiral. P. 254–255.
160
ОМС. Ч. 4. С. 613–614.
161
Показательно, как Элфинстон выбирал перед Чесменским боем на брандер командира, которому предстояло поджечь османский флот. Элфинстон уверяет, что старался не выказать соотечественнику Макензи предпочтения, предлагая опасное, но славное предприятие старшим офицерам-русским, и он не скрывал ликования, когда после отказа старших офицеров за дело взялся Макензи, который, по свидетельству Элфинстона, и зажег первым турецкий флот. Элфинстон знал, что Томас Макензи родился в России, но происходил из семьи шотландского якобита, прибывшего в Россию в 1736 г. командиром корабля и дослужившегося до адмиральского звания. Судя по всему, в глазах Элфинстона Томас Макензи оставался прежде всего британцем.
162
Кросс Э. Британцы в Петербурге: XVIII век. С. 210. Источники расходятся относительно даты рождения Ноулса, но очевидно, что он появился на свет в первые годы XVIII в.
163
Подробности биографии см.: Naval Chronicle. [London], 1799. Vol. 1. P. 89–123.
164
Naval Chronicle. 1800. Vol. 2. P. 265–266, 269; Admiral Knowles’s first Memorial to Her Imperial Majety after his arrival at Petersburg (National Maritime Museum, LBK/ 80. Fol. 1–2); Кросс Э. Британцы в Петербурге: XVIII век. С. 210.
165
Naval Chronicle. 1800. Vol. 2. P. 275–280.
166
Naval Chronicle. 1800. Vol. 2. P. 271; см. также: Соколов А. Адмирал Ноульс // Морской сборник. 1849. Вып. 2. № 8. С. 509–527.
167
Clendenning Ph.H. Admiral Sir Charles Knowles and Russia, 1771–1774 // Mariner’s Mirror. 1975. Vol. 61. No. 1. P. 45–46; Соколов А. Адмирал Ноульс. С. 517.
168
Naval Chronicle. 1800. Vol. 2. P. 280–281; Clendenning Ph. H. Admiral Sir Charles Knowles and Russia, 1771–1774. P. 47.
169
См.: Соколов А. Адмирал Ноульс. С. 513–514.
170
«Небрежение или невежество» («carelessness or ignorance») – часто повторяемые Элфинстоном обвинения в адрес российских моряков.
171
Техническая компетентность в практиках Императорского российского флота представляют существенный интерес для исследователей. См., например: Werrett S. Technology on Display: Instruments and Identities on Russian Voyages of Exploration // Russian Review. 2011. Vol. 70. No. 3. P. 380–396; Ryan W. F. Navigation and the Modernisation of Petrine Russia: Teachers, Textbooks, Terminology // Russia in the Age of Enlightenment: Essays in Honour of Isabel de Madariaga / ed. Roger Bartlett and Janet M. Hartley. Basingstoke: MacMillan Press, 1990. P. 75–105; Idem. Peter the Great and English Maritime Technology // Peter the Great and the West: New Perspectives / ed. Lindsey Hughes. Basingstoke: Palgrave, 2001. P. 130–158; Morriss R. Science, Utility and Maritime Power: Samuel Bentham in Russia, 1779–91. Burlington, VT: Ashgate, 2015; Забаринский П. П. Первые «огневые» машины в Кронштадтском порту (к истории введения паровых двигателей в России). М.; Л.: Издательство Академии наук СССР, 1936; Robinson E. The Transference of British Technology to Russia, 1760–1820: A Preliminary Enquiry // Great Britain and Her World, 1750–1819: Essays in Honor of W. J. Henderson. Manchester: Manchester University Press, 1975. P. 1–26.
172
Clark G. Naval Blockmaking in the Eighteenth and Nineteenth Centuries // Mariner’s Mirror. 1976. Vol. 62. No. 2. P. 137–144; Haas J. M. The Royal Dockyards: The Earliest Visitations and Reform 1749–1778 // The Historical Journal. 1970. Vol. 13. No. 2. P. 191–215; Idem. A Management Odyssey: The Royal Dockyards, 1714–1914. Lanham, MD: University Press of America, 1994.
173
Werrett S. Technology on Display: Instruments and Identities on Russian Voyages of Exploration. P. 381.
174
Об Уолтере Тейлоре и его блоках см.: Dickinson H. W. The Taylors of Southampton: Their Ships’ Blocks, Circular Saw and Ships’ Pumps // Transactions of the Newcomen Society. 1958. Vol. XXIX. P. 169–178.
175
Кажется, имеются в виду цепные помпы Коула–Бентинка, представленные в 1768 г. Элфинстон, вероятно, ошибается относительно испытаний помпы, которая, согласно отчетам, позволяла прокачивать одну тонну воды в 43,5 секунды при работе 4 человек, тогда как старая модель требовала на это вдвое больше времени. Помпа была принята на все военные корабли британского флота в 1770 г., и после того как ее конструкция была еще улучшена, эта помпа стала обязательной на всех кораблях и использовалась до середины XIX в. (Oertling Th.J. Ship’s Bilge Pumps: A History of Their Development, 1500–1900. College Station: Texas A&M University Press, 1996. P. 56–61).
176
Werrett S. «Perfectly Correct»: Russian Navigators and the Royal Navy. P. 111–133. См. также о Бентаме и Ноульсе: Morriss R. Science, Utility and Maritime Power: Samuel Bentham in Russia, 1779–91; Clendenning Ph.H. Admiral Sir Charles Knowles and Russia, 1771–1774. P. 39–49.
177
Смилянская Е. Б. Греческие острова Екатерины II. С. 210–214.
178
Тарле Е. В. Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архипелаг 1769–1774 // Сочинения: В 12 т. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1959. Т. 10. С. 89.
179
Гребенщикова Г. А. Балтийский флот в период правления Екатерины II. С. 220.
180
Россия в Средиземноморье. С. 194; Смилянская Е. Б. Греческие острова Екатерины II. C. 213.
181
Хотя он был менее известен, чем Кук, Джордж Ансон был одним из мореплавателей-исследователей, который помог расширить знания о Тихом океане. Его цель состояла в выяснении новых торговых возможностей в Южном полушарии, а также в нападении на испанские владения. Из шести кораблей, команды которых составляли в общей сложности 1955 человек, вернулись всего лишь один корабль и 145 человек. О путешествии Ансона см.: Williams G. The Prize of All the Oceans: the triumph and tragedy of Anson’s voyage round the world. London: Harper Collins, 1999. О цинге см.: McBride W. British Treatment of Scurvy // Journal of the History of Medicine and Allied Sciences. 1991. Vol. 46. Issue 2. P. 159; Lincoln M. Representing the Royal Navy: British Sea Power, 1750–1815. Aldershot: Ashgate, 2002. P. 162–163.
182
Charters E. The Western Squadron, Medical Trials, and the Sick and Hurt Board during the Seven Years War // Health and Medicine at Sea, 1700–1900 / ed. by David Boyd Haycock and Sally Archer. Woodbridge: Boydell Press, 2009. Р. 22.
183
Zuckerman A. Scurvy and the Ventilation of Ships in the Royal Navy: Samuel Sutton’s Contribution // Eighteenth-Century Studies. 1976/1977. Vol. 10. No. 2. P. 222–234. Примечательно, что в своих предложениях, направленных в Адмиралтейств-коллегию и императрице летом 1769 г., Элфинстон упоминает о необходимости сооружения как на госпитальных судах, так и на линейных кораблях воздуховодов и вентиляции.
184
Charters E. The Western Squadron, Medical Trials, and the Sick and Hurt Board during the Seven Years War. P. 23.
185
McBride W. M. «Normal» Medical Science and British Treatment of the Sea Scurvy, 1753–75 // Journal of the History of Medicine and Allied Sciences. 1991. Vol. 46. No. 2. P. 158–177. Роджер Бартлет подчеркивает, что Линд собирал научную литературу о цинге по всей Европе, и в том числе получал данные из России, где болезнь была описана армейскими лекарями. См.: Bartlett R. Britain, Russia, and Scurvy in the Eighteenth Century // Oxford Slavonic Papers. 1996. Vol. 29. P. 25–30.
186
McBride W. M. «Normal» Medical Science and British Treatment of the Sea Scurvy.
187
О таких опытах см.: Charters E. The Western Squadron, Medical Trials, and the Sick and Hurt Board during the Seven Years War.
188
Lincoln M. Representing the Royal Navy: British Sea Power, 1750–1815. P. 163.
189
О практической медицине см.: Cook H. J. Practical Medicine and the British Armed Forces after the «Glorious Revolution» // Medical History. 1990. Vol. 34. No. 1. P. 1–26; Rodger N. A. M. Medicine and Science in the British Navy of the Eighteenth Century // L’ Home, La Santé et La Mer: Actes Du Colloque International Tenu à l’Institut Catholique de Paris Les 5 et 6 Décembre 1995 / ed. by Christian Buchet. Paris: Honoré Champion Éditeur, 1997. P. 333–344; об околонаучной литературе см.: Lincoln M. Representing the Royal Navy: British Sea Power, 1750–1815. P. 164–167.
190
Россия в Средиземноморье. С. 633.
191
Михайлов С. С. Медицинская служба Русского флота в XVIII веке [Текст]: Материалы к истории отечеств. медицины. Л.: Медгиз. Ленингр. отд-ние, 1957. С. 17–18.
192
Rodger N. A. M. Medicine and Science in the British Navy. P. 336–337. По России см.: Костюк А. В. Лечебно-профилактическое обеспечение морских служителей российского флота в XVIII в.: военно-медицинские госпитали // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2009. Серия 2: История. № 1. С. 59–64.
193
Костюк А. В. Лечебно-профилактическое обеспечение морских служителей российского флота в XVIII в. С. 60. См. также замечательную диссертацию Рэйчел Королофф, особенно главу об аптекарских огородах и травниках, которые культивировались специально для аптекарского ведомства. Koroloff R. Seeds of exchange: collecting for Russia’s apothecary and botanical gardens in the seventeenth and eighteenth centuries. Ph. D. diss. University of Illinois at Urbana-Champaign, 2014. P. 16–65.
194
Аптека для российскаго флота, или Роспись всем нужным лекарствам, коих по рангу корабля, для шести месяцов вояжа в корабельном ящике иметь должно, / Разсмотрена и аппробована Государственною Медицинскою коллегиею; Ящик изобретен и роспись сочинена надворным советником и флота доктором Андреем Бахерахтом. СПб.: [Тип. Акад. наук], 1783. Об этом см.: Bartlett R. Britain, Russia, and Scurvy in the Eighteenth Century. P. 30–34.
195
Россия в Средиземноморье. С. 579.
196
В частности, брата своей первой жены князя Ю. В. Долгорукова, находившегося при графе А. Г. Орлове.
197
15 сентября 1770 г. в Петропавловском соборе по случаю Чесменской победы Платон Левшин, отслужив молебен в честь победы, обратился к могиле Петра I: «Петр Великий воскрес, воскрес в Великой Преемнице своей Екатерине Второй <…> Дела, коими ныне Отечество наше прославляется, можно сказать, что или воскресший Петр, или паче вселившаяся в Екатерину Петрова душа, производит» (см.: Россия в Средиземноморье. С. 436).
198
В бумагах Адмиралтейств-коллегии этого периода не обнаружены подтверждения тому, что призовые комиссии следовали этому приказу, к большому огорчению для Элфинстона.
199
The London Gazette. 1776. No. 11696 (August 27 – August 31). P. 3.
200
Downer M. The Queen’s Knight. The extraordinary life of Queen Victoria’s most trusted confident. London: Corgi, 2008. P. 28.
201
JEP. Box 1. Folder 5.
202
Об этом см.: Leikin J. Prize law, maritime neutrality, and the law of nations in imperial Russia, 1768–1856. Ph.D. diss. University College London, 2016. P. 135–148 (этот вопрос будет подробнее рассмотрен в первой главе готовящейся к выходу монографии Ю. Лейкин).